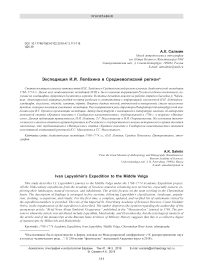Экспедиция И.И. Лепёхина в Средневолжский регион
Автор: Салмин А.К.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 3 т.47, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу путешествия И.И. Лепёхина в Средневолжский регион в рамках Академической экспедиции 1768-1774 гг. Целью всех академических экспедиций XVIII в. было освоение территорий России (особенно восточных), изучение их ландшафта, природных богатств и народов. В статье делается акцент на работе отряда в бассейне р. Черемшан. Анализируемый материал разбит по пяти разделам в соответствии с информацией, изложенной И.И. Лепёхиным: ландшафт, население, одежда, занятия, обряды. Впервые дается полный, уточненный и выверенный, список населенных пунктов, которые посетили участники экспедиции. Рассматривается роль директора Императорской петербургской академии наук В.Г. Орлова в организации экспедиции. Автор дискутирует с имеющимся в литературе мнением об авторстве анонимной статьи «Краткое известие о Симбирском наместничестве», опубликованной в 1786 г. в журнале «Месяцослов». Данная публикация приписывалась И.И. Лепёхину, Т.Г. Масленицкому и Н.Я. Озерецковскому На основании текстологического анализа статьи и архивной рукописи из Российского государственного военно-исторического архива делается заключение, что опубликованная в «Месяцослове» статья «Краткое известие о Симбирском наместничестве» является коллективной компиляцией рукописей К.С. Мильковича и Т.Г. Масленицкого.
Академическая экспедиция 1768-1774 гг, и.и. лепёхин, среднее поволжье, причеремшанье, этнография
Короткий адрес: https://sciup.org/145145945
IDR: 145145945 | УДК: 39 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.3.111-118
Текст научной статьи Экспедиция И.И. Лепёхина в Средневолжский регион
По большому счету, главной задачей всех академических экспедиций XVIII в. было освоение земель своего государства, описание ландшафта, флоры и фауны, а также изучение заселенно сти территории. Необходимо было занимать пустующие земли, извлекать из них природные богатства, выращивать урожай. Для этого, естественно, нужны рабочие руки. Переселенцы иногда не ограничивались пожалованными землями и по возможности захватывали расположенные рядом свободные участки или земли, принадлежавшие коренному населению. Не церемонились и инородцы. Так, в Симбирском уезде участок при д. Шланге «был самовольно захвачен 18 беглыми из разных уездов Казанской губернии чувашскими крестьянами во главе с Крымкой ‒ сыном Ивашевым. Они уже построили на захваченной земле свои лачуги, распахали пашни, посеяли рожь» [Громова, 2010, с. 47]. В итоге на этом месте возникла чувашская деревня Крымово.
История изучения обозначенной темы нашла отражение в нескольких публикациях. Однако ни одна из них не имеет прямого отношения к анализу средневолжских материалов, зафиксированных отрядом под руководством И.И. Лепёхина. Например, в книге Н.Г. Фрадкина дается общий обзор жизни и творчества ученого [1953]. Т.А. Лукина свою работу посвятила в основном изучению И.И. Лепёхиным Сибири. Что касается этнографии народов Поволжья, то она дает лишь беглый обзор [Лукина, 1965]. Л.Д. Бондарь анализирует уральский этап экспедиции [2018].
Пункты обследования
Укажем населенные пункты Среднего Поволжья, обследованные отрядом И.И. Лепёхина с 25 августа 1768 г. по 20 мая 1769 г. (в рамках современных административно-территориальных образований, в скобках указаны современные названия)*:
Оренбургская обл.
Северный р-н д. Татарский Бакай (с. Бакаево)
-
с. Сок-Кармала (с. Северное)
Пензенская обл.
Лопатинский р-н д. Генаралщино (с. Генеральщино)
Республика Татарстан
Алексеевский р-н с. Чувашский Биляр (городище Биляр)
д. Татарский Биляр (с. Билярск)
Бугульминский р-н пригород Бугульма (г. Бугульма)
Карабаш (пгт Карабаш)
с. Спаское (с. Спасское)
татарская деревня Дымская (с. Татарская Дымская)
Лениногорский р-н
Каратай (с. Зай-Каратай)
Куакбаш (с. Куакбаш)
Нурлатский р-н д. Бекулово (д. Бикулово)
с. Биляр (с. Биляр-Озеро)
д. Караульная Гора (д. Караульная Гора)
д. Киклы (с. Бурметьево)
чувашская деревня Якушкина (с. Якушкино)
Спасский р-н городище Булгар (г. Болгар)
Тетюшский р-н пригород Тетюши (г. Тетюши)
Черемшанский р-н
Черемшанская крепость (с. Черемшан)
Самарская обл.
Безенчукский р-н с. Переволка (с. Переволоки)
Камышлинский р-н татарская деревня Байтуган (с. Татарский Бай-туган)
татарская деревня Камышлы (с. Камышла)
Клявлинский р-н мордовская деревня Сосны (с. Новые Сосны)
д. Старый Бетермишь (с. Старый Байтермиш)
Кошкинский р-н д. Мордовская Кармала (с. Старая Кармала)
д. Новая Максимкина (д. Малое Максимкино)
Красноярский р-н
Новый Буян (с. Новый Буян)
д. Раковка (с. Большая Раковка)
д. Старый Буян (с. Старый Буян)
Сергиевский р-н
Орляны (с. Верхняя Орлянка)
пригород Сергиевск (с. Сергиевск)
с. Спаское (с. Спасское)
д. Чорнових (с. Черновка)
д. Якушкино (с. Старое Якушкино)
Ставропольский р-н с. Резань (с. Большая Рязань)
г. Ставрополь (г. Тольятти)
с. Старая Брусяна (с. Брусяны)
д. Чувашское Сюриково (с. Севрюкаево)
Сызранский р-н г. Сисран (г. Сызрань)
Челно-Вершинский р-н с. Седелькино/Сиделькино/Мордовское Седел-кино (с. Сиделькино)
Старая Таяба (пос. Старая Таяба)
Шигонский р-н с. Усолье (с. Усолье)
д. Чувашское Тайдаково (с. Тайдаково) Ульяновская обл.
г. Синбирск (г. Ульяновск)
Мелекесский р-н с. Никольское (с. Никольское-на-Черемшане) мордовская деревня Бирля (с. Бирля) д. Русский Мелекес (с. Русский Мелекес) д. Чувашский Мелекес (г. Димитровград) чувашская деревня Сускан (с. Чувашский Сускан)
Новомалыклинский р-н татарская деревня Абтрейкина (с. Абдреево) с. Бесовка (с. Старая Бесовка)
Малыкла Новая (с. Новая Малыкла) Сентемир (с. Старый Сантимир) д. Чувашская Малыкла (с. Старая Малыкла) д. Чувашская Якушкина (с. Нижняя Якушка) Чувашский Салаван (пгт Новочеремшанск) Тереньгульский р-н чувашская деревня Байдулина (с. Байдулино) Ясашная Ташла (с. Ясашная Ташла) Ульяновский р-н с. Городищи (д. Городище)
с. Ключищи (с. Большие Ключищи) Чердаклинский р-н с. Брендино (с. Бряндино)
с. Матюшкино (с. Старое Матюшкино)
с. Суходол (с. Суходол)
с. Чердаки (пгт Чердаклы)
д. Красный Яр (с. Красный Яр)
чувашская деревня Кармаюр (с. Чувашский Калмаюр)
Ландшафт
Относительно изучаемой территории следует отметить, что в XVIII в. часть чувашей с правобережья Волги переселилась в Причеремшанье, практически на земли, которые занимали их исторические предки сувары по состоянию на конец IX ‒ начало X в. [Сал-мин, 2017, с. 49–50, 57–58]. На свободные земли также переселяли из других районов России. Здесь строились крепости для защиты южных рубежей.
Дневник И.И. Лепёхина примечателен тем, что, записывая свой маршрут, он тут же вставлял заметки о местности, характеризующие ландшафт. Например: «Из Чувашского Мелекеса ехали мы чрез помянутой обширной бор, где в двух верстах находилася Черем- шанская старица, которая ныне составляет болотину, обросшую лесом. Проехав версты с три от старицы, перебралися через Черемшан и выехали на Черемшан-скую луговую сторону. Тут глазам нашим представля-лися обширные и тучные поля по луговым сторонам, а по правую сторону гнездовые перелески, которые все наполнены были дикими розами. Чувашская деревня Якушкина, в 10 верстах находящаяся, служила нам подставою. При оной деревне течет небольшая речка, Аврель (Авраль. – А.С.) называемая. Она вытекает из ключа подле татарской деревни Абтрейкина и впадает в Черемшан» [Лепёхин, 1771, с. 129].
В Причеремшанье путникам часто встречались «гористые и чернолесием изобильные места», озера, реки и болота. В озерах водились караси «отменной величины и вкуса». Путешественники ехали по 10– 15 верст «все степными местами», а также «по большой части небольшими перелесками». « В полутора версте от Байдулина находился хребет низменных гор, простирающихся полосою в окружности верст на де сять. <…> На горе… изобильно росли кокуш-кины башмачки (Cypripedium calceolus)… и большой ландыш (Hemerocallis Liliaftrum). <…> Молочай пашенной (Euphorbia fegetalis) и Сибирской волосистой молочай (Euphorbia pilosa) на низменных ме стах» [Там же, с. 317–320]. Или: «Дорога была весьма гладкая степная и вся испахана» [Дневник…, 1768–1772, л. 50]. На берегу Черемшана исследователи нашли множество кустовых роз и дикого хмеля. А в другой местности они «ничего найти не могли, кроме великого числа хмелю» [Там же, л. 51 об.].
Таким образом, мы имеем первое достоверное описание ландшафта причеремшанских территорий, а также флоры и фауны современных Ульяновской и Самарской областей, Республики Татарстан по состоянию на вторую половину XVIII в. Как справедливо отмечают исследователи, многие представители флоры и фауны названных мест ныне либо совсем исчезли, либо находятся на грани вымирания. «К таким представителям животного мира можно отнести выхухоль» [Гуркин, 2011, с. 191]. Согласно И.И. Лепёхину, почти все пойменные озера около Симбирска изобиловали выхухолью. К исчезнувшим видам также следует отнести белугу, осетра, стерлядь, севрюгу.
Население
Одновременно со строительством в 1648 г. Симбирской засечной черты шло заселение региона. До этого времени русских деревень здесь почти не было. Даже селения первоначальных обитателей (чувашей, мордвы и татар) были несплошные. Изредка попадались «сторожки» ‒ «наблюдательные пункты за движением неприятеля, а внутри края, на необъятные простран- ства, расстилались “дикие поля” и “порозжие земли”» [Мартынов, 1904, с. 7].
Называя пункт пребывания, И.И. Лепёхин указывает и этническую принадлежность населения. Приведем лишь некоторые выдержки из его записок, характеризующие этнический состав жителей При-черемшанья: «к вечеру приехали в Чувашскую деревню Мелекес»; «от Руского Мелекеса только 10 верст до Чувашского Мелекеса»; «между Руским и Чувашским Мелекесом находится обширный и густой бор»; «Чувашская деревня Якушкина»; «речка… вытекает из ключа подле Татарской деревни Абтрейкина»; «от деревни Якушкиной ехали мы до Чувашской деревни Малыклы новой».
Одежда
И.И. Лепёхин отмечал, что чуваши, мордва и татары носят такие же рубахи, как и русские крестьяне. Но у чувашей и мордвы они вышиты около ворота и по оплечьям разноцветной шерстью. Чуваши носят только белые вышитые рубашки, а татары в праздничные дни надевают суконные кафтаны и бешметы разных цветов [Лепёхин, 1771, с. 159, 162]. Что касается обуви, то все они носят лапти, но на случай имеют сапоги [Дневник…, 1768–1772, л. 63 об.; Лепёхин, 1771, с. 226].
Одно из самых драгоценных украшений чувашской женщины – головной убор хушпу , который надевают на сурпан (головное покрывало) и подвязывают под подбородком ремешком. Сзади пришит хӳре – «хвост» из холста. Он опускается почти до подколенок, постепенно суживаясь к концу. Хӳре продевается под пояс, под верхней одеждой его не видно [Лепёхин, 1771, с. 159; Паллас, 1773, с. 136].
Основной ценностью хушпу являются старинные серебряные копейки и рубли. Вся поверхность покрыта нашитыми монетами в виде рыбьей чешуи, вверху – мелкие, ниже – покрупнее, в самом нижнем ряду уже двугривенные. Есть упоминания о семи рядах монет или нухратов (имитации серебряных монет). На лбу висят три серебряные монеты (в середине крупная, по сторонам поменьше). Кроме того, хушпу украшен множеством оловянных блестков и бисером в несколько рядов, а также обвешан бусами и бусовидными пластинами овальной формы. По всей окружно сти пришиты свободно свисающие связки монет. Хӳре на конце вышит разноцветной шерстью и завершается цветными шнурками; унизан бисером и ужовками. В целом этот головной убор довольно увесистый. Праздничную дугу к упряжи лошади сравнивают с хушпу богатой невесты, учитывая его обильное украшение [Лепёхин, 1771, с. 159; Паллас, 1773, с. 136; Ашмарин, 1941, с. 277].
Татарки Причеремшанья также носили кашпау : «У иных кашпау сходится вверху остроконечием, наподобие конуса, и верх конуса покрывается маленьким серебряным литым конусом. У других, напротив того, кашпау бывает без тульи, в таком случае верх головы повязывают платком. Около висков прикрепляется к кашпау подвязка, таким же образом унизанная, которая под шею застегивается пуговицею и называется кашпау сакал » [Лепёхин, 1771, с. 160]. И.И. Лепёхин считал, что кашпау был заимствован чувашками у татар. Это требует уточнения: головные уборы с остроконечным серебряным конусом в верхней части носили не вообще все татарки и чувашки, а только девушки, и называется такой убор не хушпу / кашпау , а тухъя / такъя .
И.И. Лепёхин также подметил, что головной убор вогулок «несколько к чувашскому подходит, и состоит из толстого белого кропивнаго балахона; голову повязывают платками, а зимою носят с верху малахай, девки заплетают и ходят, повязавши повязкою, унизанною разноцветным бисером» [1814, с. 28–29].
По наблюдениям путешественника, жители исследованных поселений не пользуются мылом, а обходятся золою. Белье они сперва мочат дней пять-шесть в корыте, пересыпав золой. Затем стирают, добавляя теплую воду по мере надобности. Каждую вещь трут золой. Потом идут на реку полоскать [Лепёхин, 1771, с. 151–152].
Занятия
Плодородие причеремшанских земель отмечалось еще в средневековых источниках. У жителей г. Сувар в Волжской Булгарии было много посевной площади, а хлеба ‒ в изобилии [Ал-Мукаддаси, 1994, с. 289]. В XI‒XII вв. в Причеремшанье основными сельскохозяйственными культурами являлись просо и овес [Газимзянов, Набиуллин, 2011, с. 22].
В X в. население пользовалось развитыми земледельческими орудиями. Переход к плужной обработке земли потребовал большого количества железных изделий (сошников, плужных ножей, топоров). А это содействовало еще большему развитию металлургии. Деревянный плуг примитивной конструкции с металлическими режущими частями сабан, использовавшийся чувашами до середины XX в., восходит к культуре обработки земли X в. Его металлические части (лемех – тĕрен , резец – шăрт ) можно увидеть в музеях. Должно быть, такой тип орудия сложился на средней Волге, т.к. он приспособлен для тяжелых почв. Скорее всего, сабан бытовал в регионе еще до прихода булгар и суваров [Смирнов, 1951, с. 17, 84–85].
В XVIII в. здесь больше всего сеяли рожь, овес и полбу. Лен и коноплю выращивали только для соб- ственных нужд. Гречка не пользовалась успехом [Лепёхин, 1771, с. 144]. Около д. Якушкино целые поля были покрыты арбузами и дынями, которые, по рассказам жителей, давали неплохой урожай. Как следует из отчета экспедиции, пашней занимались чуваши, а бахчевыми и табаком – кызылбаши [Там же, с. 121, 131]. «Они все упражняются в хлебопашестве, но с тем только различием, что мордва больше сеют других. Близко к ним подходят чуваши, за чувашами следуют татара, а казылбаши почти совсем ничего не сеют; но живут скотоводством, и нанимаются в пастухи. Женский пол как у мордвы, так и у чуваш весьма рабоч, и не только способствует своим мужьям, но и сами пашут; косят сено и возят, и почти всякую работу, какую и их мужья, отправляют» [Там же, с. 41].
Пастухов местное население начало нанимать с того времени, как калмыки поселились около р. Кон-дурча. До этого скотина паслась на воле. Дόма для скота делали загородки, называемые карта. Летом скот по большей части находился за околицей. «Скот свой поутру, как хотят доить коров, кормят полбяною или яровою сечкою, то есть соломою, которую иссекши мелко, и подмешав муки, обдают кипятком, а особливо зимним временем. Напоив в обед, дают им и сено, а под вечер паки солому. Равным образом кормят они и овец соломою: но сие происходит не от недостатка в сене, но от того, что по их приметам овцы, которые на одном содержатся сене, часто паршивеют, худую дают шерсть, и не так тучнеют» [Там же, с. 149]. Овец крестьяне стригут два раза в год ‒ весною, когда их пускают в стадо, и осенью. Затем шерсть прядут.
Кузнецы в этих местах бывали заезжие из ближайших мест русские, а из чувашей и мордвы члены экспедиции ни одного не видели [Там же, с. 153]. Объясняется это тем, что инородцам, согласно царскому указу, было запрещено заниматься кузнечным делом с Петровских времен. Власти боялись, что чуваши, черемисы и вотяки станут изготовлять оружие. Сельчанам приходилось даже сельхозорудия типа топоров, кос, серпов и ножей покупать в Казани на торгах [Полное собрание…, с. 286–287]. И вообще ремеслом здешние жители занимались совсем мало. Многие чуваши работали на ближайших казенных винокуренных заводах и жаловались на эксплуататорское отношение к ним [Дневник…, 1768–1772, л. 50 об., 54].
Характеризуя колонии немцев, И.И. Лепёхин отмечал их рачение. На огородах они выращивали всякую зелень. Пахали плугом [Лепёхин, 1771, с. 382].
В 60-х гг. XVIII в. у поволжских ясачных людей собирали ясачные деньги. Здешние мордва, чуваши и татары платили многочисленные виды налога: за сбор меда, ловлю рыб и бобров, с сенных покосов, за пашни, хмелевые угодья, за выращенный хлеб, подымный налог [Зерцалов, 1896, с. 49–90]. Все эти поборы ставили крестьян в невыносимые условия.
Обряды
Особенно много ценных сведений зафиксировал И.И. Лепёхин о предводителях религиозно-обрядовых действий. Согласно его записям, достаточно высокую позицию в семейно-родовой обрядности занимают старики. Действительно, под понятием ватă каждый имеет в виду в первую очередь самого старого члена семьи или рода. Оно отвечает представлению о глубоком, умудренном опытом старике. На родовые сборы являются только самые старшие. Глава дома просит вести ритуал от его имени старейшего из присутствующих. Примечательным сбором родни является весенний родовой праздник мункун . Уже за день до него старики ходят по домам своих кровных родственников и устраивают застолья. Помолившись в околодверном пространстве, они сажают самого старого в роду на скамейку в передний угол и вручают ему кружку пива. Тот оформляет основной атрибут стола: вокруг чашки с кашей располагает ложки, а сверху кладет целый каравай [Лепёхин, 1771, с. 167; Ашмарин, 1895–1943, с. 164].
Как видим, старики руководят обрядовыми действиями и молениями от имени семьи, рода и деревни. Некоторые из них знатоки магии. Так, рассказывая о ритуальных действиях, совершаемых с целью тушения пожара, информанты подчеркивают, что такой магией владеют старухи (ПМА*, 1989 г., с. Михайловка Курманаевского р-на, информанты П.И. Степанова 1918 г.р. и Е.В. Степанова 1916 г.р.). Седобородые старики могли заниматься знахарством. При родах иные старухи поступают совершенно так же, как и повитухи. Знахарь и человек старшего возраста у чувашей порой выполняют сходные функции. На коллективных жертвоприношениях, например, право вести ритуал предоставляется знахарю или знающему старику [Лепёхин, 1771, с. 164].
Принимать роды – основное занятие повитухи. В любой чувашской деревне раньше были повивальные бабки. Они при родах исполняли роль акушерки, особенно в тяжелых случаях. Явившейся по приглашению бабке с роженицей отводилась «особая изба, а за неимением такой – теплая баня» [Никольский, 1903–1910, с. 82]. Принимая ребенка на руки, повитуха зубами перегрызала пуповину. Она же готовила жертвенную пищу сразу же после родов. У мордвы также бабушка, омыв ребенка, не сразу впускала в избу родственников. Сначала она готовила крутую кашу и пекла блины, накрывала на стол [Лепёхин, 1771, с. 169].
Как известно, наречение имени происходит или при родах, или во время специального обряда с при- глашением родственников. В первом случае бабка перегрызает пуповину и, плюнув в сторону новорожденного, произносит: «Пусть носит такое имя» [Ашмарин, 1841–1903, с. 611]. У мордвы принимающая роды «бабушка, по принятому обыкновению, начинает молиться и дает имя младенцу по своему хотению; а иногда младенец получает имя от того, кто первый бабушке попадется» [Лепёхин, 1771, с. 169]. К ней же в основном обращались за советом и при наречении на сборе родных.
Вознамерившись женить своего сына, отец посылал к отцу невесты кого-либо из посторонних за ответом на вопрос: «Намерен ли он отдать свою дочь за его сына?» Получив согласие, родители встречались и договаривались о калыме. Весь смысл свадебной церемонии состоял в том, что отец невесты, взяв свою дочь за руку, а мать – хлеб и соль, вручают ее родителям жениха [Там же, с. 171]. Согласно записям И.И. Лепёхина, чуваш мог иметь до трех жен, если он способен их содержать. Бытовало у них и умыкание. Когда невесту выводили из дома родителей, она как бы сопротивлялась, но ее выносили на руках [Там же, с. 174–176].
Видимо, исследователям не очень легко давалась информация о местных обрядах и обычаях. Так, 17 мая 1769 г. И.И. Лепёхин записал в своем дневнике: «Выехав из села Ключищей продолжали наш путь чрез 15 верст на чувашскую деревню Тайдакова, где несколько промедлили, расспрашивая чуваш об их обрядах; однако ничего отменного против объявленных при Черемшане обыкновений не нашед, поспешали в село Усолье, отстоящее от Тайдакова в 10 верстах» [Там же, с. 320]. Народ берег свою сакральную жизнь от чужих глаз.
Роль В.Г. Орлова в организации экспедиции
Как отмечал внук графа В.Г. Орлова, его дед, «принадлежа, по своему рождению и воспитанию, к высшему общественному и придворному кругу… имел, однако, более влечения к жизни деревенской и к сельской среде; западная цивилизация сливалась в нем с величием национальных чувств» [Орлов-Давыдов, 1908, с. 301]. Екатерина II во время путешествия по Волге в 1767 г., за год до И.И. Лепёхина, значительное внимание уделила Орловым и их имениям, в которых она останавливалась. В Симбирской губернии императрица посетила старшего из братьев Орловых Ивана Григорьевича. «Так как владелец не успел еще выстроить для себя приличного помещения, то для приема Государыни были построены им две русские избы, соединенные между собою галереей и украшенные гербами и разными эмблемами. Императрица прожила в этом сельском приюте два дня… Жалуя помещика, Императрица не забыла принадлежащих ему крестьян, составлявших Головкинскую волость, освободив их на три года от платежа податей» [Сборник…, 1868, с. 146]. В с. Усолье Иван Григорьевич держал винокуренный завод [Краткое известие…, 1786, с. 70]. Будучи в имении Г.Г. Орлова, императрица написала своему канцлеру Н.И. Панину восторженное письмо: «Сия деревня в шести верстах от пригородка Ма-инск… а мы вчерась его луга потоптали. Хлеб всякого рода так здесь хорош, как еще не видали; по лесам же везде вишни и розаны дикие, а леса иного нет, как дуб и липа, земля такая черная, как в других местах в садах на грядах не видят; одним словом, сии люди Богом избалованы. Я от роду таких рыб вкусом не едала, как здесь, и все в изобилии, что себе представить можешь, и я не знаю, в чем бы они имели нужду; все есть, и все дешево» [Орлов-Давыдов, 1908, с. 328].
Об удивительно прекрасной природе Среднего Поволжья и о влюбленности в нее Владимира Григорьевича писал и его внук. По словам В.П. Орлова-Давыдова, граф не только заботился о хозяйственном устройстве усольского имения, он им наслаждался и гордился. А население округи было предметом постоянной заботы Владимира Григорьевича. Будучи директором Академии наук, В.Г. Орлов поручил ученым исследовать Усольскую местность с научной точки зрения [Там же, с. 349–350].
Из экспедиции П.С. Паллас и И.И. Лепёхин слали свои рапорты в Академию наук. Как известно, пути их следования часто совпадали, и они вынужденно оказывались в одних и тех же пунктах. В связи с этим иногда возникали недоразумения по поводу приоритета в открытиях. В таких случаях В.Г. Орлов советовал обоим руководителям отрядов разрешить конфликт миролюбиво и желал дальнейших успехов в полезных открытиях [Там же, с. 390].
Об авторстве анонимной статьи о Симбирском наместничестве
В 1786 г. в ежегодном издании «Месяцослов исторический и географический» были опубликованы три статьи, имеющие отношение к обсуждаемой теме: «Описание городов Нижегородского наместничества», «Краткое известие о Симбирском наместничестве» и «Расстояние городов, сел и деревень, где наибольше перемена подвод бывает, по дороге от Симбирска до Кизляра». По содержанию нас больше интересует публикация о Симбирском наместничестве, образованном в декабре 1780 г. В статье кратко излагается его структура, говорится об основных предприятиях, дающих стране экономическую выгоду. Имеются ценные сведения о народах, населяю- щих Средневолжский край. «В губернии сей жительствуют россияне, татара, мордва, чуваши, калмыки и персияне, которых по ревизским скаскам числилось в 1782 году 304 854 души; в том числе купцов 323; мещан и цеховых 5 609; калмыков 3 304; персиан 320; поселенных солдат 3 062; государственных крестьян, однодворцев, пахотных солдат и прежних служеб служилых людей 136 890; помещичьих крестьян 155 154 души» [Краткое известие…, 1786, с. 70–71]. В конце статьи дается описание городских гербов Симбирского наместничества. Например, на гербе г. Буинска изображена серебряная овца на зеленом поле, что обозначает изобилие здесь этого вида скота.
По мнению Т.А. Лукиной, «Краткое изве стие о Симбирском наместничестве» принадлежит И.И. Лепёхину. Она в этой связи писала: «Лепёхин посетил эти места в 1768 г., поэтому он очень живо, по личным воспоминаниям, описал и реки нового наместничества, и большой черный лес на берегах Суры, и виденные им фабрики и заводы. Многие из этих материалов были использованы в “Дневных записках”. Ново по сравнению с “Записками” подробное описание гербов, принадлежащих Симбирску, Сенгилею и другим городам, входящим в наместничество» [Лукина, 1965, с. 111–112]. Все это так. Но по поводу данной статьи имеются и другие точки зрения. Так, в каталоге книг XVIII в. в качестве автора в квадратных скобках указан Н.Я. Озерецковский, который являлся составителем «Месяцослова» [Сводный каталог…, 1966, с. 220]. Библиографическим редактором каталога был А.С. Мыльников, работавший тогда в Публичной библиотеке.
Дискуссионность вопроса об авторстве статьи подогревается еще и рядом обстоятельств. Ко времени ее публикации в «Месяцослове» существовали рукописи с аналогичным содержанием: «Топографическое описание городов губернии Симбирской. Сочиненное надворным советником Масленицким. 1783 года» (РГВИА. Ф. ВУА. Д. 19024); «Топографическое описание Симбирского наместничества вообще, сочиненное из доставленных сведений от комендантов, городничих и нижних земских судов с дополнением исторических известий против запросных пунктов от кабинета Ея Императорского Величества 1785-го года» (Там же, д. 19025); «Топографическое описание губернии Симбирской. Вообще и порознь городов и уездов и обитающих в ней иноязычных народов по запросным пунктам от Кабинета ее императорского величества 1784 года. Сочиненное из доставленных сведениев о городах от городовых магистратов обще с комендантами и городничими, об уездах от нижних заемских судов и от разных присутственных мест с приобщением историческим касательного до страны здешней, надворным советником Тимофеем Масленицким 1785 года» (Там же, д. 19026). Все эти рукописи представляют солидные исследования, не потерявшие свою актуально сть и на сегодняшний день. Солидны они и по объему. Например, дело № 19026 занимает 450 полноформатных листов. Материалы собирались по поручению Екатерины II, правившей Россией в 1762–1796 гг. На рукописи имеется пометка другим подчерком: «Получено февраля 12 дня 1786 года». Конечно, это дата получения рукописи заказчиком ‒ Кабинетом императрицы. То есть в феврале 1786 г. рукопись о Симбирском наместничестве поступила в Петербург. О том, что «рукопись Масле-ницкого» послужила основой для анонимной статьи «Краткое известие о Симбирском наместничестве», свидетельствует совпадение их содержаний и очередности перечисления городов Симбирской губернии. В свою очередь, Т.Г. Масленицкий в представленную императрице рукопись включил очерк К.С. Милькови-ча «О чувашах», который занимает листы с 233 по 308.
Как видим, в 1786 г. и И.И. Лепёхину, и Н.Я. Озе-рецковскому, и другим петербургским исследователям были доступны рукописи о Симбирском наместничестве. Все основные сведения, приведенные в анонимной статье «Краткое известие о Симбирском наместничестве», содержались в трудах К.С. Мильковича и Т.Г. Масленицкого. Можно утверждать, что данная статья составлена по этим работам. Тем не менее у нас пока нет твердых оснований отдавать предпочтение в вопросе об авторстве статьи «Краткое известие о Симбирском наместничестве», опубликованной анонимно в «Месяцослове» в 1786 г., ни К.С. Миль-ковичу, ни Т.Г. Масленицкому, ни И.И. Лепёхину, ни Н.Я. Озерецковскому. Мы имеем дело с коллективной компиляцией.
Выводы
Как видим, И.И. Лепёхин, наряду с П.С. Палласом, одним из первых дал академическое описание Средневолжского региона в целом. Например, он зафиксировал ландшафтные особенности местности: боры, леса, болота, луга, тучные поля, множество кустарниковых роз и дикого хмеля, р. Большой Черемшан, небольшие речки, озера. В водоемах тогда водились исчезнувшие теперь выхухоль, белуга, осетр, стерлядь и севрюга.
И.И. Лепёхин в большинстве случаев фиксировал этническую принадлежность населенных пунктов. Здесь жили чуваши, татары, кызылбаши, мордва, русские. Исследователь обращал внимание на одежду местных жителей. Он отметил, что мордва, чуваши и татары носят такие же рубахи, как и русские крестьяне, и ходят в лаптях. Он также описал женские головные уборы тухъя/такъя, хушпу/кашпау, сурпан .
Причеремшанские черноземы издревле были плодородными. В XVIII в. здесь сеяли в основном рожь, овес и полбу, выращивали арбузы, дыни и табак. Женщины работали наравне с мужчинами. Правительство запрещало инородцам заниматься кузнечным делом, т.к. боялось, что народ будет изготавливать оружие. Поэтому сельскохозяйственные принадлеж-но сти люди покупали в Казани. Многие работали на местных винокуренных заводах. И.И. Лепёхин отметил рачение немцев, поселившихся небольшими колониями. Бесчисленные налоги ставили народ в кабальные условия.
Особенно ценными в записях И.И. Лепёхина следует назвать сведения о предводителях религиознообрядовых действий: о стариках, повитухах, знахарях. Не меньшую научную значимость имеют описания молений у чувашей и мордвы, например, на киреме-тищах (местах общественных жертвоприношений).
Итоги Средневолжской экспедиции отряда И.И. Лепёхина отражены в его «Дневных записках», изданных в 1771 г. Привезенные вещи в Кунсткамере приводились в порядок, их систематизировали, снабжали этикетками.
Список литературы Экспедиция И.И. Лепёхина в Средневолжский регион
- Ал-Мукаддаси. Лучшее разделение для познания климатов / пер. с араб., введ., коммент., указ., карта, таблица Н.И. Серикова // Восточное историческое источниковедение и специальные исторические дисциплины. – М.: Наука, 1994. – Вып. 2. – С. 268–334.
- Ашмарин Н.И. Археология, этнография, фольклор. 1895–1943 гг. // Архив Чуваш. гос. ин-та гуманитарных наук. № 21. 611 с.
- Ашмарин Н.И. Этнография, фольклор. 1841–1903 гг. // Архив Чуваш. гос. ин-та гуманитарных наук. № 6. 652 с.
- Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. – Чебоксары: Чувашгосиздат, 1941. – Вып. ХVI. – 376 c.
- Бондарь Л.Д. Экспедиция И.И. Лепёхина. 1768–1771 гг. // Актуальное прошлое: взаимодействие и баланс интересов Академии наук и Российского государства в XVIII – начале ХХ в.: Очерки истории. – СПб.: Реноме, 2018. – Кн. 2. ‒ С. 1024–1032.
- Газимзянов И.Р., Набиуллин Н.Г. Антропология населения Джукетау (по материалам Донауровского некрополя) // Учен. зап. Казан. ун-та. – 2011. – Т. 153. – Кн. 3: Гуманитарные науки. – С. 21–28.
- Громова Т.А. Историческая хроника нотариата Симбиской губернии ‒ Ульяновской области. ‒ М.: Фонд развития правовой культуры, 2010. ‒ 288 с.
- Гуркин В.А. Исследования Среднего Поволжья современниками Карла Линнея // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. – 2011. – Т. 20, № 2. – С. 182–197.
- Дневник Ив. Ив. Лепёхина с записью его наблюдений по экспедиции 1768–1772 гг. // СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 30. Д. 4. 175 л.
- Зерцалов А.Н. Материалы для истории Синбирска и его уезда: (Приходо-расходная книга Синбирской Приказной избы). 1665–1667 гг. ‒ Симбирск: [Типо-лит. А.Т. Токарева], 1896. ‒ VI, 275, IV с.
- Краткое известие о Симбирском наместничестве // Месяцослов исторический и географический на 1787 год. ‒ СПб.: Имп. Акад. наук, [1786]. – С. 64–74.
- Лепёхин И. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 году. – СПб.: Имп. Акад. наук, 1771. – IV, 538 с., 23 табл.
- Лепёхин И. Продолжение дневных записок путешествия по разным провинциям Российского государства в 1771 году. – СПб.: Имп. Акад. наук, 1814. – Ч. 3. – IV, 376, 28 с.
- Лукина Т.А. Иван Иванович Лепёхин. ‒ М.; Л.: Наука, 1965. ‒ 208 с.
- Мартынов П. Селения Симбирского уезда 1903 г. ‒ Симбирск: [Типо-лит. А.Т. Токарева], 1904. – 198, 67, VIII с.
- Никольский Н.В. Этнография. 1903–1910 гг. // Архив Чуваш. гос. ин-та гуманитарных наук. № 167. 474 с.
- Орлов-Давыдов В.П. Биографический очерк графа В.Г. Орлова // Рус. архив. – 1908. – Вып. 7. – С. 301–395.
- Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. – СПб.: Имп. Акад. наук, 1773. – Ч. 1. – X, 115, 657 с., 117 ил.
- Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. ‒ [СПб.: Тип. Его Имп. Величества Канцелярии], 1830. – Т. III: 1689–1699. – I, 690 с.
- Приходо-расходная книга, выданная И.И. Лепёхину Комиссией АН. 1768–1772 гг. // СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 30. Д. 10. 62 л.
- Салмин А.К. История чувашского народа: анализ основных версий. – СПб.: Нестор-История, 2017. – 464 с.
- Сборник исторических и статистических материалов о Симбирской губернии. ‒ Симбирск: Симбир. губ. правление, 1868. ‒ 281, 41, IV с.
- Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–1800. – М.: Книга, 1966. ‒ Т. IV: Периодические и продолжающиеся издания. ‒ 289 с.
- Смирнов А.П. Волжские булгары. – М.: ГИМ, 1951. – 375 с., 18 табл., карта.
- Фрадкин Н.Г. Академик И.И. Лепёхин и его путешествия по России в 1768–1773 гг. ‒ М.: Географгиз, 1953. – 224 с.