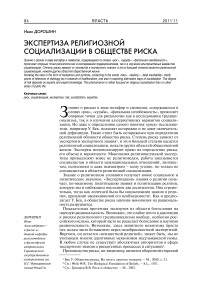Экспертиза религиозной социализации в обществе риска
Автор: Дорошин Иван Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 11, 2011 года.
Бесплатный доступ
Знание о рисках в виде метафор и символов, содержащееся в словах «рок», «судьба», «фатальная неизбежность», проясняет опорные точки рискологии как в исследовании традиционализма, так и в изучении альтернативных вариантов социализации. Степень риска зависит от экспертов и экспертного знания, и это в большей степени касается религиозной социализации, нежели других областей общественной жизни.
Риск, социализация, экспертиза
Короткий адрес: https://sciup.org/170165653
IDR: 170165653
Текст научной статьи Экспертиза религиозной социализации в обществе риска
Знание о религиозном сознании получает новое социальное и политическое значение. «Экспертизация» знания о религии означает, по-видимому, политизацию знания и политизацию религии, которую мы и наблюдаем последние два десятилетия. Она стремительна, тогда как логичней была бы социализация знания о религии, признаниt эволюционной его необходимости2. Как и предполагает У. Бек, в обществе риска научная монополия на рациональность разрушается.
ДОРОШИН Иван
Показательна претензия экспертов из области богословия на научную рациональность. Возможно, это слабое место в адаптации к рискам религиозного традиционализма вообще, особенно российского ислама, который часто не разделяет богословие и научную рациональность. Возможно, здесь защитного механизма просто нет, ислам часто беззащитен перед недобросовестной экспертизой. Впрочем, он остается «неизвестной религией», может быть, мы не учитываем многих адаптивных механизмов мусульманской уммы. В любом случае не существует абсолютных авторитетов в сфере экспертного знания о рискогенных процессах и ситуациях3.
Производство риска, по-видимому, является оборотной стороной ослабления традиционных религиозных механизмов «социализации опасности». Риск может быть определен как систематическое взаимодействие общества с угрозами модернизации. Риски, в отличие от опасностей прошлых эпох, являются следствием угрожающей силы модернизации и порождаемого ею страха1. «Общество риска» – это общество, производящее технологические и социальные риски. Производство рисков возникает во всех сферах жизнедеятельности общества – экономической, политической, социальной2. Сфера религии – это до сих пор солидный пробел в рискологии.
Развитые формы институционализации мыслимы лишь в том случае, если результаты селекции управляемых коммуникативными кодами процессов являются социально прозрачными3. Экспертиза как первый этап управленческих действий, видимо, и является возможным показателем развитости форм институционализации, поскольку экспертное действие по сути – самый прозрачный и рациональный этап. Чтобы предположить, что другие люди также ориентируются на специфически кодированные основания, необходимо знать, что селекция вообще как-то осуществляется, или хотя бы верить в это4. Таким образом, религиозные основания социализации как уверенность в некоторой селекции оказываются очень интересным предметом для рискологического анализа в условиях господства средств коммуникации, переставших репрезентировать общую реальность.
Для социального измерения «религиозность» измеряет не истинность, а сверхрациональность поведения и мотивации акторов. Таким образом, сюда легко отнести и сферу псевдорегиозности, квазирелигии и магии. Для социальной философии остаются актуальными при анализе общества риска оба смысла, особенно в той части, в которой говорится о производстве, распространении и потреблении риска. Необходимо отметить еще и рост «массы» риска, при потреблении происходит не поглощение риска, а его акку- муляция5. Необходимо оценивать результаты производства риска и его скрытые побочные эффекты. Это еще одна область поиска особенностей религиозного поведения в обществе риска, поскольку «неизвестные и непреднамеренные последствия становятся доминантной силой в истории и обществе»6.
Риск создает свои среды (Э. Гидденс), но можно ли считать религиозные общности общества риска такими средами? Все-таки Гидденс говорит о массовости. Даже традиционные религиозные общности, будучи стратифицированы, видимо, испытывают затруднения из-за явления «массовой» социальной религиозности. По крайней мере, каждая из религиозных общностей в обществе риска – это, по-видимому, специфический набор минимизированных опасностей.
Профили риска необходимо постоянно пересматривать7, соответственно, риски современности необходимо предполагают соответствующие изменения религиозных общностей. Во-первых, глобализация риска означает усиление интенсивности, например интенсификацию негативных процессов в среде религиозных общностей, а также нарастание событий со значительными последствиями. Во-вторых, глобализация риска может пониматься в смысле распространения числа случайных событий, которые воздействуют на каждого или, по крайней мере, на большое количество людей, например изменения в мировом разделении по религиозной принадлежности.
Механизм локального контроля может нарушиться, поглощая продуктами распада всех, кто так или иначе использовал эти ресурсы. В-третьих, риск происходит из социализированной среды: например, происходит вторжение человеческого знания в мир природных закономерностей, в т.ч. активное вторжение техники в «природу» сознания, где и коренится религиозное мировосприятие. Кроме того, можно отметить развитие институционально признанной рискогенной среды, например антитеррористических сетей и анти-экстремистских программ. Риск является скорее основой построения этих систем, нежели чем-то случайным. Также необходимо признание существования риска: отсутствие знания о риске не может быть конвертировано в «определенность» религиозным или магическим знанием. Знание о риске широко распределено: многие из опасностей известны самой разной публике. Перед проповедником стоит задача не только актуализации риска, опасности через слово покаяния, а задача минимизации последствий через слова утешения. Таким образом, необходимо признание ограниченности экспертного знания: ни одна экспертная система не может полностью предсказать возможные последствия.
Порой можно обнаружить ограниченность оценки религиозного поведения и в рамках рискологии: «В традиционных культурах рискогенная деятельность чаще осуществляется под покровительством религии или магии. В этом случае риск принимает форму неопределенности или божественного предопределения деятельности, и таким образом риск не призна-ется»1. Магическое и религиозное поведение социальных акторов, по-видимому, не различается. Риск в условиях предопределения не исчезает, поскольку ответственность с человека не снимается. Кроме того, религиозные системы, в отличие от магических, – это проповедь ответственности и дискурс личной вины.
Неопределенность дефиниций в российской науке имеет последствия в национальной и конфессиональной политике, становится поводом для управленческих манипуляций. Кроме того, социальная наука не может наблюдать общество полностью «извне», она действует в обществе, в большой степени завися от ситуации. При этом анализ риска в терминах рационального поведения индивида, тем более – предсказание последствий социального действия, не вполне адекватны2. Невозможно полностью измерить риск. Но тогда какой же смысл в теориях риска, понятия которого связаны с количественной калькуляцией? Может быть, все дело только в том, чтобы задать, как в некоторых теориях морали, какой-то идеал, позволяющий увидеть свое несоответствие требованиям рациональности3? Уровень приемлемого риска различен для тех, кто принимает политические решения, и тех, кого эти решения затрагивают4. Тем более это касается случаев религиозной общности, во-первых, не укладывающихся в рациональные структуры, во-вторых, всякая религиозная общность в условиях глобализации – актор международной политики. После печально известной лекции Бенедикта XIV в Регенсбургском университете угрозы и слова осуждения Папе поступали со всех концов света: от сомалийского шейха Абубакара Хассана Малина, иракской суннитской организации «Совет моджахедов шуры» и т.д.5 Именно после этих событий в здание молодежного центра православной церкви в городе Газа была брошена граната, а в городе Наблусе на западном берегу реки Иордан подверглись нападениям англиканская и православная церкви6. То, что из-за лекции главы католиков (это, на самом деле, цитата из средневекового текста) страдают православные и англикане – это тоже показательный пример.
Вообще, согласно Н. Луману, риск ставит под вопрос рациональную природу деятельности человека. Актуализируются альтернативы – учения о сверхрациональной деятельности человека, как правило, изучаемые религиоведами как в рамках исторических, так и социально-философских школ в России. Луман предлагает реализовать подход, состоящий в постижении феномена риска лишь соответственно смыслу коммуникаций, включая, конечно, и сообщения об индивидуально принятых решениях7. Пожалуй, это наиболее адекватный подход для формализации риска взаимодействия религиозных общностей в рационалистической традиции. Оценивание риска, калькуляция – это явно противоположная, светская ситуация, программа минимизации раскаяния8.
Риск является результатом модернизации и активизируется процессами глобализации – касается ли это религиозных процессов? Конечно, да. Слово «традиция», понятие «религиозная традиция» вводят в заблуждение тех, для кого дискурс не прозрачен – это не гарант сохранности, не резервация и не универсальное средство предохранения от рисков, это живая актуализация форм религиозного поведения в каждый конкретный момент времени, как «верифицированных», так и «фальсифицированных». Другими словами, когда сейчас «надо», а если надо – значит «не хочется», значит – есть риск. Говоря о религиозном поведении, мы оперируем мифологемами учебников, не отдавая себе отчет, что все давно изменилось, – в этом мы постоянно убеждаемся, приходя в религиозную общину.
Любое действие или бездействие индивида в условиях современного общества рискогенно и несет в себе опасность непредсказуемых результатов в буду- щем2. Во-первых, это значит для нас, что и религиозное действие или бездействие рискогенно, т.е. несет непредсказуемую опасность, и то и другое может оказаться выражением экстремистского настроения. Сущность минимизации риска тонко уловил Гидденс – по его мнению, «доверие» является одной из возможностей минимизации риска. Как видится, если речь идет не о религии, то, по крайней мере, о религиозном поведении.
Одним из непредвиденных последствий тотальной рационализации стало уменьшение размеров риска: ядерный заряд огромной мощности может уместиться в чемодане3. Риски сжимаются в виде технологий и, что самое важное, экспертных знаний. Для создания секты сегодня требуется персональный компьютер и выход в Интернет. Через Интернет можно попасть в секту. Социальное производство риска упрощается, и это не прошло мимо религиозного измерения социальных отношений, при этом следует помнить, что религиозные практики обладают колоссальным экзистенциальным «зарядом».
Таким образом, как в предметном, так и во временном отношении локализованное в социальной системе религиозное поведение, видимо, более не отвечает требованиям принятия традиций и их трансляции. Не удивительно, что и в социальном плане здесь выявляются также напряжение и симптомы кризисов, а социально конституируемая религия постепенно перестает функционировать как единый субститут авторитета, репутации и лидерства.