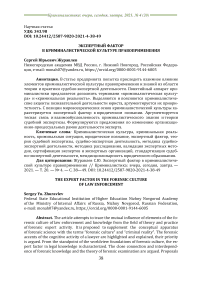Экспертный фактор в криминалистической культуре правоприменения
Автор: Журавлев Сергей Юрьевич
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность
Статья в выпуске: 4 (20), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка проследить взаимное влияние элементов криминалистической культуры правоприменения и знаний из области теории и практики судебно-экспертной деятельности. Понятийный аппарат криминалистики предлагается дополнить терминами «криминалистическая культура» и «криминальная реальность». Выделяются и поясняются криминалистические акценты познавательной деятельности юриста, аргументируется их приоритетность. С позиции мировоззренческих основ криминалистической культуры характеризуется экспертный фактор в юридическом познании. Аргументируется тесная связь и взаимообусловленность криминалистического знания и теории судебной экспертизы. Формулируются предложения по изменению организационно-процессуальных рамок деятельности эксперта.
Криминалистическая культура, криминальная реальность, криминальная ситуация, юридическое познание, экспертный фактор, теория судебной экспертизы, судебно-экспертная деятельность, методика судебно-экспертной деятельности, методика расследования, валидация экспертных методик, сертификация экспертов и экспертных организаций, стандартизация судебно-экспертной деятельности, междисциплинарность юридического образования
Короткий адрес: https://sciup.org/143178240
IDR: 143178240 | УДК: 343.98 | DOI: 10.24412/2587-9820-2021-4-38-49
Текст научной статьи Экспертный фактор в криминалистической культуре правоприменения
Нижегородская академия МВД России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация, e-mail: ,
Federal State Educational Institution of Higher Education Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nizhny Novgorod, Russian Federation, e-mail: ,
Экспертный фактор и экспертная функция — это достаточно типичные для научной сферы категории. В их содержании своя антология и гносеология научного познания, а также практическая реализация отраслевых экспертных компетенций. Можно констатировать исключительность экспертной функции в системе человеческих взаимоотношений, особую важность знаний в научной, технической и иных сферах общественной жизни в которых возникли признаки криминальной ситуации.
Сфера правотворчества и правоприменения, процесс юридического познания [1], международный опыт экспертной деятельности [2, с. 116—120; 3; 4] обусловливают существование как государственных, так и негосударственных судебных экспертов. Их деятельность должна соответствовать федеральным законам и иным требованиям [5, с. 43—47; 6, с. 64—68; 7, с. 46—53].
Функциональное и познавательное единство расследования (следования по следам), раскрытия (понимания сути следовых картин) и доказывания (накопления и представления суду аргументов связи обнаруженных следов с содержанием познаваемого события) лежит в основе деятельности правоприменителя, осуществляющего юридическое познание криминальной ре- альности. Главным в этой деятельности, как представляется автору настоящей статьи, является восстановление справедливости в общественных отношениях на основании воссоздания реального содержания происшедших событий с вредными для лиц, организаций и природы последствиями.
Криминальная реальность понимается как измененное состояние общественных процессов, информационных ресурсов, документов, различных материальных объектов, интеллектуальной сферы людей, как результат влияния злонамеренной человеческой воли и обусловленных ею действий, нарушающих права и свободы личности, отношения в сфере экономики, общественный порядок и безопасность, требования государственной власти, военной службы, а также обеспечения мира и безопасности человечества.
Для ученого-криминалиста и практического работника, владеющего криминалистическим знанием, первостепенным является познание криминальной реальности. По своей сути, эта реальность является частью мира человеческих взаимоотношений и их последствий в форме измененных состояний различных объектов. Указанные взаимоотношения и их последствия сформированы под влиянием нравственной деформации системы отношений с миром у некоторой части людей. Это влечет за собой реализацию ими установок вседозволенности, доминирования над другими людьми, жестокости, насилия, корыстолюбия и выражается в совершении действий (в бездействии), реализующих эти безнравственные установки.
Для понимания той реальности, которую изучает субъект расследования (субъект юридического познания), необходимо в первую очередь разобраться, где протекали события, что и в какой последовательности происходило в определенном месте, кто за этим стоит, кто непосредственно участвовал в изучаемом событии, что этому способствовало, что затрудняло совершение определенных действий, насколько распространены конкретные проявления расследуемого события и какова перспектива его развития в будущем. Необходимо понять суть той деятельности, признаки которой познаются (расследуются). Следует осознать вредные результаты этой деятельности для общества и отдельных граждан [8, с. 127—128].
Криминалистическая направленность процесса правоприменения, суть криминалистической культуры в деятельности правоприменителя заключается в его способности обнаруживать и распознавать измененные состояния объектов, которые попали в орбиту вредной деятельности субъектов, реализующих свои безнравственные установки. Главное в этой работе — обнаружение и фиксация различий между исходным состоянием объекта и его фактическим содержанием.
Информация, содержащаяся в измененных состояниях объектов, является предпосылкой для объяснения сути протекающих в данный момент криминальных процессов, понимания содержания прошлых событий, а также прогноза развития криминальной ситуации в будущем. Способность обнаруживать, фиксировать, анализировать и использовать подобную информацию в доказывании — это суть криминалистической культуры правоприменения. В первую очередь это проявляется к культуре профессионального мышления и внешнего поведения субъекта юридического познания, в культуре обоснования и реализации в его деятельности методических и тактических решений.
Важным участником процесса юридического познания криминальной реальности является государственный или негосударственный судебный эксперт как знаток в определенной сфере науки, техники, искусства или ремесла, который способен и имеет право давать заключение по какому-нибудь специальному вопросу, связанному с исследованием различных фактов, определением состояния и ценности объектов, моделированием изучаемого процесса и т. п. В юридической практике данное сведущее лицо может вовлекаться в процесс его сторонами для аргументации своей позиции либо по инициативе суда для устранения противоречий, возникающих в ходе слушания по делу.
Экспертная деятельность может быть не связана с правоприменительной деятельностью. Поэтому интересна позиция С. А. Смирновой о правовом статусе института экспертизы. По ее мнению, следует весьма аккуратно относиться к общеязыковому и правовому понятию экспертизы, а используемый в общеязыковой практике термин «экспертиза» в смысле вывода или мнения авторитетного специалиста, не связанный с установлением в рамках закона или нормативного ре- гламента юридического факта, не может рассматриваться как правовая категория [9, с. 143].
Теория судебной экспертизы является знанием, которое тесно связано с криминалистической культурой правоприменения, криминалистической культурой юридического познания [10, с. 41—46]. Позиция автора статьи коррелирует с мнением Ю. Г. Корухова, который понимал предмет судебно-экспертной деятельности как закономерности возникновения и существования материальных носителей информации об уголовнорелевантных и гражданско- релевантных обстоятельствах обнаружения, изъятия и исследования этих объектов [11, с. 14]. Определение Г. Г. Омельянюком методики судебноэкспертной деятельности как специальной программы действий эксперта, основанной на системе научно обоснованных методов, приемов и средств, применяемых для изучения свойств объектов судебной экспертизы, и используемой для решения экспертной задачи — установления фактов, относящихся к предмету определенного рода, вида и подвида судебной экспертизы [12, с. 14], непосредственно соотносится с нашим пониманием методики расследования. Она является конкретной программой действий, основанной на системе методических и тактико-технических средств по обнаружению, фиксации, специальному исследованию, анализу и оценке доказательственной информации в целях её использования для характеристики обстоятельств расследуемых событий, понимания содержания вредной для лиц и организаций деятельности, а также роли участвующих в ней субъектов.
Актуально мнение
Е. Р. Россинской о том, что единство природы всех родов и видов судебных экспертиз, независимо от вида процесса, диктует единство процессуальных форм использования специальных знаний. При этом утверждение со ссылкой на мнение Р. С. Белкина о том, что в современной криминалистике нет места общетеоретическим проблемам судебной экспертизы и что криминалистическая наука не может заниматься разработкой организационного обеспечения судебноэкспертной деятельности [13, с. 55— 56], несколько расходится с тенденциями развития общей теории криминалистики, которые сформулированы в фундаментальных трудах [14, с. 94—96; 15, с. 414—423].
Положительная сторона позиции Е. Р. Россинской, Т. В. Аверьяновой, а также тех ученых, которые аргументируют необходимость развития экс-пертологии как отдельной науки, заключается в том, что данная дискуссия привлекает внимание к необходимости критичной самооценки криминалистов. На каком-то этапе развития криминалистики в ее теории сформировалась линия принадлежности криминалистического знания исключительно к вопросам раскрытия и расследования преступлений. Произошло ее «приземление» под крыло уголовного процесса. Отдельные попытки исследования роли криминалистического знания в других сферах деятельности, в других процессах, например, в работе адвоката или иного представителя в гражданском процессе, частного детектива, специалиста по вопросами безопасности коммерческой организации, нотариуса, журналиста и т. п. не получили дальнейшего развития.
Предлагаемое нашей научной школой понимание объекта криминалистики, как взаимообусловленных закономерностей развития криминальной реальности и деятельности по расследованию её проявлений, расширяет криминалистический кругозор, увеличивает возможности проведения исследований, в том числе и на стыке с теорией судебноэкспертной деятельности [16, с. 162— 174]. Указанный методологический подход к пониманию объекта науки — это реальная основа для тесного взаимодействия криминалистики и теории судебной экспертизы. Они имеют общую теоретическую платформу — идентификационную, прогностическую, диагностическую, хотя и различные правовые, организационные и познавательные (методические, тактические, технико-инструментальные) особенности деятельности по юридическому познанию криминальной реальности.
С позиции комплексности криминалистического знания не вызывает сомнений необходимость использования инновационных механизмов повышения качества экспертного производства, совершенствование вопросов валидации экспертных методик, сертификации экспертов и экспертных организаций, стандартизации судебно-экспертной деятельности, в том числе на международном уровне [17, с. 26—35]. Убедительные аргументы необходимости международного сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности, в том числе для поддержания интересов России и ее престижа на международном уровне, приводит С. А. Смирнова в диалоге с В. Я. Колдиным, который посвящен современному облику и перспективам судебно-экспертных технологий [9, с. 137—144].
Важнейшую роль в формировании профессионального экспертного сообщества играет юридическое образование, на необходимость реформирования которого, в том числе «снизу», обраща- ет внимание С. А. Смирнова. Она выделяет в первую очередь комплексность, междисциплинарность обучения юристов, а также практику как индивидуальную форму обучения студентов, в ходе которой вырабатываются умения работать самостоятельно [18, с. 10—13]. Например, В. Я. Колдин отмечает, что в действующем стандарте юридического образования нет даже общей концепции использования в юридической деятельности возможностей и достижений современной науки и техники. По его мнению, абстрактные и отрывочные знания об этом, получаемые будущими юристами из курсов процессуального права и криминалистики, конечно же, не могут удовлетворить современным требованиям к подготовке профессионального юриста [9, с. 142].
Эффективность реализации экспертной функции в практике юридического познания предопределяется качеством техникокриминалистической подготовки правоприменителей. Инновационные подходы в данном направлении образовательной деятельности минимизируют вероятность ошибки эксперта [19; 20; 21], создают реальную предпосылку для оптимизации консультационного взаимодействия различных категорий субъектов расследования с сотрудниками экспертных подразделений, которые будут способны видеть элементы криминальной реальности, отражающие содержание преступной деятельности. При этом консультационные суждения эксперта могут быть важны для определения направлений оперативно-розыскной деятельности и розыскной работы следователя по конкретному уголовному делу. Также полагаем необходимым обозначить специфику формирования компетенций в контексте их профилизации [22, с. 62—72], междисциплинарную роль криминалистической культуры [23, с. 67—72], акцентировать внимание коллег-педагогов на криминалистических средствах обучения методическому и тактическому содержанию работы по расследованию преступлений, которые имеют междисциплинарный характер [24, с. 49—62].
Комплексный подход к познанию криминальной реальности, в том числе системнодеятельностный подход к ее характеристике, обусловливают потребность комплексного взгляда на методику расследования преступлений и пути развития комплексных экспертиз. Например, Н. П. Майлис и В. Ф. Орлова обращают внимание на то, что «комплексный подход как проявление прогрессивной тенденции интеграции знаний всегда имел очень большое значение в развитии криминалистики и судебной экспертизы» [25, с. 139— 147]. При этом отмечается, что «при производстве комплексных судебных экспертиз немаловажное место занимают психологические аспекты, проявляющиеся при взаимодействии и взаимоотношениях процессуальных субъектов: руководителя и эксперта, между членами комиссии и во многих других случаях» [26, с. 33—39]. Также отмечается, что «в настоящее время, несмотря на многие публикации, связанные с теорией и практикой комплексной экспертизы, ее методическое обеспечение остается актуальной проблемой» [27, с. 18]. Следует согласиться с указанными авторами в том, что общетеоретические и прикладные исследования в этом направлении позволяют говорить о сложной структуре методики комплексной экспертизы, которая, по сравнению с методиками составляющих ее экспертных специальностей, носит более обобщенный характер и является метаметодикой
[25, с. 143].
Говоря о возможных сложностях правоприменителя в восприятии выводов эксперта, Н. П. Майлис отмечает, что, если у следователя на момент получения заключения эксперта с выводами о групповой принадлежности исследованных объектов отрабатывается версия, с которой такие выводы соотносятся, то он их может интерпретировать как выводы об индивидуальном тождестве. Далее она отмечает, что такая же ситуация имеет место и в суде, особенно когда эксперт пишет, что в данном случае имеет место «узкая групповая принадлежность» [28, с. 31]. Дальнейшие размышления одного из ведущих российских криминалистов заставляют сильно задуматься о сказанном: «Безусловно, правоприменителю сложно оценить такой вывод, но эксперт, на основе многих совпадающих признаков, пытается усилить полученные результаты в целях достижения поставленных перед ним задач» [28, с. 31].
Как представляется, в очень деликатной форме Н. П. Майлис говорит об отсутствии криминалистической культуры и достаточного профессионального кругозора у тех лиц, которые оценивают и используют в доказывании результаты экспертного исследования. Вероятнее всего, речь идет о том, что следователь или представители обвинения в суде рассчитывают на однозначный вывод эксперта о тождестве объектов исследования. При этом эксперт, не имея для этого объективных данных, ведет речь о том, что в следах не нашли отражения частные признаки, например, клинка, подошвы или протектора колеса и формулирует выводы о сходстве по форме, размеру, степени заточки, характеру изношенности и т. п. Применительно к подобным ситуациям уместно говорить не о сложности оценки заключения эксперта, а о некорректности ожиданий правоприменителей, которые на этапе назначения экспертизы должны осознавать характер предполагаемых выводов, исходя из характеристики объектов, направляемых на экспертизу.
Реализация экспертной функции в криминальной реальности имеет свои особенности, которые обусловлены как общей направленностью преступной деятельности, так и содержанием реализуемых криминальных схем. Одной из отличительных особенностей специалистов преступного мира является их непосредственная включенность в процесс преступной деятельности.
На этом фоне характер участия судебных экспертов в процессе юридического познания криминальной реальности диаметрально противоположный. Положения о процессуальной самостоятельности эксперта сферы правоприменительной практики, сферы юридического познания приводят к его существенной изоляции от познавательных процессов расследования и доказывания [9, с. 140]. Поэтому С. А. Смирновой правильно выделяется мысль о необходимости гармонизации следственных и экспертных технологий, несовершенство которых может представлять основную проблему расследования.
Анализ опыта взаимного влияния экспертного фактора, криминалистического знания и практики правоприменения позволяет сформулировать следующие выводы:
-
1. Общую теорию судебной экспертизы следует рассматривать как знание, неразрывно связанное с криминалистической культурой правоприменения, криминалистической культурой юридического познания.
-
2. С учетом того, что единство природы всех родов и видов судебных экспертиз, независимо от вида процесса, диктует единство процессуальных форм использования специальных знаний, можно утверждать, что взаимосвязанное с теорией судебноэкспертной деятельности криминалистическое знание на методическом и тактико-техническом уровне может быть реализовано во всех видах процесса.
-
3. Реализация экспертной функции в криминальной реальности имеет особенности, которые обусловлены как общей направленностью преступной деятельности, так и содержанием реализуемых криминальных схем. Одной из отличительных особенностей специалистов преступного мира является их непосредственная включенность в процесс подготовки, создания средств и процедур реализации преступного замысла.
-
4. Положения о процессуальной самостоятельности эксперта сферы правоприменительной практики, сферы юридического познания приводят к его существенной изоляции от познавательных процессов расследования и доказывания.
-
5. Более высокая познавательная включенность эксперта в процесс расследования предполагает изменение организационно-правовых рамок его деятельности и наделение эксперта правом участвовать в получении образцов для исследования или ознакомления с ними до начала экспертизы, высказывать предложения по корректировке вопросов инициатора проведения экспертизы, а также представлять свое экспертное мнение о содержании криминальной реальности, следы которой являются объектом экспертного исследования.
Список литературы Экспертный фактор в криминалистической культуре правоприменения
- Боруленков Ю. П. Юридическое познание, доказательство и доказывание (методология, теория, практика): моногр. / под науч. ред. В. Н. Карташова. — М.: Юр-литинформ, 2016. — 534 с.
- Говорина Н. В. Основные аспекты деятельности Европейской сети судебно-экспертных учреждений на современном этапе / Н. В. Говорина, С. А. Кузьмин, А. И. Усов // Теория и практика судебной экспертизы. — 2019. — Т. 14. — № 1. — С. 116—120.
- Defence Investigations in International Criminal Trials. Practitioner's Handbook. Edited by the Defense Office of the Special Tribunal for Lebanon. 2017, 218 p.
- Policing. Forensic Services and Infrastructure: Criminal Justice Assessment Toolkit. — New York: United Nations, 2010. — 82 p.
- Омельянюк Г. Г. Актуальные проблемы аккредитации судебно-экспертных организаций и сертификации негосударственных судебных экспертов в Минюсте России // Недвижимость: экономика, управление. — 2012. — № 2. — С. 43—47.
- Омельянюк Г. Г. К вопросу о валидации судебно-экспертных методик // Теория и практика судебной экспертизы: науч.-практ. журн. — 2010. — № 2 (18). — С. 64—68.
- Омельянюк Г. Г. О Регламентах по проведению профессионального тестирования в судебно-экспертных учреждениях и оценке пригодности (валидации) методик в судебно-экспертной деятельности // Теория и практика судебной экспертизы: науч.-практ. журн. — 2011. — № 1 (21). — С. 46—53.
- Журавлев С. Ю. Криминалистический стиль мышления: методическое содержание и соотношение с квалификационным пониманием расследуемых событий // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2018. — № 2 (41). — С. 127—132.
- Смирнова С. А., Судебно-экспертные технологии: современный облик и перспективы / С. А. Смирнова, В. Я. Колдин // Теория и практика судебной экспертизы. — 2019. — Т. 14. — № 4. — С. 137—144.
- Журавлев С. Ю. Криминалистическая культура правоприменения: содержание и дискуссионные вопросы // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. — 2020. — № 1 (13). — С. 41—46.
- Россинская Е. Р. Современная судебная экспертология — наука о судебной экспертизе и судебно-экспертной деятельности // Теория и практика судебной экспертизы. — 2015. — № 4 (40). — С. 10—18.
- Омельянюк Г. Г. Использование инновационных механизмов повышения качества экспертного производства при совершенствовании законодательства о судебно-экспертной деятельности // Теория и практика судебной экспертизы. — 2014. — № 1 (33). — С. 10—17.
- Россинская Е. Р. Воплощение идей Р.С. Белкина в современной теории и практике судебной экспертизы // Теория и практика судебной экспертизы.— 2017. — Том 12. — № 3. — С. 54—61.
- Аверьянова Т. В., Криминалистика: учеб. для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. Под ред. заслуж. деятеля науки Рос. Федерации, проф. Р. С. Белкина. — М.: НОРМА, 2000. — С. 94—96.
- Россинская Е. Р. Криминалистика и судебная экспертиза: взаимосвязи и разграничения. Избранное. — М.: Норма, 2019. — С. 414—423.
- Лубин А. Ф. Некоторые особенности парадигмы научной школы «криминалистические средства обеспечения экономической безопасности России» // Концепция формирования и использования криминалистического комплекса методических и тактических средств обнаружения и расследования преступлений в сфере экономики: мат-лы 7-го межвуз. науч.-практ. семинара «Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт» (Москва, 12 февр. 2016 г.) / под общ. ред. А. Ф. Волынского, Б. Я. Гаврилова, А. Ф. Лубина. — М., 2016. — С. 162—174.
- Смирнова С. А., Актуальные проблемы законодательного закрепления инноваций судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации / С. А. Смирнова, Г. Г. Омельянюк, А. И. Усов //Теория и практика судебной экспертизы. — 2016. — № 1 (41). — С. 26—35.
- Смирнова С. А. Комплексирование в российском юридическом образовании: классический подход и инновации // Теория и практика судебной экспертизы. — 2016. — № 2 (42). — С. 10—13.
- Хазиев Ш. Н. Содействие международного судебно-экспертного сообщества в изобличении ошибочной идентификации по делу Шерли Макки // Адвокат. — 2008. — № 9. — С. 3—8.
- MacKie I., Russell M. Shirley McKie: The Price of Innocence. — Edinburg: Birlinn, 2007. — 208 p.
- Kukucka J., Kassin S. M., Zapf P. A., Dror I. E. Cognitive Bias and Blindness: A Global Survey of Forensic Science Examiners // Journal of Applied Research in Memory and Cognition. 2017. Vol. 6. , No. 4. pp. 452—459.
- Журавлев С. Ю. Развитие криминалистической культуры обучаемых как условие формирования компетенций в контексте их профилизации // Передовой опыт и проблемы профилизации учебной, учебно-методической и научно-исследовательской деятельности в образовательных организациях системы МВД России: сб. ст. / под ред. Е. Е. Черных. — Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России. — 2020. — С. 62—72.
- Журавлев С. Ю. Криминалистическая культура междисциплинарного обучения // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2020. — № 2 (50). — С. 67—72.
- Журавлев С. Ю. Криминалистические средства обучения методическому и тактическому содержанию работы по расследованию преступлений / С. Ю. Журавлев, В. Е. Лапшин // Научно-технический портал МВД России. — 2019. — № 3 (31). — С. 49—62.
- Майлис Н. П. Ещё раз о комплексной экспертизе и путях ее развития / Н. П. Майлис, В. Ф. Орлова // Теория и практика судебной экспертизы. — 2014. — № 1 (33) — С. 139—147.
- Майлис Н. П. Психологические особенности при производстве комплексных экспертиз // Судебно-психологическая экспертиза и комплексные судебные исследования видеозаписей: сб. науч. ст. // Под ред. Т. Ф. Моисеевой, В. Ф. Енгалычева, Е. В. Пискуновой. — М.: РГУП, 2017. — С. 33—39.
- Майлис Н. П. Комплексный подход при изучении следов человека на современном этапе // Теория и практика судебной экспертизы. — 2020. — Т. 15. — № 2. — С. 15—20.
- Майлис Н. П. К вопросу о соотношении видов идентификации и доказательственном значении выводов // Теория и практика судебной экспертизы. —2017. — Т. 12. — № 3. — С. 28—32.