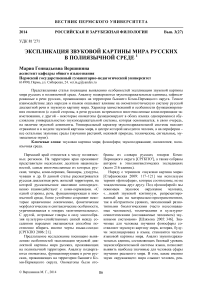Экспликация звуковой картины мира русских в полиязычной среде
Автор: Вершинина Мария Геннадьевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 3 (27), 2014 года.
Бесплатный доступ
Представленная статья посвящена выявлению особенностей экспликации звуковой картины мира русских в полиязычной среде. Анализу подвергаются звукоподражательные единицы, зафиксированные в речи русских, проживающих на территории бывшего Коми-Пермяцкого округа. Тесное взаимодействие двух народов и языков оказывает влияние на ономатопоэтическую систему русской диалектной речи и звуковую картину мира. Характер заимствований и особенности функционирования ономатопов (с одной стороны, в речи русских встречаются многочисленные коми-пермяцкие заимствования, с другой - некоторые ономатопы функционируют в обоих языках одновременно) обусловлены универсальностью звукоподражательной системы, которая основывается, в свою очередь, на наличие звуковой доминанты. Универсальный характер звукоподражательной системы находит отражение и в модели звуковой картины мира, в центре которой находится человек, а на периферии - все остальные звуковые среды (звучания растений, неживой природы, технические, сигнальные, музыкальные звуки).
Звуковая картина мира, фоносфера, звукоподражание, ономатопея, полиязычная среда
Короткий адрес: https://sciup.org/14729329
IDR: 14729329 | УДК: 81’271
Текст научной статьи Экспликация звуковой картины мира русских в полиязычной среде
Пермский край относится к числу полиязыч-ных регионов. На территории края проживают представители нескольких десятков национальностей, самые многочисленные из которых русские, татары, коми-пермяки, башкиры, удмурты, чуваши и др. В данной статье рассматривается русская диалектная речь жителей территории, на которой русскоязычное население непосредственно взаимодействует с коми-пермяками. «С одной стороны, речь, функционирующая в иноязычной среде, более устойчиво сохраняет некоторые архаические лексические, фонетические морфологические и синтаксические особенности, утрачивающиеся в говорах «континентальных». С другой, островные говоры в силу многообразия культурно-хозяйственных связей между соседними народами оказываются способны постепенно вбирать многие черты языка-соседа» [СРГКПО 2006: 21].
Предлагаемое исследование посвящено выявлению особенностей экспликации звуковой диалектной картины мира русских, проживающих на полиязычной территории. Анализу подвергаются ономатопы, функционирующие в речи русских, проживающих на территории бывшего Коми-Пермяцкого округа. Ономатопы были ото- фоносфера; звукоподражание; ономатопея; полибраны из словаря русских говоров Коми-Пермяцкого округа [СРГКПО2], а также собраны автором в этнолингвистических экспедициях (всего 216 единиц).
Наряду с термином «звуковая картина мира» [Стефановская 2009: 117–121] мы используем термин «фоносфера», которые соотносимы, но не тождественны друг другу. Под «фоносферой» мы понимаем звуковое окружение человека, «…некий звуковой континуум, репрезентированный как на материально-пространственном, так и абстрактном уровнях, заполненный разнотипными биологическими (часто неосознаваемые человеком), техническими и культурносемиотическими (осознаваемые человеком) звуковыми системами» [Шляхова 2005: 346]. Значимые для человека звучания фоносферы составляют звуковую картину мира, которая, будучи эксплицирована в языке, становится частью языковой картины мира. Анализ звукоподражательных единиц, составляющих базовый уровень звукоизобразительной системы языка, позволяет выявить наиболее значимые для человека сферы звучания реального мира. В том, какие именно звуки окружающего мира слышит человек, реа- лизуется специфика менталитета той или иной языковой общности [Шляхова 2011; 2012а, б].
Автором статьи анализируются лексические единицы, содержащие сему ‘звук’ и имеющие ономатопоэтическое происхождение. Они образуют семантические поля в соответствии с источниками происхождения имитируемого звука: биофоносфера (звуки естественного происхождения), социофоносфера (звуки искусственного происхождения) и антропофоносфера (звуки, производимые человеком).
К семантическому полю «антропофоносфера» относится 55,1% всех исследуемых единиц. Биофоносфера включает в себя поля «натурфоно-сфера» (5,1%), «фитофоносфера» (1,2%) и «зоофоносфера» (25,9%); социофоносфера – поля «технофоносфера» (4,3%), «сигналофоносфера» (5,1%), «музыкофоносфера» (0,5%) и поле «ми-фофоносфера» (2,8%), которое составляют единицы, фиксирующие нарушение связи между звуком и его источником, – такие звучания осмысляются диалектоносителем как проявления потустороннего мира. Таким образом, количественный анализ ономатопов показывает, что наибольшее внимание диалектоносители уделяют звукам, производимым человеком. А наименее освоенные сферы звучания – фитофоносфера и музыкофоносфера.
Несмотря на то что растительный мир занимает важное место в картине мира носителей традиционной культуры [Вендина 1998: 223], звучания грибов и растений – периферийное семантическое поле в модели фоносферы, что естественно, так как звук не является их существенным признаком. В редких случаях встречаются номинации ономатопоэтического происхождения: скрип у н , скрип у н - трава ( Скрипун ы у нас не берут , это белый груздь , они как скрипят ) (222). Скрип в данном случае является важным свойством и мотивирующим признаком номинаций.
Малая разработанность поля «музыкофоно-сфера» ( Колька мало на гитаре бр я ньгат , а на гармошке уж никто не умеет (55)) объясняется тем, что в русской культуре в целом и в традиции русских, проживающих в Пермском крае, в частности более распространены вокальные музыкальные жанры (единиц, характеризующих пение, отмечено больше). «Вокальные жанры музыкального фольклора у славян играют главенствующую роль», «инструментальная музыка по сравнению с вокальной занимает более скромное место в народной музыкальной культуре» [Пашина 2004: 322].
Особое семантическое поле «мифофоносфе-ра» включает в себя единицы, фиксирующие звучания, которые не соотносятся с источником звука. Естественная связь звука с источником – важный элемент семиотизации фоносферы, в случае нарушения данной связи (отсутствие источника, противоречие источника звука представлению о нем, неестественное время и место появления звука) звучанию приписывается магическое или мифическое происхождение или значение: Одно время птицы или летяги, или как, на весь лес хохочут: Ооо-хо-хо! На весь лес! (КА) Данный звук воспринимается как неестественный и, соответственно, опасный: И вот мне кажется так, что все деревья до земли гнутся. И кто-то, короче говоря, ухает. Ууууух! Господи спаси и сохрани! И кажется мне, что все деревья вот валятся. Вот знаете, когда дерево упадет… Ууух! И вот это продолжалось до четырех часов утра. И потом всё, вот этот гул, он уходил куда-то всё на север. Утром смотрю – все деревья стоят (КА). Такое звучание либо квалифицируется как предвещающее опасность (Стали землю кидать на гроб, в могиле бень – забенькало, это не к добру (47–48), либо приписывается некоему мифическому существу: чертям, домовому, лешему и пр. (Раз все двери открыли – циркотня-циркотня, и убежали все, никого нету. Вот это шишаки [черти] и были (256). Так, в традиционном сознании четко зафиксировано представление о связи звука с источником и характере данной связи.
«Натурфоносфера» включает в себя субполя «звуки метеорологических явлений» и «звуки стихий». Субполе «звуки стихий» включает оно-матопы, имитирующие звуковые особенности стихий, среди них единица пр о звизд (звукоподр. *gvizd-: zvizd - [Фасмер I: 87]) как звуковое действие наиболее динамичной стихии – огня ( Лучина-то у нас домашна с пр о звиздом горит ) (203). Метеорологические явления нередко сопровождает отчетливый звук ( Г ы жнуло только , и нету дожжа-то ; Такой ураган , только трес-кот о к идёт! ) (241). Единица г ы жнуть имеет коми-пермяцкое происхождение ( гыж-гыж – подражание звукам, сопровождающим царапание [КПРС: 111]).
В данном поле преобладают единицы, обозначающие звуки грозы, что объясняется акустическими свойствами (повышенная громкость) звука-источника – грома: горгать (78), вёргать (60), чургать (262) (Дожни, дожжик, как следует, чо так вёргашь; В Ильинску пятницу всё большинство гремело, чургало). Единицу гор-гать можно объяснить как русским, так и коми-пермяцким происхождением. М. Фасмер приводит звукоподражательный глагол горготать в значении «громко смеяться, гоготать, ржать» [Фасмер I: 439], а в коми-пермяцком языке функционирует гор – звук, звучание [КПРС: 101]. И в том и в другом случае реализуется семантика звучания. Подобная ситуация наблюдается и в отношении ономатопа торгать (ср.: торкать – праслав. *tъrk-, *stъrk-, по-видимому, звукоподр. [Фасмер IV: 83] и к.-п. торгыны – тараторить, торгыны-визывтны – течь с шумом [КПРС: 478]).
Говорить определенно о русском или коми-пермяцком происхождении данных ономатопов затруднительно. Однако нередко они функционируют в обоих языках, что может указывать на универсальность звукоподражательности в целом. Подобное соотношение звуковых значений единиц, функционирующих в диалектной речи и русских, и коми-пермяков, прослеживается и в других семантических полях.
В некоторых случаях этимологическое значение ономатопа по имеющимся источникам установить непросто, однако в коми-пермяцком языке функционирует подобное образование: т у р-гать (ср. к.-п тургыны – говорить полушёпотом [там же: 494]), поэтому можно предположить коми-пермяцкое заимствование.
Анализ звукового состава ономатопов, имитирующих звук грома, позволяет выделить регулярно повторяющийся элемент (звукоизобразительную доминанту) – вибрант и звонкий взрывной, которые являются основным средством имитации раскатов грома ( бу рг ать (55), вё рг ать (60), го рг ать (78), то рг ать (239), ту рг ать (242), чу рг ать ). Именно звукоизобразительная доминанта, по всей видимости, обеспечивает универсальность звукоподражательной лексики.
В количественном отношении с натурфоносфе-рой (5,1%) соотносятся сигналфоносфера (5,1%) и технофоносфера (4,3%) (социофоносфера).
Звукоподражания, которые характеризуют звук-сигнал, относятся к семантическому полю «сигналофоносфера» ( Машина спип и пкала , мя давай отворачивать с дороги ) (183).
Звуки-сигналы в народной культуре используются часто. Например, различаются пастушьи сигналы, адресованные животным и выступающие в качестве средства коммуникации с ними ( Барабан повешашь и туто бараб а нишша. Коровы барабан учуют , токо «му-му» ; Писк на рябчика сам сделаешь из пера ) (46). Номинация писк употребляется в значении «свисток, манок на птицу» (в основе лежит, вероятно, звукоподр. *рi- [Фасмер III: 271], ср. к.-п. пики-вики – подражание писку, повизгиванию, пиликанью). Звуки-сигналы нередко имеют функцию предупреждения: Если пожар , дак об рельсу т и ньгают (237) (ср. к.-п. тиньгыны – звенеть, зазвенеть, бренчать, тренькать [КПРС: 474]).
Значимость звуков-сигналов для диалектоно-сителя подтверждается наличием в языке номинаций различных сигнальных приспособлений и устройств: ст у калка (232), колокол о , колок о лко (124) (по происхождению звукоподр., с удвоением корня *kol-kol- [Черных 1999: 413]), колкоч и (123), треньг у ньчик (240) ( тренькать – бренчать, тихо наигрывать, болтать, звукоподр. [Фасмер IV: 98]; ср. к.-п. тринь-бринь , трингöм – звон, звяканье, бренчанье, треньканье, трингöтчыны – прерывисто звенеть [КПРС: 490]), прозв о нчик (203) ( В ночно время ст у калки носили по деревне. Возле каждого дома стукнешь , вроде , спите спокойно. Это от пожаров да от чудиков ; Так-ту с треньг у ньчиками ездили , маленькой такой колокольчик ).
Поле «технофоносфера» включает ономато-пы, имитирующие звуки артефактов: простых рукотворных предметов: т а ргать (КА3), т о р-гать (239), т о ркать (230), хр о пать (255), хр я пать (КА), ч а кать (257) ( Бросила зеркало-то , испугалася , оно только ст о ркало ; Тесины забрякали , зач а кали ) и сложных устройств ( Выключи радио , а то одни бр ю ньги (54)). В силу того что предметы преимущественно статичны, звук им приписывается нечасто. Предметы обычно звучат под воздействием внешней силы, чаще всего человека, однако такие звуки относятся к антропофоносфере, так как проявляются вследствие действия, совершаемого человеком. Ономатопы, которые передают звуки, издаваемые рукотворными предметами, обычно имитируют разного рода удары: хроп ( хропать – сильно стучать, хроп – межд., передающее стук, звукоподр. [Фасмер IV: 278]), хряп ( хряпать – бить, ломать, хряп ! – межд., передающее ломание, удар; вероятно, звукоподр. [там же: 281]), торг (ср. с торкать – толкать, колотить, торк – толчок, стук, поторок – удар [там же: 83]; к.-п. торгыны – тараторить [КПРС: 478]), тарг (ср. к.-п. таргыны – кудахтать, трещать, говорить без умолку [там же: 471]), чак (ср. к.-п. чак керны – цокать языком, стучать зубами; чак лыйны – выстрелить; чак снимайтны – щёлкнуть фотоаппаратом [там же: 525]). Фиксируется также существенный звуковой признак предмета ( Пасли пастуки барабаном. Дощечка такая , чтобы г о ловкая была , потом палочки такие тут повешат (76). Ср. к.-п. гиль-голь , гиля-голя – бряк, звяк [там же: 98], голь-бряк – подражание сильному стуку, грохоту [там же: 101], гольган – погремушка [там же: 101].
Наиболее значимая, внешняя по отношению к человеку сфера звучания – зоофоносфера: голосовые и неголосовые звуки, издаваемые животными, птицами и насекомыми. Звучания насеко- мых распознаются реже, чем звуки животных и птиц: По лесу ходили, бзыки не закусали? (КА) (бзык – слепень; звукоподр. [Фасмер I: 164]).
Среди звукоподражаний, имитирующих голоса обитателей леса, преобладают ономатопы голосов птиц ( Птички в лесу гив и ргают (74)). Единица гив и ргать указывает на восприятие голосов лесных птиц в качестве целостного и мелодичного звучания. В то же время распознаются стрекот сороки: чик-чик (КА) ( чикать – бить; по-видимому, звукоподр. праслав. *čik-, *čьk- [Фас-мер IV: 361]; ср. к.-п. чикöтны – трещать (о дровах), бить [КПРС: 536]), карканье вороны: в ы р-гать (72) (ср. к.-п. выргыны – бормотать невразумительно [там же: 93]), голос кукушки: коко-в а ть (123) ( кокот – петух; звукоподр. название [Фасмер II: 283]; ср. к.-п. кокавны – клевать; долбить [КПРС: 173]) или т у ткать (242) (ср. к.-п. туткыны – бормотать, бурчать [там же: 496]), тетерева – т ю ргать (243) (ср. к.-п. тюргыны – свистеть, стрекотать [там же: 503]). В каждом отдельном случае наблюдается стремление передать характерный звук той или иной птицы ( Вороны в ы ргают , дожь будет ; Палёвки налетили , т ю ргают ).
Кроме голосов птиц, имитируется также звук, который сопровождает действие животного или птицы ( Глухарь пырк – полетел , я стрелил , да поздно (206); Лось < … > может хр я стнуть сразу насмерть (255)). Пырк в к.-п. значит «выпорхнуть» [там же: 391], а М. Фасмер приводит междометие пыр , пырь! в значений «бац» и звуко-подр. пырхать – фыркать [Фасмер III: 420]. Хр я стнуть – первонач. *хręst-. Здесь предполагают звукоподр. [Фасмер IV: 281].
Наиболее развита система звуков, производимых домашними птицами и животными, о чем свидетельствует наличие первичных звукоподражаний и номинаций, мотивированных звучанием.
Что касается звуков домашних птиц, воспроизводятся традиционно звуки, издаваемые курицами: к о кать (122), л о ктать (140), тип (КА), п и нь-ка (КА) ( Цыплёнок всё зерно ск о кал ; Т и пов много было , дак которые умерли ; Они маленькие , п и нь-ки-то , по двору бегают ). Номинация тип встречается в к.-п. языке в том же значении «цыплёнок, птенец» [КПРС: 474] ( типнуть – легонько ударить; схватить; укусить, ущипнуть; вероятно, зву-коподр. [Фасмер IV: 60]; ср. также подзывное тип-тип у шки ). Глагол локт а ть восходит, по-видимому, к говорению [там же II: 514], а к о кать воспроизводит, с одной стороны, звук удара клюва курицы ( кокать – бить, кокаться – бить яйцо о яйцо [там же: 281]), с другой – характерный голос курицы (звукоподр. ко-ко ).
Среди звуков домашних животных встречаются имитации голоса собак ( Я услышал , собаки н ю згают (164), кошек: к а ньгать (116), м я вгать (153), овец ( Овцы-то б а ргают , есть видно хотят (46), свиней: рёхать (251), р ю хать (214), ф ы кать ( Иная свинья обережная , придет , ф ы- кат , а поросята разбегаются , а иная не срёхат и задавит (251), лошадей: и вгать (110), коров: мууо-буууо (КА). В каждом отдельном случае наблюдается стремление воспроизвести голос конкретного животного: к а ньгать (ср. к.-п. кань-гыны – хныкать, канючить, ныть, кань – кошка, кошачий [КПРС: 164]), рёхать ( рюхать – реветь, хрюкать [Фасмер II: 534], рёх – хрюкание, храп; звукоподражательное; ср. к.-п. рюк-рюк – хрю-хрю [КПРС: 414], рёксöм – хрюканье [там же: 405]), и вгать (к.-п. ивзыны – ржать (о лошади) [там же: 152], ср. и-го-го ).
Звуки действий домашних животных в основном соотносятся со звуками, производимыми живыми существами в целом, в том числе человеком. Часто это удары ( к ы рскать (134), буд ы ш-кать (56), бут ы шкать (56), п и чнуть (185) или артикуляторные звучания ( Корова в конюшне ест , к ы рскат ), однако отмечаются также специфичные звуки действий конкретных животных ( Кони цокот я т , у их подковы (256)). Данные ономатопы также встречаются в коми-пермяцком языке. Так, ономатоп п и чнуть имеет схожие образования в коми-пермяцком языке (ср. пичик – щелчок, подзатыльник; пичикасьны – играть в щелчки, давать подзатыльники [там же: 545]).
Особое внимание стоит уделить подзывным и отгонным словам. Характер происхождения данных единиц позволяет говорить об их звукоподражательной природе [Шляхова 2012б: 114–120].
В данной модели фоносферы подзывные и отгонные слова занимают промежуточный характер между зоофоносферой, антропофоносферой и сигналфоносферой, так как, с одной стороны, частично имитируют голоса или действия животных, с другой – используются человеком в целях коммуникации с животными и наделяются тем самым сигнальной функцией.
Звукоподражательная природа подзывных слов очевидна в случае обращения к домашней птице: тип-типушки, типу-типу (237), куть-куть (КА), котю-котю (КА) (ср. к.-п. кот-кот-кот – ко-ко-ко [КПРС: 188]), тиги-тиги, тига-тига (Куть-куть, иди сюда, рыжая. Ко мне, ребята, детки, идите ко мне; Курицу надо звать куть-куть, гусей тиги-тиги, а козу юлю-юлю). Подзывные слова для животных, употребляемые русскими, нередко соотносятся с подзываниями в коми-пермяцком языке или восходят к коми- пермяцким названиям животных: подзывное слово для свиней дзюд-дзюд (87) восходит к к.-п. дзуту-дзуту [там же: 123]; для овец баля (45), баль – к к.-п. баля – овца [там же: 25] (Баль-баль-баль, бали-бали, идите сюда), для коз – мась, маси (КА) (Мась-мась-мась, зову козочек) – в к.-п. мася-мася [там же: 244] (М. Фасмер сравнивает его с удм. mеs «ягненок» и коми mеž «овца» [Фасмер III: 579]).
Подзывные слова для коровы встречаются нечасто ( Корову зову – пте-пте-пте , бежи сюда , Малюта (205)). Чаще к корове обращаются по имени ( Да как зовем? Ю ли- ю ли говорю , они и бегут , телята-то. Ну , большие-то , конечно , по имени: Маня , Таня ). Возможно, в данном случае находит отражение особое традиционное уважительное отношение человека к корове.
Семантическое поле «антропофоносфера» включает в себя такие поля, как «голосовые звуки» и «неголосовые звуки» (звуки, издаваемые человеком вследствие совершаемого действия (звуки действий)», и звуки тела).
Среди звуков действий различаются удары по предмету б е нгать (47), б о бать (50), р е чгать (210) (ср. к.-п. резгыны – наотмашь ударить [КПРС: 402]), ч а каться (257), чуб а чить (261), ч и кать (260) ( Вот целой день б е нгат. Где дверь подправить , где че подколотить ; В подвал полезли , все р е чгали там , все переломали ), по живому существу базд а хнуть (45) (ср. к.-п. базнит-ны – ударить [КПРС: 24]), б у чкать (56) (ср. к.-п. бучкыны – хлестануть, сильно ударить [там же: 46]), ж о гнуть (97) (ср. к.-п. жогйыны – избивать [там же: 142]), здан у ть (107) (ср. бузда-нуть – ударить с силой [Фасмер I: 232]), к о кнуть (123), к о кшить , колотн у ть (124), к о чкать (129), к ы чкать (134), луп а стить (141), мазд а хнуть (144), паздёрнуть (176), т о ньгать (238) (ср. к.-п. тонгыны – бить, звенеть [КПРС: 477]), ч и рснуть (260) (ср. к.-п. чирсны – обмолачивать, дробить, толочь [там же: 538]), шв а хать (160) (ср. к.-п. швангыны – стукнуть, ударить, шлёпнуть; шват – подражание стуку [там же: 555]; шваткыны – стукнуть [там же: 556]), ч а кнуть ( Их надо самих б у чкать , милиционеров-то , они , кто попадёт , дак готовы убить ; Кто хварат , того хлебной лопатой по заду нашв а хают , чтоб не болел больше ; Нат о ньгал соседа , а тот партейный , дак два года дали ).
Характер ономатопов удара позволяет говорить о том, что звукоизобразительной доминантой выступает взрывной согласный ( б енгать (47), б о- б ать (50), чу б ачить (261), б аздахнуть (45), б уч-кать (56), жо г нуть (97), з д ануть (107), маз д ах-нуть (144), паз д ёрнуть (176), к о к нуть (123), к оч-кать (129), к ычкать (134), т оньгать (238).
Помимо ударов различаются звуки трения ( Мало р а шкат старый , ноги вот худо подымат (210), скрипа е ргаmь (94) , и ргать (114) , к а ж-гать (115) , ск ы ркать (222) ( Не и ргай дверьми , закрой ; Мальчишки-то опять ск ы ркать начали ). Ср. к.-п. рашкыны – ходить, еле волоча ноги [КПРС: 401], к а жгать – к.-п. каж – подражание хрусту; кажгыны – хрустеть, грызть, есть с хрустом [там же: 162].
К звукам тела отнесены ономатопы, имитирующие звучания различных частей человеческого тела и внутренних органов: стук сердца бут-бут (56) (к.-п. бут – хлоп [там же: 47]), шум в голове бунч а ть (55), урчание в животе г у ргать (81) (к.-п. гур-гур – подражание урчанию, тарахтению, гудению [там же: 110]), скрип зубов г ы р-скать (81) (к.-п. гырс-гырс – подражание скребущему звуку; гырскыны – грызть, разгрызть [там же: 113]), звук испражнения ч и скать (260) ( Брюхо от голода г у ргат ; Не бегай на улицу , ч и скай давай в ведерко , стужа ).
Наиболее развитой является система голосовых звуков: звуки говорения, пения и рефлекторные звуки. Поле «говорение» подразделяется на несколько субполей.
Говорение как таковое: в о хлить (68), колок о- лить (124) ( Хорошая-то какая , весь концерт с нами в о хлила ; Маленько как вдам , вот и колок о- лю с ней! ).
Артикуляторные и акустические особенности говорения: неразборчивое, невнятное говорение: б о бкать , б о бгать (50) (к.-п. бобгыны – бормотать [там же: 34]), б о ргать (52) (к.-п. боргыны – бубнить, повторять [там же: 37]), б у ркать (55), б у торить (56), б ы ргать (57) (к.-п. быр-быр – подражание невнятному бормотанию [там же: 50]), г ы ндосить (81) (возм., от гундосить , ср. также к.-п. гыны – болтать, молоть чушь [там же: 112]), и ргать (114), л я чкать (144) ( лячкать – жевать, болтать, пустословить; вероятно, звуко-подр. [Фасмер II: 554]; ср. также к.-п. лячкыны – ударить (ладонью) по голому месту [там же: 240]), м у ргать (152) (к.-п. – мургыны – мурлыкать, тихо петь [там же: 258]), т у росить (242) (ср. к.-п. туру-туру – тары-бары [там же: 495]); нарушения в артикуляции ( Кто заёкиватся , слова есть , можно вылечить (100)): заёкиваться (100), с ю ськать (235) ( сюсюка – тот, кто пришепетывает [ Фасмер III: 823 ] ); интонационные и акустические особенности: б о ньгать – говорить возмущаясь (51) (к.-п. боньгыны – ворчать [КПРС: 37]), н ю згать (164) ( Не нюзгай , надоело слушать ); скорость и продолжительность говорения: тр ы нгать (241) ( трынгать – дергать, ономатопоэтическое [Фасмер V: 112]), ч е мить
(258), дж и ргать (87) ( Ч е мит и ч е мит , надоело уж , как точит ).
Говорение, сопровождаемое рефлекторными звуками: смехом: б ы ргать (57), зг а льничать (107), подф у кивать (191) ( Невеста пол метет , над ней б ы ргают , снова бросают деньгами ), плачем, стоном: тур а сить (242) ( Не тур а сь , надоело , деньги нету на конфетки ).
Говорение в значении «сообщение информации». Пустословить: кл о чить (121), лёпать (238), лёпкать (238), л я вгать (143) (к.-п. ляв-ляв – гав-гав, лявгыны – лаять, браниться, кричать [КПРС: 238]), л я згать (143) ( Лязгают бабы , как не надоест ); передавать запретную информации: т е лькнуть (237) ( Я ему велю – ты только не т е лькни , ни-ни ); повторять: нат а ривать (159), тор о скать (239) ( торить – наставлять, внушать [Фасмер IV: 83]; ср. к.-п. торгыны – тараторить [там же: 478]).
Говорение как способ взаимодействия с адресатом и воздействия на него. Звать, привлекать внимание: г а ркать (74) ( Я ее гаркаю , а она как не слышит , идёт и идёт ); взаимодействовать: поб а яться (187) ( Когда язык прикусишь – поб а- ешься с кем-то или разругаешься ); интенсивно воздействовать: а ргаться (44), отч а хать (175), дот у нгать (90) ( Отч а хаю их хорошенько , а то всё бегают ; Всё же-ки дот у нгали мы начальство , денег стали больше платить ).
О повышенном внимании к данной сфере звучания свидетельствует также наличие номинаций человека, мотивированных особенностями речи человека ( Бург у нья она у нас , всё не по ей , всё недовольна (55)).
В поле «говорение» наиболее развиты группы, которые определяют говорение с точки зрения акустических или артикуляторных особенностей. Группы, в которых основной дифференциальной семой является «содержание», онома-топов отмечено значительно меньше.
К голосовым звукам также относится «пение»: выть (72), за у хивать (105), м у ргать (152), к а ркать (117) ( За столом посидят , наедятся , песен за у хивашь , пляшешь ; Я ведь только себе м у ргаю , так-ту не песельница ).
Наряду с голосовыми звуками, производимыми человеком, выделяются рефлекторные звуки. Наиболее развиты в данном субполе группы «дыхание» и «плач». Звук дыхания, несмотря на то что он является тихим, вполне ощутим и осознаваем человеком: вдых а ть (59) ( Жарко беда , вдых а ть нечем даже ), ёхать (95), обрёхнуть (166) ( Пока воду несла , обрёхла ), проп ы шкаться ( Маленько проп ы шкаюсь , потом снова запою ), п ы шкать (206). Звуковой состав единиц фонетически имитирует тяжелое дыхание человека (ср.
межд. ох , пых ) (звукоизобразительная доминанта – глухой фрикативный). О значимости данной сферы свидетельствует наличие ономатопов дых (95), сдых (219) ( Посмотрели , а уеё уж сдыху нету , умерла ), у хи-п ы хи ( Он вышел из бани , в предбаннике сидит – у хи-п ы хи слышно (КА)).
Единицы, характеризующих плач, всхлипы, имеют преимущественно звукоподражательное происхождение: всклёктывать (69), склёкты-вать (221) ( Больно было , но я только всклёкты-вала , не ревела , старалась терпеть ), к а ньгать (116) (см. подражание звукам кошки), к а вкать (251) ( кавка –лягушка, звукоподр. [Фасмер I: 153], ср. к.-п. кав-кав – гав-гав [КПРС: 161]), к е р-скать ( Че он и керскат – видно , болит че-то ), н я вгать (164) (ср. к.-п. нявгыны – ныть, хныкать [там же: 283]), х а вкать (251) ( хавкать – лаять, жадно есть, звукоподр. [Фасмер IV: 215]).
Кроме того, отмечены ономатопы крика: зая-г а ть (106), кр е чкать ( Ребенок закречкат: «Ы-ы-ы» , надо вставать , кормить (130), у жгать ( Детвора-то уж больно ужгат (245), чивизг а (ср. к.-п. чива-люва кывны – визжать [КПРС: 537]); звук, сопровождающий поглощение пищи и воды: ч а мгать (257), ч у рснуть (262) (к.-п. чурскöтны – сосать чмокая, цедить [там же: 549]); кашель: кулик а ть (132); смех: гаг а ра ( Вот гаг а ры-те – смеются над парнем (74)).
Таким образом, можно говорить о том, что лучше всего человек слышит свой собственный голос, самого себя, затем – живых существ, которые его окружают. Остальные звуковые среды представляют меньший интерес, т. к. эксплицированы в языке меньшим количеством единиц (антропофоносфера – 55,1%, натурфоносфера – 5,1%, технофоносфера – 4,3%, музыкофоносфера – 0,5%). Модель звуковой картины мира, в центре которой находится человек, универсальна, так как исследования на материале русского литературного языка и других языков дают похожую картину [Мишанкина 2003: 10]. Различие заключается в особенностях экспликации фоносферы.
Эксплицированная в языке звуковая картина мира русских, проживающих на полиязычной территории, отражает процесс взаимодействия двух разных языков. С одной стороны, многие звукоподражательные единицы (выргать, гыж-нуть, гырскать, кажгать) имеют коми-пермяцкое происхождение (в данной статье это единицы, для которых не было обнаружено аналогов в пермских говорах русских и этимологических словарях русского языка), с другой – некоторые ономатопы функционируют в обоих языках (горгать, кавкать, лячкать), так что достаточно сложно определить, кто и на каком этапе заимствовал ту или иную единицу. Тем самым подтверждается тезис об универсальности ономатопоэтической системы (звукоподражательные единицы, даже если они заимствованы, воспринимаются как естественные, максимально приближенные к сфере окружающих человека звучаний), которая, в свою очередь, основывается на наличии звукоизобразительной доминанты – регулярно повторяющегося элемента, имитирующего значимый признак реального звука.
Assistant in the Department of General Linguistics
Perm State Humanitarian Pedagogical University
Список литературы Экспликация звуковой картины мира русских в полиязычной среде
- Вендина Т. И. Русская языковая картина мира сквозь призму словообразования (макрокосм). М.: Индрик, 1998. 240 с
- КПРС -Коми-пермяцко-русский словарь/Р. М. Баталова, А. С. Кривощёкова-Гантман. М.: Русский язык, 1985. 624 с
- Мишанкина Н. А. Метафорические модели звучания в русской языковой картине мира//Метафорический фрагмент русской языковой картины мира: ключевые концепты/З. И. Резанова, Н. А. Мишанкина, Д. А. Катунин; отв. ред. З. И. Резанова. Воронеж, 2003. Ч. 1. C. 76-145
- СРГКПО -Словарь русских говоров Коми-Пермяцкого округа/Н. Ю. Копытов, И. А. Подюков, А. В. Черных. Пермь: Изд-во ПОНИИЦА, 2006. 276 с
- Пашина О. А. Музыка народная//Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т./под общ. ред. Н. И. Толстого. М.: Междунар. отн., 2004. С. 319-324
- Стефановская С. В. Звуковая картина мира//Вестник Иркутского гос. лингвистического университета. 2009. №4. С. 117-121
- Шляхова С. С. «Другой» язык: Опыт маргинальной лингвистики. Пермь: Перм. гос. политехн. ун-т, 2005. 350 с
- Шляхова С. С. Исследование звукоизобразительности в пермских языках: проблемы и перспективы. Статья первая//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2011. №3. С. 7-16
- Шляхова С. С. Исследование звукоизобразительности в пермских языках: проблемы и перспективы. Статья третья//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2012а. №1. С. 9-16
- Шляхова С. С. Звукоизобразительность в коми-пермяцком языке/С.С. Шляхова, А.С. Лобанова; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. Пермь, 2012б. 297 с
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т./пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачев. М.: Прогресс, 1986-1987
- Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М.: Рус. язык, 1999. Т. 1. 624 с