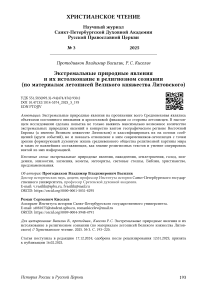Экстремальные природные явления и их истолкование в религиозном сознании (по материалам летописей Великого княжества Литовского)
Автор: Протодиакон Владимир Василик, Киселев Р.С.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История России и Русской Церкви
Статья в выпуске: 3 (114), 2025 года.
Бесплатный доступ
Экстремальные природные явления на протяжении всего Средневековья являлись объектами постоянного внимания и кропотливой фиксации со стороны летописцев. В настоящем исследовании сделана попытка не только выявить максимально возможное количество экстремальных природных явлений в конкретно взятом географическом регионе Восточной Европы (а именно Великом княжестве Литовском) и классифицировать их на потоки сообщений (круги событий), но и показать отношение к ним современниковлетописцев с точки зрения формирующей духовную жизнь средневекового общества религиозной картины мира и таких ее важнейших составляющих, как знание религиозных текстов и умение оперировать взятой из них информацией.
Экстремальные природные явления, наводнения, землетрясения, голод, эпидемии, эпизоотии, затмения, кометы, метеориты, световые столпы, Библия, христианство, предзнаменования
Короткий адрес: https://sciup.org/140312303
IDR: 140312303 | УДК: 551.583(093.3)+94(474/476):930.2 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_3_193
Текст научной статьи Экстремальные природные явления и их истолкование в религиозном сознании (по материалам летописей Великого княжества Литовского)
Roman Sergeevich Kiselev
Postgraduate student at the Institute the History at the St. Petersburg State University.
В сер. XX в. историческая наука переживала великий перелом, связанный в первую очередь с трудами представителей «Школы Анналов»: Фернана Броделя, Люсьена Февра, Жака ле Гоффа. Отныне главным героем исторических изысканий стал обычный человек со своими насущными проблемами. На смену истории политической пришла история повседневности, целью которой было на основании документальных источников реконструировать картину мира людей давно ушедших эпох. И, безусловно, одним из ключевых и основополагающих элементов этой картины являлись природные явления. Не будем забывать, что вплоть до кон. XVIII в. натуральное хозяйство было основой мировой экономики, поэтому роль природного фактора для рядового обывателя была чрезвычайно велика. Наводнения, засухи, нашествия саранчи, длительные дожди, снег и град могли стать причиной невиданных по масштабу бедствий. Если крестьянин вовремя не позаботился о запасе зерна, корма для скотины, других продуктов, его семью ждала голодная смерть.
В документальных источниках XIII–XVII вв. по истории Великого княжества Литовского достаточно часто встречается упоминание различных экстремальных природных явлений. Авторами настоящего исследования сделана попытка на основе выявленных фактов фиксации того или иного природного явления сгруппировать их и проследить их корреляцию (взаимосвязь) с мировоззрением летописца в контексте уже сформировавшейся к тому времени христианской парадигмы. Источниковая база для подобного исследования достаточно обширна, поэтому мы предлагаем разделить все повествования, в которых описываются события, происходившие на обширном пространстве, занимаемом в XI-XVI вв. сначала западнорусскими княжествами, а затем Великим княжеством Литовским, Жемайтским и Русским (кроме того, мы посчитали нужным захватить и XVII в., для данных территорий, по сути, все еще являющийся Средневековьем), на две большие группы. На наш взгляд, будет вполне объективно, если основополагающим критерием для такого деления выступит язык того или иного источника. Первая группа включает летописи (хроники), написанные на древнерусском языке и его диалектах (западнорусское наречие). Ко второй группе отнесем источники, написанные на латинском, польском и немецком языках.
В качестве объекта исследования для данной статьи за редкими исключениями (о них упомянем чуть ниже) выступают источники первой группы. Расскажем вкратце о каждом из них.
«Хроника Литовская и Жмойтская» является частью большой рукописи, написанной, предположительно, в 40-х гг. XVIII в. и найденной В. И. Бугановым в Государственном архиве Тюменской области лишь в 60-е гг. XX в. Впервые она была опубликована в т. XXXII Полного собрания русских летописей (далее — ПСРЛ) в 1975 г. (Хроники, 1975, 15–127). В настоящее время известно о существовании пяти ее списков: Тобольском, Ленинградском, Красноярском, Эрмитажном и Краковском. Причем только первые два переписывались непосредственно с протографа летописи, остальные три являются уже их копиями. Изложение событий в источнике ведется с легендарных времен до 1588 г., когда королем Речи Посполитой стал Жиг-монт (Сигизмунд) III.
«Хроника Быховца» впервые была напечатана в 1846 г. известным литовским историком Т. Нарбутом. Это издание послужило основой для публикации источника в т.XXXП ПСРЛ (Хроники, 1975, 128-173). Отметим, что небольшой отрывок из «Хроники Быховца» был опубликован нашедшим рукопись в библиотеке помещика Александра Быховца учителем Виленской гимназии И. Климашевским еще в 1830 г. Именно эта публикация, а также переписка между Т. Нарбутом и А. Быховцем, обнаруженная в 50-е гг. XX в., доказали, что рукопись действительно существовала, а не была сочинена самим Нарбутом. Источник уникален тем, что русский текст в нем передан в польской транскрипции. Хроника Быховца не имеет ни начала, ни конца, изложение событий в ней начинается с мифического рассказа о бегстве 500 знатных римских семей из Италии в Прибалтику и обрывается описанием разгрома татарских войск под Клецком в 1507 г.
«Баркулабовская летопись» входит в состав рукописного сборника XVII в., хранящегося в Синодальном собрании Государственного исторического музея в Москве. Она впервые была издана П. А. Кулишем в 1877 г., затем неоднократно переиздавалась: М. В. Довнар-Запольским в 1898 и 1908 гг. (с палеографическим описанием и комментариями), Е. Р. Романовым в 1899, 1908 и 1916 гг., А. Н. Мальцевым в 1962 г. (наиболее полная публикация текста), наконец, в т. XXXII ПСРЛ в 1975 г. (Хроники, 1975, 174–192). Летопись написана белорусской скорописью XVII в. Изложение событий в ней начинается с рассказа о Великом сейме в Берести в 1545 г. и заканчивается перечислением трофеев, захваченных королем Владиславом IV при взятии Смоленска в 1635 г.
Небольшая, но крайне важная для нашей темы «Летопись Панцырного и Аверки» была написана в 1768 г. мещанами г. Могилёва Михаилом Панцирным, Гавриилом Аверко и его сыном Стефаном Аверко. До революции она была издана дважды — нашедшим ее А. П. Сапуновым в 1883 г. (в переводе на русский язык) и Киевской археографической комиссией в 1888 г. (в оригинале). В 1975 г. она вошла в состав т. XXXII ПСРЛ (Хроники, 1975, 193-205). Несмотря на то что данная летопись написана на польском языке (с примесью белорусского языка), т. е. относится ко второй группе источников, мы посчитали нужным включить ее в корпус источников ввиду чрезвычайной насыщенности нужными нам сведениями. «Летопись Панцырного и Аверки» начинается с описания основания княгиней Ольгой Витебска в 974 г. и заканчивается событиями 1757 г.
Подробное палеографическое описание всех вышеперечисленных источников (обстоятельства их создания и местонахождение, краткое содержание, внешняя и внутренняя критика источника, филологический анализ) содержится в Предисловии к т. XXXII ПСРЛ (Хроники, 1975, 5–14).
Кроме того, при написании статьи использованы сведения, содержащиеся в малых белорусско-литовских летописях, опубликованных в составе т. XXXV ПСРЛ (Летописи, 1980). Первые четыре из них: Никифоровская, Супрасльская, Слуцкая и Академическая, составляют т. н. Белорусскую первую летопись — наряду с «Хроникой Литовской и Жмойтской» и «Хроникой Быховца», третий крупнейший летописный свод Великого княжества Литовского (см.: [Лурье, 1989, 26]).
Никифоровская летопись является частью рукописного сборника, который хранится в Рукописном отделе Библиотеки Академии наук в Санкт-Петербурге (ОР БАН. 45.11.16. Л. 226–267 об.). Документ написан в основном полууставом XV в., на его полях есть записи чаще всего белорусской скорописью XVI в., но есть также и польские и латинские записи. Рукопись была впервые описана и издана в 1898 г. С. А. Белокуровым и в 1903 г. В. И. Срезневским. В 1980 г. текст летописи включен в т. XXXV ПСРЛ (Летописи, 1980, 19–35). В нем изложены события от легендарных времен до описания борьбы литовских князей Свидригайла и Жидимонта (Сигизмунда) в 1430 г.
Супрасльская летопись является частью рукописного сборника, хранящегося в Санкт-Петербургском отделении Института истории РАН (ИИ РАН СПб. Ф. 115. № 143). Большая ее часть написана полууставом 1-й пол. XVI вв., на отдельных страницах есть записи на старобелорусском, польском и латинском языках. Рукопись была обнаружена в 1822 г. в Супрасльском монастыре М. К. Бобровским и И. Н. Даниловичем. Впервые она описана и издана И. Н. Даниловичем в 1823–1824 гг. в «Виленском дневнике» (текст был набран польским шрифтом, при этом редактор поменял местами части рукописи и опустил ряд летописных фрагментов), затем переиздана отдельной книгой в 1827 г. (с измененным предисловием и дополнениями). На русском языке Супрасльская летопись была впервые полностью опубликована в 1907 г. в составе т. XVII ПСРЛ. В 1980 г. ее текст был включен в т. XXXV ПСРЛ (Летописи, 1980, 36–67). Примерно две трети ее объема занимают сведения общерусского характера (практически полностью совпадающие с Никифоровской летописью), затем следует небольшая географическая вставка из Повести временных лет, далее идут сведения, посвященные преимущественно великому князю Витовту и его борьбе за престол, ряд смоленских известий, наконец, последнюю часть рукописи составляет Летописец князей литовских.
Слуцкая летопись хранится в отделе рукописей Государственного исторического музея в Москве (ОР ГИМ. Собр. А. С. Уварова. № 1381 (153)). Она написана белорусским полууставом 1-й пол. XVI в. Этот источник уникален тем, что является единственной малой белорусско-литовской летописью, дошедшей до нас в виде отдельной рукописи, а не в составе компилятивного сборника. Кроме того, в отличие от других летописей (Никифоровской, Супрасльской, Академической), изложение событий в ней начинается со сведений о Великом княжестве Литовском (лл. 1–76), а уже затем продолжается известиями общерусского значения (лл. 76 об. — 106). Рукопись была приобретена И. П. Сахаровым у учителя Успенского (который предположительно добыл ее у сельского священника в районе г. Слуцка). Сахаров ошибочно посчитал найденный источник Супрасльской летописью (к тому времени считавшейся утерянной). От него рукопись в 1847 г. перешла к А. С. Уварову. Впервые рукопись была описана и частично опубликована А. Н. Поповым в 1854 г. под названием «Летопись великих князей литовских» в 1854 г. Полностью напечатана в 1907 г. в составе т. XVII ПСРЛ. В 1980 г. Слуцкая летопись вошла в состав т. XXXV ПСРЛ (Летописи, 1980, 68–84).
Академическая летопись составляет часть сборника, который хранится в Рукописном отделе Библиотеки Академии наук в Санкт-Петербурге (ОР БАН. 45.11.1. Л. 147-182 об.). Летопись начинается со слов «Михаиловичь и сын его Феодоръ розо-имани быша по суставом» и заканчивается словами: «Того же лета к великому князю Витовту». Текст документа написан полууставом тремя разными почерками и датируется ориентировочно 1-й пол. XVI в. Впервые данный источник описан В. И. Срезневским в 1903 г. в «Отчете о поездке в Олонецкую, Вологодскую и Пермскую губернии», а опубликован в 1907 г. в т. XVII ПСРЛ. В 1980 г. Академическая летопись вошла в состав т. XXXV ПСРЛ (Летописи, 1980, 103–114).
Волынская краткая летопись хранится в Российском государственном архиве древних актов в Москве. Она является частью сборника, написанного в Супрасльском монастыре (РГАДА. Ф. 181. Оп. 1. Ч. 1. № 21/26). Текст документа написан разными почерками, но в основном полууставом нач. XVI в. Летопись начинается с изложения общерусских событий от расселения славян и заканчивая разграблением Москвы Тохтамышем (лл. 1–59), далее идут сведения о событиях, происходящих в Великом княжестве Литовском (лл. 59 об. — 74 об.). Впервые летопись была описана и издана М. А. Оболенским в 1836 г. В 1980 г. Волынская краткая летопись вошла в состав т. XXXV ПСРЛ (Летописи, 1980, 118–127).
Летопись Красинского составляла часть сборника, находившегося в библиотеке графов Красинских в Варшаве. К сожалению, этот документ погиб во время Второй мировой войны. Рукопись поступила в библиотеку Красинских 30 ноября 1833 г. от Константина Свидзинского и была впервые описана А. Брюкнером в 1890 г., а напечатана в 1893 г. А. Ф. Бычковым. У нее нет ни начала, ни конца. Текст документа написан полууставом XVI в., на полях есть множество пометок на старобелорусском и польском языках, написанных полууставом или скорописью. Непосредственно летопись занимает относительно небольшую часть сборника (лл. 64-90 об.). Она начинается со слов «Сталося есть воплощене сына божъего от святого духа...» и заканчивается сообщением 1438 г. о разгроме русских татарами у Мурома и пленением великого князя Василия Васильевича. В 1980 г. летопись Красинского вошла в состав т. XXXV ПСРЛ (Летописи, 1980, 128–144).
Летопись Рачинского составляет часть сборника, хранящегося в Отделе рукописей Библиотеки Рачинского в Познани (№ 94. Л. 225–291). Этот документ был найден в 1846 г. О. М. Бодянским, давшим краткое изложение летописи и в том же году опубликовавшим отрывки из нее. Летопись занимает достаточно большой объем сборника (лл. 225–291). Она начинается со слов «Сталося ест воплощене сына божого от духа святого.», и в целом до 1438 г. почти полностью идентична летописи Красин-ского. Летопись заканчивается сообщением 1548 г. о женитьбе нового короля Сигизмунда II Августа. В 1886 г. А. Брюкнер сделал описание сборника, а в 1907 г. летопись полностью была напечатана в т. XVII ПСРЛ. В 1980 г. Летопись Рачинского вошла в состав XXXV т. ПСРЛ (Летописи, 1980, 145–172).
Подробное палеографическое описание всех вышеперечисленных источников содержится в Предисловии к т. XXXV ПСРЛ (Летописи, 1980, 3–18).
Кроме вышеуказанных летописей мы посчитали нужным изучить и Хронику Яна Длугоша (Длугош, 1973). Этот труд великого польского хрониста написан на латыни, но поскольку имеет чрезвычайную ценность в контексте рассматриваемой темы, в качестве исключения он также добавлен в нашу выборку источников.
Отметим, что многие сообщения о природных явлениях дублируются в нескольких летописях, а в некоторых случаях очевидно, что они просто были перенесены летописцем (зачастую с искажениями, сокращениями и описками) из древнерусских летописных сводов, в частности из Лаврентьевской летописи1. Лаврентьевский летописный свод — один из древнейших письменных памятников по истории народов Восточной Европы, сохранившийся до нашего времени. Именно из этого источника черпали сведения как о легендарных временах, так и о ранней истории народов, населявших искомые территории, летописцы Великого княжества Литовского. Лаврентьевский список находится в Российской Национальной библиотеке г. Санкт-Петербурга (бывшей Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) (ОР РНБ. F.п.IV.2). Он был создан в 1377 г. мон. Лаврентием для суздальского князя Дмитрия Константиновича. Документ содержит 173 листа, написанных двумя разными почерками. До л. 40 рукопись написана уставным почерком в сплошную строку, а с л. 41 текст идет в два столбца и написан полууставом. Свод включает в себя Повесть временных лет (далее — ПВЛ) в редакции нач. XII в. и ее продолжения, излагающие преимущественно события, происходившие в Северо-Восточной (ВладимироСуздальской) Руси вплоть до 1305 г. Отдельные попытки издания некоторых частей Лаврентьевского списка предпринимались в 1804 и в 1824 гг. Полностью же он был напечатан в составе т. I ПСРЛ в 1846 г. При работе над данной статьей мы пользовались изданием, подготовленным историко-археографической комиссией АН СССР в 1926–1927 гг. (Лавр I, 1926; Лавр II, 1927). В некоторых эпизодах были привлечены и данные об экстремальных природных явлениях, содержащиеся в новгородском летописании (Новг, 1950).
Интерпретация природных явлений в письменных источниках народов Восточной Европы в последние десятилетия находится в фокусе внимания многих отечественных и зарубежных исследователей [Борисенков, 1983; Василик, 2016; Гимон, 2011; Гиппиус, 1998; Козловский, 2012; Лаушкин, 1997; Лаушкин, 1998; Пузанов, 2017; Пузанов, 2018; Тарасов, 2014; Шайкин, 2002; Шпаковский, 2016 и др.]. Это позволяет нам сделать вывод о растущей популярности данной темы.
Известия об экстремальных природных явлениях составляют лишь небольшую часть того огромного фактологического материала, которую сообщают нам летописи. На наш взгляд, круг сообщений о них наиболее удачно характеризуется терминами «поток событий» и «круг событий», поскольку, как правило, летописцы не ограничивались лишь фиксацией определенного явления, а зачастую сопровождали его пространными комментариями, иногда высказывая и свое личное отношение к случившемуся (см. об этом: [Гимон, 2011, 142–160]). На основании предложенной Т. В. Гимоном методики предлагаем распределить все выявленные нами известия об экстремальных природных явлениях на потоки сообщений, систематизируя их следующим образом:
-
1) Сообщения о небесных знамениях (кометах и метеоритах, солнечных и лунных затмениях, оптических атмосферных явлениях);
-
2) Сообщения об аномальных изменениях климата (долгая зима, короткое лето, засуха, недород), погодных явлениях и осадках (дождь, снег, град, гром и молния). Наводнения и паводки. Ураганы;
-
3) Сообщения о явлениях биологического характера (эпизоотиях, нашествиях саранчи);
-
4) Сообщения о голоде и эпидемиях;
-
5) Сообщения о землетрясениях.
-
1) Сообщения о небесных знамениях
С точки зрения человека современного небесные знамения сами по себе не являются экстремальным природным явлением, поскольку не несут прямого ущерба людям, хозяйству, окружающей среде. Но для средневекового человека кометы, солнечные или лунные затмения, а также всевозможные оптические эффекты в атмосфере практически всегда были предвестником беды.
Сообщения о небесных телах (кометах и метеоритах)
Самое раннее сообщение о комете в белорусско-литовских летописях мы находим в Волынской краткой летописи под 1028 г.: «Знамение змиево явися на небеси, яко видѣти всии земли» (Летописи, 1980, 118). Оно полностью аналогично сообщению из Лаврентьевской летописи (Лавр I, 1926, стб. 149). Вполне очевидно, что под эпитетом «змиево» летописец имеет в виду комету2. Но есть и альтернативная точка зрения, что в 1028 г. жители Восточно-Европейской равнины стали свидетелями падения аэролита, т.е. обычного метеорита (см.: [Святский, 2007, 188]). Тем более, в отличие от других комет, эта комета не была зафиксирована в иных источниках, кроме древнерусских (и скопировавших это известие русско-литовских) летописей.
Одно из самых известных описаний комет в древнерусских летописях — это сообщение о «кровавой звезде» 1065 г., которое также «перекочевало» в Волынскую краткую летопись из древнерусского летописания: «Бысть знамение на небеси. И на западнѣи странѣ звѣзда превелика, луча кровавы, въсходѣщи с вечера по заходѣ солнечнѣмь, и пребысть за 7 днии. И сеи же проявляшесе не на добро: по всему бо быша усобища многы, нашествие поганых на Русскую землю, сиа бо звезда проявле-шася кровопролитие» (Летописи, 1980, 118; Лавр I, 1926, стб. 163-164)3. Это было очередным появлением на небосклоне в 1066 г. знаменитой кометы Галлея, которая была видима на протяжении достаточно большого промежутка времени в разных частях Евразии, а разница между годом, указанным в ПВЛ, и реальным годом прохождения кометы объясняется ошибкой летописца (см.: [Святский, 2007, 181]).
Сюжет о кровавой звезде, по мнению Д. В. Пузанова, интересен и уникален по двум причинам. Во-первых, он «органично вплетается» в единый комплекс с двумя последующими знамениями: находкой рыбаками в реке ребенка «со срамными удами» на лице и солнечным затмением [Пузанов, 2018, 394]. А во-вторых, это единственный пример в летописании, когда русский летописец, «отыскивая параллели на случившееся в „Хронике“ Амартола, ищет знамения, связанные преимущественно со звездами и рождением необычных детей» [Пузанов, 2018, 398].
Отметим, что похожие эпизоды о знамениях, суливших несчастья, есть и в трудах других византийских хронистов. Так, в «Истории» Феофилакта Симокатты есть схожий сюжет, когда императору Маврикию докладывают о рождении ребенка, у которого «не было ни глаз, ни ресниц, ни бровей, и безобразным образом он был лишен рук. А к бедру у него прирос рыбий хвост» (Феофилакт Симокатта, 1957, 138). И этот эпизод, наряду с небывалым ураганом и гибелью любимого коня Маврикия, стал провозвестником трагического конца императора и его семьи, вскоре убитых повстанцами. Иоанн Малала в своей «Хронике» описывает, как в царствование св. Юстиниана I «появилась на западе большая, внушающая ужас звезда, от которой шел вверх белый луч и рождались молнии… Она светила двадцать дней, и была засуха, убийства граждан в мятежах в каждом городе, и множество других событий, полных зловещих предзнаменований» (Малала, 2014, 1152)4. Аналогичное сообщение мы видим и в «Летописи» Феофана Исповедника (Феофан Исповедник, 1884, 140). Именно эта комета и последовавшая за ней череда знамений и катаклизмов стали предшественниками крупнейшего в истории Византии городского восстания Ника в Константинополе, едва не положившего конец правлению императора Юстиниана.
Для нас же сообщение о комете 1066 г. важно еще и тем, что после поиска подобных явлений в византийских источниках автор уверенно заключает: «Знамениа бо в небеси или в земли, или в звѣздах, или в солнци и лунѣ или етеромь чим не благо бывають; или рати, или глад, или смерть проявляють» (Летописи, 1980, 119; Лавр I, 1926, стб. 164-165). Это самый ранний и, пожалуй, один из ярчайших примеров личного отношения летописца к знамениям. Он показывает нам царившую в то время в массовом сознании устойчивую взаимосвязь эсхатологического характера между небесными знамениями и последующими негативными процессами.
Такое редкое природное явление, как падение метеорита, также нашло отражение в летописях Великого княжества Литовского. Под 1088 г. в Волынской краткой летописи читаем запись (позаимствованную из Лаврентьевской летописи), как киевскому князю Всеволоду «ловы д'Ьющю звЪриныя за Вышегородомь, внезапу спаде преве-ликь змии от небеси, и узасошася вси людие, и земля стукну, яко мнозѣ слышала» (Летописи, 1980, 119; Лавр I, 1926, стб. 214).
В «Летописи Панцырного и Аверки», читаем, что в 1211 г. «Była kometa wielka na niebe. Trawiono dni osiemnaście, maionc ogon roztoczony na zachod słonca. Znaczyła tatar pierwsze weyście do Polski i Rusi, ktorych przed to kometo nie bywało» («На небе появилась великая комета. Она была видна восемнадцать дней, имея хвост, разбросанный к западу от солнца. Это было предвестие перед первым появлением татар в Польше и Руси, которых до этой кометы не бывало»; (Хроники, 1975, 194))5. Описание этой кометы практически полностью скопировано из труда польского хрониста Яна Длугоша: «Cometes stella in mense Mayo eo anno apparuit, que caudam et facem ab oriente dirigens in occidentem decem et octo diebus duravit regionibus Ruthenorum magis propinqua cladem, quam in anno sequenti a ^artaris pertulerunt, portendebat» (Длугош, 1973, 213). Здесь также идет речь об огромной комете, которая появилась в мае 1211 г. и была видна в течение восемнадцати дней с раскинувшимся по направлению с востока на запад хвостом. В данном случае очевидно, что и в том и в другом сообщении речь идет об одной и той же комете и летописец рассматривает ее именно как предзнаменование нашествия татар на Польшу и Русь6.
Следующие два сообщения о кометах похожи тем, что и в том и в другом случае кометы предшествовали страшному голоду. В той же «Летописи Панцырного и Аверки» под 1269 г. читаем: «Testantur dnia 21 stycznia, roku 1269 kometa wyprognostykowała głod w Polszcze tak cienzki, ze matki dzieciom nie przepuszczali, a wilcy glodni ludzuom». («По свидетельствам [очевидцев], 21 января 1269 года комета предзнаменовала голод в Польше, такой худой, что матери не выпускали своих детей, а волки глодали людей»; (Хроники, 1975, 201))7. Схожую картину мы видим в «Хронике Литовской и Жмойтской» в 1320 г.: «Двѣ комѣте в день Рожества Христова, a три месяцы разом указалися, a кометы ажь до остатнего дня месяца лютого палали на небѣ, потом был великий голод в Полщи, в Руси, в Литвѣ и инших краинах прилеглых так, же людем зелия, корѣнья з земли иинших пакармов не ставало, матки и отци убогие дѣти свои ѣлий, иншие трупы умер-лых и розмаитые гнои и плюгавства людские ѣли, и голод незносный свой тым усмира-ли навет: гды ишол хто, любо мужь який сам, обо жона якая, хлопец або дѣвка улицею, выпадали з хат, з дворов иншие люде, хватали и забивали и ѣли. Который то голод двѣ лѣтѣ цѣлых трвал» (Хроники, 1975, 35).
В Супрасльской летописи читаем, что в 1402 г. «Во великое говение месяца марта знамени бысть на небеси: явлъщюся во вечерьную зару на западе звезда велика аки копѣйнымь образомь явльшеся, верьху же ея яко луча сияше, иже на востоце восходящи, на западе лѣтнем явльшеся, юже видихомь все говение великое в пятьницю великую. Идяше та же звезда весь день пред слнцемь, вси ми видихомь ея идуще» (Летописи, 1980, 52)8.
В 1480 г. комета стала предвестником нашествия заволжских татар. Читаем в «Хронике Литовской и Жмойтской»: «Комета великая мижи всходом слонца и полночю през пятнадцеть дний указовалася, що значило присте татар которые зараз потом до Литвы и Подоле заволские татаре, которые з за Волги реки выйшедши и на три войска з царем своим Моняком роздѣлившися, одны до Литвы, a другие на Подоле, третие около Луцка на Волыню великие пустки починили и ввесь край около Каменца, Житомира, Кузмина, Животова и Володимира сплюндровали, але и сами от Стефана воеводы волоского наголову поражены зостали, и мало их велми утекло з царем, a царевичь старший поиман и от волохов зостал розсѣченым на штуки» (Хроники, 1975, 90)9.
В исследуемых источниках, относящихся к территориям, входившим в период с XI по XVI вв. в состав сначала западнорусских княжеств, а затем Великого княжества Литовского, содержатся сообщения о 7 кометах (1028, 1064, 1211, 1269, 1320, 1402, 1480 гг.) и одном падении метеорита (1088). Причем описания первых трех комет — 1028, 1066 и 1222 гг., и описание падения метеорита 1088 г. полностью либо частично взяты из других источников (русских летописей и польских хроник), в то время как известия о кометах в 1268, 1320, 1402 и 1480 гг. являются уникальными. В справочнике Грюмеля отмечены лишь кометы 1028 г., 1269 г. (с датировкой 1268 г.) и 1402 г., которые были видны на территории Руси (очевидно, что автор относил к ней и территорию, занимаемую Великим княжеством Литовским) [Grumel, 1958, 472–474]10. Комета Галлея 1064– 65 гг. отмечена французским ученым как видимая только на территории Европы. Но, читая ее красочное описание древнерусским летописцем, не испытываешь сомнений, что и на территории Руси она была отлично видна. Как мы уже упоминали выше, практически каждое сообщение о комете отождествлено с каким-либо негативным событием (нашествие врагов, рождение уродцев, голод, мор) и составляет с ним единый комплекс.
Сообщения о солнечных и лунных затмениях
Солнечные затмения также можно отнести к природным знамениям апокалиптического характера. В русских летописях есть упоминания о 49 солнечных затмениях, произошедших с 1060 по 1715 гг., что составило лишь 33% от всех солнечных затмений, произошедших за данный период (см. об этом: [Святский, 2007, 80–81]). Упоминания о солнечных затмениях есть и в летописях, которые создавались на землях, входивших в состав Великого княжества Литовского.
Впервые описание солнечного затмения в белорусско-литовских летописях встречается в сообщении из Волынской краткой летописи (практически дословно скопированном из Лаврентьевской летописи), датированном 1064 г.: «Пред сим же временем солнце переменися и не бысть свѣтло, но яко и месяць, его же невѣгласи глаголать: „Сиѣда ему сущю“» (Летописи, 1980, 118; Лавр I, 1926, стб. 164)11. Выше мы подробно рассказывали о связанном с этим затмением комплексе знамений 1064–65 гг. В дополнение отметим, что летописец, отмечая, что «невѣгласи» считают, что солнце «съедено», тем самым противопоставляет их архаичному мышлению более рациональную точку зрения образованных книжников-интеллектуалов, прекрасно знающих, что солнце вернется, как «возвращалось» оно и ранее при подобных явлениях. Следующее сообщение о солнечном затмении в Лаврентьевской летописи отмечено в 1091 г.: «В се же лѣто [бысть] знаменье в солнци, яко погыбнути ему, и мало ся его оста акы месяць бысть, в час 2 дне, месяца маия 21 день» (Лавр I, 1926, стб. 214)12. В Волынскую краткую летопись попал его более краткий вариант в записи от 1088 г.: «Бысть знамение в солнци» (Летописи, 1980, 119).
В западнорусском летописании, освещающем события XII–XIII вв., мы находим всего одно упоминание о солнечном затмении, под 1230 г. в Волынской краткой летописи. На этот раз «компанию» солнечному затмению составило землетрясение: «месяца мая 3 трясеся земля, а 14 солнце померче» (Летописи, 1980, 120; Лавр II, 1927, стб. 454–455; Новг, 1950, 275)13. Таким образом, перед нами вновь два разных по происхождению явления, объединенных летописцем в единый комплекс.
В XIV в. солнечные затмения в летописях Великого княжества Литовского были описаны дважды. В сообщении из Академической летописи под 1365 г. читаем, что «в солнци аки гвоздие черно, а мъгла 2 месяца стояла» (Летописи, 1980, 105)14. А солнечное затмение 1371 г., когда «Того же лѣта быша знамения многа и мъгла велика, за двѣ сажени не видети», упоминается как в Академической, так и в Су-прасльской летописях (Летописи, 1980, 49; Летописи, 1980, 105)15.
Для XV в. выявлено два сообщения о солнечных затмениях. В 1415 г. произошло одно из самых известных солнечных затмений, описанное в целом ряде источников: Никифоровской, Супрасльской, Слуцкой, Академической и Волынской краткой летописях: «В лѣто 6923. Того жь лѣта месяца июня в 7 день, на паметь святого мученика Федота, изьгибе солнце и сокры и луча своя от земля в четвертыи час дни, в год боже-ственыя литоръгѣя, и зьвезды явишася яко в нощи» (Летописи, 1980, 33; Летописи, 1980, 55; Летописи, 1980, 73; Летописи, 1980, 105, Летописи, 1980, 121)16. В астрономическом справочнике Грюмеля это полное солнечное затмение зафиксировано 7 июня 1415 г. В Летописи Красинского и Летописи Рачинского мы видим его несколько иное описание: «Того же году на възвестоване матки божи в понѣделок на страстнои недели было знамя вѣликое: как бы у-в обѣдную пору звѣзды явилися как бы в ночи, слонце потемнѣло, страх был вѣликии на землю Рускую» (Летописи, 1980, 140; Летописи, 1980, 161)17. Обратим внимание на достаточно существенную разницу в датировке этого затмения в разных источниках. Действительно, между одним из важнейших православных праздников — Благовещением, которое отмечалось 25 марта, и днем памяти св. Федота Анкирского, который отмечался 7 июня, разница почти 2,5 месяца. На наш взгляд, здесь имеет место быть ошибка переписчика, который перепутал 7 июня (как было в оригинале сообщения) и 7 апреля. Дело в том, что Благовещение — непреходящий праздник, который по григорианскому календарю отмечается именно 7 апреля. Как уже сказано выше, Летописи Красинского и Рачинского были созданы в XVI в. А переход европейских стран на григорианский календарь начался в октябре 1582 г. Вполне возможно, что переписчик работал ближе к концу столетия и, перепутав апрель с июнем, поставил уже дату 7 апреля по новому стилю. Наконец, в «Хронике Быховца» нас ждет третий вариант описания этого же затмения (ошибочно датированный 1402 г.): «Leto szest’ tysiacznoie dewiatsot desiatoe (r. 1402) m[iesia]ca junia semoho dnia izhibe slonce i pokrylo luczy swoi, treteie hodyny uzszedczu sloncu, kak obedni poiut, y zwezdy iawilisia kak w noczu y swetyli try hodyny» (Хроники, 1975, 149)18. Еще одно затмение в XV в. произошло в 1491 г.: «месяца маия и бысть знамение: в солнци двѣ части изьгибѣ» (Летописи, 1980, 122)19.
Единственное за весь XVI в. сообщение о солнечном затмении мы встречаем в 1544 г. в «Хронике Литовской и Жмойтской» (и оно же дублируется в Летописи Рачинского). Летописец фиксирует «Затмение солнца великое», когда «Яннуария 24 пред полуднем слонце так ся было затмило, же на ножвое тылце тылко его видати было рогами на заход», т. е. в полдень большая часть солнечного диска была настолько темной, что виднелись только серповидные «рожки» по его краям. Далее читаем: «а потом обернулися тые роги на всход слонца и двѣ звѣды, една бѣлая, а другая чирвоная от заходу указалися» (Хроники, 1975, 108–109; Летописи, 1980, 171)20. Это затмение продолжалось «полтары годины», т. е. полтора часа, затем летописец отмечает, что «потым и другое и третее затмене, а так единого року чторыри разы слонце тмилося» (Хроники, 1975, 109). Вновь мы встречаем апокалиптичное число «четыре» (именно столько раз за год, по подсчетам летописца, скрывалось солнце).
Таким образом, в указанных нами источниках за XI–XVI вв. было упомянуто 8 солнечных затмений, из них два относятся к XI в. (1064, 1091), одно к XIII в. (1230), два к XIV в. (1365, 1371), два к XV в. (1415, 1491), одно к XVI в. (1544). Благодаря справочнику Грюмеля мы можем узнать точную датировку того или иного затмения (если она отсутствует в источнике). Так, самое раннее из описываемых в летописях солнечных затмений произошло 19 апреля 1064 г. (см.: [Святский, 2007, 40]). Удивительно, что именно его описание носит подчеркнуто материалистическую трактовку, так резко контрастирующую с описаниями последующих затмений, имеющими несомненный религиозный подтекст (вплоть до прямых цитат из Св. Писания). В подавляющем же большинстве свидетели солнечных затмений воспринимали их в негативной коннотации, скорее как наказание Божие. Лишь вариант из описания солнечного затмения 1415 г. в Волынской краткой летописи «и пакы милосердыи господь свѣт нам дарова», наоборот, предполагает Божию награду после перенесенного испытания.
О лунных затмениях отметим, что в летописях Великого княжества Литовского они зафиксированы в гораздо меньшем количестве, чем затмения солнечные.
На наш взгляд, причина этого может быть в том, что лунные затмения случаются гораздо чаще, чем солнечные (по нескольку раз в год), а потому мы можем предположить, что они не воспринимались средневековыми летописцами как нечто из ряда вон выходящее. Материал по лунным затмениям в летописной традиции Великого княжества Литовского будет вскоре подробно проанализирован в соответствующем параграфе диссертационного исследования Р. С. Киселева. Здесь же остановимся лишь на одном любопытном небесном знамении, которое, очевидно, можно отнести к лунным затмениям.
В Волынской краткой летописи под 1192 г. читаем: «Знамение явися велие на небеси: небо учинишася акы кроваво, и бысть в едину нощь, и потече небо все, бысть черно, по земле же снѣг и по храмом. Мнѣти же всем человеком зряще, яко уже кончина, и видитѣ, яко кров польяну по снѣгу» (Летописи, 1980, 120)21. Очевидно, что это краткая версия пространного описания небесного знамения 1203 г. из Лаврентьевской летописи (Лавр II, 1927, стб. 419). Что это могло быть — лунное затмение или какое-то иное атмосферное оптическое явление, до конца непонятно. Так, по мнению Д. В. Пузанова, в данном сюжете прослеживается описание северного сияния (в нем отражены мифологические представления народов о битве в небесах сверхъестественных сил, чья кровь «орошает» землю, см. подр.: [Пузанов, 2018, 329]).
Но для нас куда важнее отношение очевидцев к этому зловещему небесному знамению. Во-первых, обратим внимание на то, что фразу «Знамение явися велие на небеси» летописец прямо процитировал из Священного Писания, проведя, таким образом, прямую аналогию с Апокалипсисом (Откр 12:1–2). Во-вторых, если обратиться к первоисточнику, т. е. известию из Лаврентьевской летописи, то мы увидим продолжение после слов «по снѣгу»: «и видѣши же нѣции течениє здѣздноє быс̑ на нб҃си. ѡторгахү бос̑ звѣзды на землю. мнѣти видщим ѩ. ѩко кончинү. знаменьѩ бо в небеси. или во звездахъ. или в слн҃ци или в лүнѣ. или єтером чимъ. не на добро бываєт. но знамениѩ сици на зло бывають. или проѩвлѧють рати или глад или смр҃ти проѩвлѧють» (Лавр II, 1927, стб. 419). Автор Лаврентьевской летописи добавляет к описанию фразу о падающих на землю звездах и далее развивает свою мысль о том, что небесные знамения являются провозвестниками бедствий22.
Сообщения об оптических атмосферных явлениях (световых и «огненных» столпах, гало, северном сиянии)
Целая россыпь необычных явлений, которые бы можно было отнести к оптическим, была зафиксирована летописцем в нач. XII в. Так, в сообщении Волынской краткой летописи за 1100 г., практически полностью скопированном из древнерусского летописания, читаем: «Бысть знамение на небеси геньваря 29 по 3 дни: акы пожарьная заря от востока и юга и запада и сѣвера, и свѣтяше всю нощь, акы о луны» (Летописи, 1980, 119; Лавр I, 1926, стб. 276)23.
Одно из самых необычных оптических атмосферных явлений произошло в 1104 г. В Волынской краткой летописи читаем сообщение, также заимствованное из Лаврентьевской летописи: «бысть знамение: стояше солнце в кругу, а посред кресть, а посред креста солнце, а вне круга другаго обаполы двѣ солнци, || а над солнцем кромѣ круга другаго рогама на севѣр, такоже знамение нѣ тим же образом» (Летописи, 1980, 119; Лавр I, 1926, стб. 280). Вопрос о том, что это было за небесное знамение, в настоящее время является дискуссионным. Существует мнение, что это могло быть частичное солнечное затмение [Цыб, 1995, 25]. Но, скорее всего, летописец описал в этом сообщении такое достаточно редкое явление, как солнечное гало (оптическое атмосферное явление, представляющее собой кольцо или свет, который образуется вокруг солнца, когда солнечный свет преломляется от ледяных кристаллов в атмосфере) (см.: [Святский, 2007, 100]).
В 1108 г. «бысть знамение в Печерьском монастыри месяца февруария 11: явися столп огненыи от земля до небести» (Летописи, 1980, 119; Лавр I, 1926, стб. 284). На этом знамении хотелось бы остановиться более пристально, поскольку его подробное описание в Лаврентьевской летописи кардинальным образом отличается от сухого и сжатого сообщения Волынской краткой летописи: «Том же лѣте бысть знаменье в Печерьстемъ монастыре въ 11 день февраля месяца: явися столпъ огненъ от земля до небеси, а молнья освѣтиша всю землю, и в небеси погремѣ в час 1 нощи, и весь миръ видѣ. Се же столпъ первѣе ста на трапезници каменѣи, яко не видѣти бысть креста, и постоявъ мало, съступи на церковь и ста надъ гробомъ Феодосьевым, и потом ступи на верхъ, аки ко встоку лиць, и потом невидим бысть. Се же бѣаше не огненыи столпъ, но видъ ангелескъ: ангелъ бо сице является ово столпом огненым, ово же пламенем» (Лавр I, 1926, стб. 284). Д. В. Пузанов посвятил семантике «огненных столпов» и их трактовке летописцами в восточнославянских письменных памятниках целый параграф в своей монографии [Пузанов, 2018, 291–312]. Для нас важен вывод автора о том, что «на Русь пришел уже готовый образ [огненного столпа], который находит параллели не столько в западной литературе, сколько в житийной и летописной византийской традиции» [Пузанов, 2018, 297]. По мнению Д.В. Пузанова, трактовка «огненного столпа» у древнерусских книжников вплоть до сер. XIII в. носила исключительно положительную коннотацию, в отличие от их византийских коллег (см.: [Пузанов, 2018, 298]). Ко схожим выводам о «добрых» знамениях — «огненных» столпах — приходит и А. А. Шайкин (см.: [Шайкин, 2002, 108]).
В Никифоровской летописи читаем об удивительном видении (оптическом явлении?), явленном перед старейшиной местного племени Пелгусием перед Невской битвой 1240 г.: «Стоящу бо ему при краи моря, стрѣгущу обою пути, и прѣбысть всю нощь в бдѣнии, яко же нача въсходити солнце, и услыша шум страшныи по морю, и видѣ насад грѣбущь, и посрѣде насада стояща Бориса и Глѣба в одеждах чръвленых, и бѣста рукы дръжаста на рамѣх, гребци же сѣдяща аки у млънию одѣяни» (Летописи, 1980, 26). Это сокращенная версия рассказа, позаимствованного из Жития благоверного князя Александра Невского (Житие, 2010, 502). Причем при копировании летописец несколько изменил текст, например «червлёные» (т. е. красные) одежды Бориса и Глеба превратились в светлые. В Академической летописи под 1360 г. сообщается, что «бысть знамение на небеси страшно, яко приходить облаком кровавым во нощех, и се бысть на многи зимы» (Летописи, 1980, 104). Наконец, и в той и в другой летописи отмечается, что в 1370 г. в Новгороде «по многы нощи быша знамения по небу, яко столпы» (Летописи, 1980, 29; Летописи, 1980, 105).
Более подробно рассмотрим небесное знамение, зафиксированное в нескольких источниках в 1541 г. Так, в «Хронике Литовской и Жмойтской» читаем: «Тоеи ж осени октоврия 14 в ночи годин чотыри огнистыи люде на облаках огнистых выдѣни были» (Хроники, 1975, 108). В Летописи Рачинского описание этого знамения еще более интересное: «Месеца октября 10 дня, инъдикта первого, з овторка на середу четвертое годины в ноч бысть знаменье на небеси: явилися стольпы свѣтълые як огонь, многие ходили, много збиралися у-в один столъп великии и розышлися, одны пошли на полъноч и там погибли, а другие пошли на полудень, и тые отшедъшы погибли» (Летописи, 1980, 170). Вполне возможно, что в первом случае летописец — знаток библейских текстов, описывая своих четырех «огнистыи люде на облаках огнистых», сделал отсылку на четырех всадников Апокалипсиса: «и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить» (Откр 6:2); «и вышел другой конь рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч» (Откр 6:4); «конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей» (Откр 6:5); «и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертой частью земли — умерщвлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными» (Откр 6:8). Автор второго сообщения, напротив, дает более приземленное, более «мирское» описание этого явления, из которого мы понимаем, что это, скорее всего, сполохи, или т. н. северное сияние. Но оба летописца так или иначе связывают это знамение с пришедшимся как раз примерно на то же время нашествием саранчи, о чем будет сказано ниже.
Следующие два эпизода, засвидетельствованные летописцами, по-своему уникальны. В «Хронике Литовской и Жмойтской» под 1547 г. читаем, что «войска на обо-локах в ночи видѣны были збройные, которое страшную битву з собой на полночь стоячи зводили» (Хроники, 1975, 109). А в «Летописи Панцырного и Аверки» в эпизоде, комментирующем битву под Берестечком 1651 г., вновь сталкиваемся с «небесным воинством», помогающим одной из сторон: «Pod Beresteczkiem świenty Michał pokazał sie nad woyskiem polskim piorunowa strżało, gonionc Chmielnickiego, gdzie poległo kozakow 30 tysiencey…» («Под Берестечком св, Михаил явился над польским войском с молнией, преследуя Хмельницкого, где пало 30 тыс. казаков»; (Хроники, 1975, 202)). Что это были за знамения — оптические ли природные явления, или облака, напоминающие формой всадников? Вполне уместно предположить, что летописцы, фиксировавшие их, вдохновлялись трудами своих предшественников — античных и византийских хронистов. В частности, сообщением еп. Евсевия Памфила (Кесарийского) о знаменитом видении на небе креста императору Константину в 312 г., ставшем провозвестником триумфальной победы христианства (Евсевий Памфил, 1850, 79)24. А может быть, они вспомнили строки из «Истории иудейских войн» Иосифа Флавия про «мчащиеся сквозь облака колесницы и ряды воинов, которые окружали города» (Иосиф Флавий, 2004, 395).
Всего за рассматриваемый период в источниках описано 9 различных оптических атмосферных явлений (гало, северное сияние, световые «столпы»). Это «пожарная заря» 1100 г., солнечное гало 1104 г., «огненный столп» в Киево-Печерском монастыре 1108 г., видение Бориса и Глеба 1240 г., «кровавое облако» 1360 г., «столпы» в Новгороде 1370 г., «чотыри огнистыи люде» 1544 г., «небесные войска» 1547 г. и явление св. Михаила с «молнией» 1651 г. Исследователи уже давно заметили, что, как правило, небесное знамение в источниках является первым звеном в цепочке последующих событий, и событий, чаще всего, не несущих ничего хорошего. За попытками средневековых летописцев понять связь между знамениями и событиями повседневной жизни «скрыт еще один, менее различимый, но не менее важный для понимания явления в целом слой представлений, связанный с эсхатологическими ожиданиями Средневековья» [Лаушкин, 1997, 15]. На наш взгляд, наиболее емко сформулировал суть восприятия небесного знамения средневековым актором А. А. Гиппиус: «Не являясь само по себе „злым деянием“, затмение или явление „змия“ функционально замещает его, вызывая, как и оно, ожидание грядущего наказания. С другой стороны, еще не представляя собой наказания, такое событие напоминает о его неотвратимости, и таким образом прообразует его» [Гиппиус, 1998, 249].
-
2) Сообщения об аномальных изменениях климата (долгая зима, короткое лето, засуха, недород), погодных явлениях и осадках (дождь, снег, град, гром и молния). Наводнения и паводки. Ураганы
В поле зрения средневекового летописца попадали любые необычные проявления климата (слишком холодная/теплая зима или, наоборот, жаркое/холодное лето); атмосферные осадки, выходящие за привычные временные рамки (слишком ранний снег, сильный дождь или град, сопровождающие их гром и молнии); напрямую связанные с ними паводки и наводнения, а также ураганы. Заметим, что, как правило, все эти явления взаимосвязаны, а потому достаточно сложно отделить, к примеру, сильный дождь от сопутствующего ему грома с молнией или таяние снега в результате оттепели от последовавшего за ним паводка. Поэтому в данном разделе мы будем придерживаться комплексного анализа, описывая интересующие нас природные явления в хронологическом порядке.
Впервые аномальные дожди упоминаются в «Летописи Панцырного и Аверки» в 1220 г.: «Roku 1220. Trzy lata trwaioncy z deszdzow wielkich» («Год 1220. Три года длились непрерывные дожди»; (Хроники, 1975, 203)). Ко всему прочему на территории Великого княжества Литовского существовала развитая речная система — несколько крупных рек: Днепр, Западная Двина (Даугава), Неман; множество средних и мелких рек и речушек. Поэтому паводки и наводнения были достаточно частым явлением. Например, выше мы уже упоминали сюжет из «Летописи Панцырного и Аверки» про Великое наводнение 1310 г. (Хроники, 1975, 203).
В 1314 г. на день Святой Троицы и Пятидесятницу (в тот год он пришелся на 26 мая. — Авт. ) выпал снег и пролежал шесть дней подряд, что, по мнению летописца, привело к отличному урожаю: «W wiliiu zielonych swiontek snieg wielki spadł, szesc dni lezoncy, ktory iuz nad nadzieie wielko obfitosc przyniosl urodzaiow» («В день Пятидесятницы выпал большой снег, шесть дней лежал, что уже сверх надежд принесло большой и обильный урожай»; (Хроники, 1975, 201)). Любопытно, как это сообщение коррелирует со схожим эпизодом в древнерусском «Житии Варлаама Хутынского» под названием «Пророчество Варлаама о снеге и мразе в Петров пост». Однажды новгородский архиепископ Антоний, принимая у себя в гостях основателя Хутынского монастыря старца Варлаама, пригласил его приехать через какое-то время. И Варлаам ответил, что навестит его вновь в пятницу, в первую неделю Петрова поста, и приедет к нему на санях25. Пророчество сбылось, и в этот день в Новгороде ударил мороз и пошел снег. Но, вопреки опасениям встревоженных горожан, холода не только не навредили урожаю, напротив, уничтожили всех вредителей. А следующий день оказался теплым, и растаявший снег напитал влагой «землю и плоды всякия земные» (см. подр.: (Дмитриев, 1973, 17)).
Никифоровская летопись сообщает нам, что в 1370 г. нежданно выпал снег в Новгороде (это сообщение также можно рассматривать в едином комплексе событий со световыми столпами, о которых уже шла речь ранее): «Тогда уполъзну снЪг в НовЪ-городѣ за святым Благовѣщением и засыпа дворы с людьми» (Летописи, 1980, 28). А 1380 г., по сведениям из «Хроники Литовской и Жмойтской», был славен не только Куликовской битвой, но и суровой зимой: «В Лѣтве, в Руси, в Полщи была велми срогая зима, же быдло домовое и звѣры в лѣсах, также и птатство от зимна выздыхало, и дерево в садах овощное все посохло» (Хроники, 1975, 62). Там же под 1424 г. читаем: «В ЛитвЪ и Жамойтах зима такая была теплая надзвычай, звлаща еще в краинах полночных зимных, же в месецу генвару и лютом февралю з подивенем великим фиалки, рожа, огородныи ярыни и сады цвили» (Хроники, 1975, 79). Любопытен эпизод, описанный под 1432 г. в «Хронике Быховца», когда в Великом княжестве Литовском шла гражданская война, армия князя Свидригайла, набранная им на Руси, так и не смогла пройти в Литву. Помешала непогода: «Y bozyieiu woleju pade na zemlu mocza welikaia, zatym ne mohli w zemlu Litowskuiu poyty», а потому «kniaz Szwidrygaylo wozwratywsia wo swoiu zemlu» (Хроники, 1975, 155). В этом сообщении мы видим редкий случай, когда обычно беспристрастный летописец употребляет слова «с Божьей волею», чем оно еще ценнее для нас.
В Супрасльской и других летописях читаем, что в 1443 г. «бысть зима люта и метелица безьперестани с морозом, и мьроша люди мнози по лесомь и по дорогам с великои студени. А снег был великь велми, за многа л4та тако не за||помнять» (Летописи, 1980, 61; Летописи, 1980, 110; Летописи, 1980, 143; Летописи, 1980, 165). А весной вся эта масса снега растаяла: «То и же весны поводь была велика по Смоленску, весь посад понела, мало не дошла вода до Покровскыя горы» (Летописи, 1980, 61; Летописи, 1980, 110; Летописи, 1980, 143; Летописи, 1980, 165)26. По сообщению 1486 г. из «Хроники Быховца», «Toho z leta miesiaca maja druhoho dnia wypał sneh tak weliki, iako moszczno było sanmi iezdyty; toho z misiaca maja dwadcat perwoho dnia wypał sneh w polholeni czeloweku, y była student welikaia welmi» (Хроники, 1975, 163). Теплая погода отмечена летописцем «Хроники Литовской и Жмойтской» зимой 1493 г., правда, закончился этот подарок так же быстро, как и начался: «Зима през всѣ дни стычня и лютого мѣсяца так теплая была, иж сады квитнули, травы были великие, ролли и сеножати зеленѣлися, a потом в марцу 15 дний так срогое ударило зимно, иж що ся зеленѣло, все посхло и внивечь обернулося» (Хроники, 1975, 95).
Тремя годами позже, в 1497 г., турецкое войско вторглось в Подолье, и Сам Господь встал на защиту литовских земель, наслав на «поганых» небывалые морозы, о чем красочно повествует автор «Хроники Литовской и Жмойтской»: «…и не перестали бы были пустошачи воевати, гды бы их бог сам не оборонил, бо перепустил на них великие морозы и снѣги, же отвсюль метелицами огорнены ани далѣй тягнути, a нѣ вернутися могли, где корму коней их и добытков болш ниж 30 000 албо 40 000 поган самых от зимна здохло, и много их потом найдовано, которые биючи кони пороли брухи их, грѣючися теплою кровию, a гды там влѣз, выкидавши внутрности, там же и здыхал» (Хроники, 1975, 99).
В Баркулабовской летописи под записью о событиях 1585 г. читаем про достаточно редкий случай поражения людей молнией: «силный и великий гром забил 12 человек, а трех || человек не знашли, не ведет где ся подели, если вода занесла албо песок засыпал» (Хроники, 1975, 176). Этот год вообще оказался богат на чрезвычайные погодные явления: «перуны и грады великия, сухость, морозы маль не через все лето были у Литве. От великого морозу на поли у колосьи жито посхло, многия домы панов зацных от перунов великих погорели, зиме з морозов и метелицы по дорогам многое множество людей убогих, также и купецких померло. А лете великий жар был: жито, яри, трава, такъже ярины огродныя все погорело у Литве, а звлаща около Менска около Вилни» (Хроники, 1975, 176). На следующий год «на святаго Юря (23 апреля. — Авт. ) мороз, а снег у колена выпал» (Хроники, 1975, 176).
Описание следующих 20 лет в Баркулабовской летописи стало апофеозом концентрации аномальных погодных явлений и всевозможных несчастий. В 1587 году читаем: «Зима была велми снежная, морозы силные, метелицы великие, такъже и весна велми неуставична была: редкий день минул без снегу, аж до святого Юръя… великие дожды кгвалтовные домы подрывали, верхи повзносили, яко через всю иую ноч не засыпали люде, по полям у пастухов статки градом || побило, а в лесе деревем, у князя Головчинского много стир з житом перун пожог, по селам статки мало не вси побив град по полям» (Хроники, 1975, 177). После перечисления, когда и какие сельскохозяйственные культуры сеяли в этом году, летописец подводит неутешительный итог: «тот рок 87 велми был на все згола незрожайный и голодный» (Хроники, 1975, 177).
Стихийные бедствия продолжились и в 1588 г., на современников автора обрушились «неурожай, голоды великие, доро[го]в силная, поветрие, моры, лета непо-годныя незрожайные, праве на все недобро и неспоро было стало» (Хроники, 1975, 178). Здесь мы видим, что летописец, отмечая «у збожью», тем самым подчеркивает, что все эти невзгоды (сопровождавшие политические потрясения, такие как войны Речи Посполитой с Швецией) произошли по воле Божией. Далее автор продолжает: «Того ж року 88, от семое суботы аж до Рожства Христова велми великая была непогода и неуставичность: в лете дожду не было, а у восень снегу не было, только в^тры а дожды» (Хроники, 1975, 178). Год этот отметился и наводнениями, и сильными дождями: «у восень о святом Покрове велми поводок великий был, аж по лугом пошла, праве яко на весне велика была, а до Рожства Христова у Днепре вода прибывала и з берегов выливалася. Року того ж 88, месяца генвара 18, после святаго Афанасия на третий день дожды великие были, аж снег согнало, вправе было яко не веснѣ» (Хроники, 1975, 178).
В 1590 г. также упоминаются «в лете сухость, так зиме морозы силные великие; было так, иж ляда у восень палили» (Хроники, 1975, 178). В 1592 г., напротив, сообщается о чрезвычайно теплой зиме: «дал господь бог видимый знак, иж у восень о Покрове на дереве лист не опал, и был зелен у восень так, як на весне; а на других деревех так и зымовал» (Хроники, 1975, 182). В данном случае у автора нет сомнений, что перед ним факт Божественного вмешательства. В этом же году было зафиксировано достаточно редкое для этих мест погодное явление — ураган: «Року 1592, июня по старому 11 дня, в неделю. Была брань великая, велми страшная… в тых всих по селах и местах и местечках немало збожя попсовала град и буря великая, а на бору, на лесе и по лугом со пчелами дерева бортное, на воде угляды згола, штось троха застала, буря великая поламала» (Хроники, 1975, 182). Чтобы не оставаться голословным и дать понять, насколько разрушительной была стихия, автор Баркулабовской летописи приводит следующий пример: «у водного мужа северскаго бортного дерева сто поломило, у другога двесте, у третего триста, иж страшно о том слышати было» (Хроники, 1975, 182). Даже если несколько скептически отнестись к столь точному указанию количества погубленных деревьев, становится понятным, что буря действительно была впечатляющей!
В 1595 г. читаем про очередную погодную аномалию: «По выеханию козаков и литвы, тогда было зиме: ни зима, ни лѣто, ни осень, ни весна аж до месяца мая, до святаго Афанасия, снегу не было» (Хроники, 1975, 183). То есть фактически до памяти св. Афанасия 2 мая (15 мая по ст. ст.) не было снега. Но через год вновь «зима была люта, снежна, на санех ездили по святе Велебном недели две» (Хроники, 1975, 183). Разрушительными были последствия паводка 1597 г.: «также и вода велми велика была, школу великую низким местом и двором, прудом починила, плоты, также и струбов много порозносила» (Хроники, 1975, 183). В 1598 г. «зима была ма-ласнежная, а пред се рано стала, запором зышла» (Хроники, 1975, 183). В 1599 г. находим описание наводнения в Смоленске: «На весне великая вода была у Смоленску, у замку швырен зрыла, ставов, прудов много попсовало» (Хроники, 1975, 176).
Но настоящие беды были еще впереди. Все началось с того, что в 1600 г. «зима была люта и снежная» (Хроники, 1975, 185). Затем «у самую у восень не по обычаю месяца септеврия 17 дня у волторок от западу силный великий гром был в нас и по всим сторонам велми силно гремел, а также и блискане молони было; а в ночи мороз и в^тер был, а тое было прознаменование — напредЪ будеш читати рок Христа 602, 603; великие болести, хоробы, также войны великие, голод, неврожай силный» (Хроники, 1975, 187).
В 1601 г. «после святого Симеона Столпника ок[тобра] 4 дня снег || великий выпал; прето, што было пашни, ярицы овса, пшеницы, ечмень, горох, боб, то все снегом напало, и великую яри шкоду учинило» (Хроники, 1975, 187). «Летопись Панцырного и Аверки» также подтверждает, что причиной всех последующих бедствий стало небывалое похолодание: «Był głod wielki przez mrozubicie» («Из-за морозов был великий голод»; (Хроники, 1975, 203)). Автор Баркулабовской летописи в который раз напоминает нам, что этим бедствиям в предыдущем 1600 г. предшествовало Божие предзнаменование в виде грома: «Яко ж и знак тому упадку збожю: в року 600 было зле, гром гримев у восень по Воздвижению честнаго креста» (Хроники, 1975, 187).
Далее следует целая страница с описанием тех ужасов, которые пережили несчастные жители Великого княжества Литовского (к тому времени уже ставшего частью Речи Посполитой). Здесь и невиданные по тем временам осадки: «месяца октобра десятого дня, цѣлую неделю снег силний и кгвалтовный ишол, выпал до полголени;
также и буря силная была. Тогда пшеницы ярицы, овес, гречиху, горохи и вси овощы, великое множство ярицы на полях непожатые, также и копы жатые снегом || позаме-тала метелица, иж было жалосно и страшно гледѣти и выповедити уздыханя и плачу людей убогих, пашников немаетных» (Хроники, 1975, 188). И преждевременное замерзание Днепра: «А так лежал тот снег 2 недели аж до Дмитровы суботы; яко ж з великих морозов река Днепр был замерз, и ездили по нем яко серед зимы» (Хроники, 1975, 188). Правда, вскоре Господь сжалился и послал теплую погоду: «А потом за ласкою всемилостивого господа бога для плачу и великого уздыханя снег ростал и река Днепр росплынулся» (Хроники, 1975, 188).
Затем людей ждал страшный недород, когда «маки, горохи, бобы, проса, репа — то все згола погинуло» (Хроники, 1975, 188). Летописец вновь ищет причину несчастий в Божественном вмешательстве: «А тот гнев божий был и непогода, почавши от Менска до Полоцка к Витебску, до Орши, до Мстиславля, до Пропойска, до Рогачова, Могилева, Любошаны» (Хроники, 1975, 188). И опять мы видим сообщение о миграции «множества людей убогих з голоду на Низ з жонами и детками и зъ семею, што иж страшно было не только видети, але трудно было и выписати» (Хроники, 1975, 188). Завершила же этот страшный год «зима злая, снеги великие и силные были морозы», когда «многим людем поморозило кому ногу, кому палцы, другому вид: уши, нос; а другие з морозу померли» (Хроники, 1975, 188).
В наступившем 1602 г. грозные предзнаменования вновь следовали одно за другим: «на Страстной недели во среду гром загримел велми грозный з дождем и з бурею немалою. А то был знак недобрый и праве злый, бо на десятой недели того ж року 602, в четверток великий, страшный был мороз: што было цветов, то все поморозил^ што было огородных речей — капуста, ботвинье, цибуля, маки, горохи, ячмень, ярица, то все мороз побил, чого з великим плачем было видети тых людей голодных, которые толко огороды были засеяли, а жита не починали» (Хроники, 1975, 188).
В 1603 г. люди, бежавшие от голода в предыдущие годы, стали возвращаться в свои дома: «Народ божий з Низу до домов своих назад пошол — великое множество мужей, жон, детей, но еще болши тых было, которые на Низу померли» (Хроники, 1975, 189). «Тот рок 603 велми был сухий, жарки; як был дожд о Дусе Святом, потом о десятой пятницы, а потом на святого Илию (по православному календарю 20 июля. — Авт. ). Того року напал снег месеца ноембра 5 молодика и оттоле стала зима за две недели до запуст Филипповых27» (Хроники, 1975, 189). Далее погодные неурядицы продолжались всю зиму: «А потом мороз, снег, метелица великая была от Юря святаго аж до Крещения; по Крещению святом колко недель великая не-уставичность; так было: если настанет месец молодый, то снег, дожд, буря, метелица, морозы, гололедица, ковзота, студень, иж трудно было выповедати; потом недели третей в пост великий у вовторок в ночы был дожд силный, аж снег согнало и весна стала» (Хроники, 1975, 189).
Очевидно, что все эти несчастья настолько потрясли летописца, что он несколько раз повторял в своем труде: «в тых роках 600, 601, 602 великие силные были незроз-жаи, также голоды, поветрее, хоробы, бо в летех тых бывали лѣтом великие морозы, силгные грады» (Хроники, 1975, 188). А мы вновь обращаем внимание на комплекс событий 1600–1603 г., когда вышеупомянутые погодные аномалии, сопровождаемые всевозможными предзнаменованиями, приводят к страшному недороду, голоду и болезням. Похожая ситуация наблюдалась и в Московской Руси, где голод в итоге стал одной из причин Смутного времени.
Упомянем еще два сообщения об аномальных погодных явлениях. В Бар-кулабовской летописи в известии от 1608 г. вновь упоминаются паводки: «лето было мокрое, поводки были частые, || мало хто при реках великих сена косил, бо и до восени поводки великие были» (Хроники, 1975, 192). И уж совсем фантастическим выглядит следующее сообщение из «Летописи Панцырного и Аверки»
от 1660 г.: «W Szlonsku zas tego ż roku miedzy Odro y Nisso rżekami krwawy deszcz padał» («В Силезии в том же году между реками Одрой и Ниссой выпал кровавый дождь»; (Хроники, 1975, 202)).
Таким образом, по данным исследуемых источников за период XI-XVII вв. выявлено 26 упоминаний об аномальных погодных явлениях: одно из них относится в XIII в., четыре к XIV в., шесть к XV в., восемь к XVI в. (причем все — в последние 15 лет этого столетия) и шесть28 к XVII в. (пять из них — в первые восемь лет этого столетия). Больше всего упоминаний мы находим о необычной погоде (22 случая), о необычных осадках или их отсутствии в течение длительного времени (15 эпизодов), о громе и молнии (5 эпизодов), о наводнениях и паводках (5 случаев) и, наконец, об урагане (1 эпизод). Любопытно, что до кон. XVI в. в летописных сообщениях выявлен всего один эпизод, когда аномальные погодные явления привели к голоду (1220 г., когда три года подряд длились непрекращающиеся дожди), зато начиная с 1587 г. следующие 20 лет были сплошными погодными аномалиями вкупе с голодом и эпидемиями, о которых будет рассказано далее.
-
3) Сообщения о явлениях биологического характера (нашествиях саранчи, эпизоотиях)
Помимо различных погодных аномалий, большой вред предстоящему урожаю могло нанести нашествие саранчи. В рассматриваемых нами источниках сведений о нашествии «прузей» (так именовали саранчу наши предки) в XI–XIV вв. всего два, и оба в Волынской краткой летописи. В сообщении под 1094 г. читаем: «Приидоша прюзи на Руськую землю августа 26 и поядоша всяку траву и многа жита, и не бѣ сего слышано в днех первых в земли Рустѣи, яже видеста очи наши за грѣхы наша» (Летописи, 1980, 119; Лавр I, 1926, стб. 226). На следующий 1095 г. «Второе начадоша прузи августа 22 и покрыша землю, и би видѣти страшно, идяху к полунощным странам, ядуще траву и проса» (Летописи, 1980, 119; Лавр I, 1926, стб. 229). Предполагаем, что автор, будучи хорошо знаком с библейскими текстами, использовал в своем сообщении строки из Ветхого Завета, описывающие восьмую казнь египетскую, посланную Господом на владения фараона, не желавшего отпускать евреев из Египта, а именно нашествие саранчи: « Она покрыла лице всей земли, так что земли не было видно , и поела всю траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле Египетской» (Исх 10:15).
За период XV–XVI вв. в «Летописи Панцырного и Аверки» мы обнаружили три сообщения о «прузях». В 1475 г.: «Szarancza długa na palec z głowami nakształt nietoperzow» («Саранча длиной с палец с головами летучих мышей»; (Хроники, 1975, 202)). В 1536 г.: «Po byciu w Polszcze szaranczy bydło barzo zdychało y odchodziło» («После того, как саранча попала в Польшу, очень много скотины издохло»; (Хроники, 1975, 202)). В 1541 г.: «Szarancza na Wołoszczyznie na dwie mili ziemie okryła, na łokici maionc grubosci, ktora kolo Lwowa mil szczdziesiont wszystko wypaszczy» («Саранча в Волынщи-не покрыла землю площадью в две [квадратные] мили, и толщиной в один локоть, ее было достаточно, чтобы уничтожить все [посевы] под Львовом в радиусе 60 миль»; (Хроники, 1975, 202)). Нашествие саранчи в 1541 г. было столь губительно, что его описание есть и в «Хронике Литовской и Жмойтской», и в Летописи Рачинского: «В 1541 г. саранча великая в Полщи, в Руси и в Литвѣ была, a где на жито, ярину и траву впали, c кореня выгризала (Хроники, 1975, 108; Летописи, 1980, 170). Любопытно, что в последней эпизод с саранчой сопровождается комментарием летописца: «Сее же все сталося для грехов нашых» (Летописи, 1980, 170). Это один из редких для того времени случаев, когда мы видим не просто сухую констатацию факта нашествия «прузей», а именно отношение к нему автора, определенно считающего это явление Божественной карой.
В XVII в. нашествия саранчи по-прежнему были губительны, о чем красноречиво сообщает нам «Летопись Панцырного и Аверки». В 1600 г. «Z Białey Rusi y z Litwy do Polski y Szlonska szaranczu zawitała, a roku 1648 y roku 1652 głod przyniosła cienżki» («Из Белой Руси и из Литвы в Польшу и Слонск пришла саранча, а в 1648 году в 1652 году случился жестокий голод»; (Хроники, 1975, 202)). Следующие летописные сообщения интересны уже тем, что летописец использует степени сравнения, сопоставляя ущерб, нанесенный прожорливыми вредителями разным местностям: «Roku 1690 cienżka, ale roku 1711 na Podlasiu y Rusi Czerwoney ciensza szarancza» («В 1690 году было тяжко, но в 1711 году в Подляшье и Красной Руси было тяжелое [нашествие] саранчи»; (Хроники, 1975, 202)); «Roku 1713. Szarancza w Polszcze była y na Rusi barzo cienżka, na Rusi cienżka, a w Polszcze gorzey była cienżka» («Саранча и в Польше, и в России была очень тяжкой, в России была тяжкой, а в Польше было еще хуже»; (Хроники, 1975, 202)).
Есть в источниках и упоминание об эпизоотиях. Так, в Баркулабовской летописи под 1608 г. читаем: «Того ж року 608 разгневане божее было, много псов устеклых попсовалося, коней и людей много покусали и померли» (Хроники, 1975, 192). Здесь летописец не сомневается в Божественной природе охватившего собак бешенства. Еще одно событие, произошедшее в 1474 г. и описанное в «Летописи Панцырного и Аверки», не вполне относится к экстремальным природным явлениям, но мы посчитали нужным его упомянуть: «W Krakowie na ulicy Świentego Ducha białogłowa porodziła dzieci nieżywe na ktorego grżbiecie wonż zywy trzymał sie, konsaionc y pozeraionc ciało» («В Кракове на улице Святого духа светловолосая женщина родила мертвое дитя, за спину которого цеплялась змея, кусая и пожирая его тело»; (Хроники, 1975, 201)). Возможно, здесь идет речь о каких-то паразитах человека.
Таким образом, по данным исследуемых источников за период XI-XVII вв. выявлено всего 8 известий о нашествиях саранчи: два в XI–XIV вв. (1094 и 1095), четыре в XV–XVI вв. (в 1475, 1536 и два сообщения в 1541 гг.) и два в XVII в. (1600 и 1690). Также найдено единственное упоминание об эпизоотии (1608).
-
4) Сообщения о голоде и эпидемиях
Как правило, в большинстве летописных сообщений голод и мор (моровое поветрие, т.е. эпидемия) тесно связаны как с рассмотренными в предыдущих пунктах экстремальными погодными явлениями, нашествиями саранчи, так и друг с другом. Ниже мы попытаемся проследить эту взаимосвязь на примере летописных сообщений.
Говоря об эпидемиях, нельзя не упомянуть про события, произошедшие в Полоцке в 1092 г. и нашедшие свое отражение как в Лаврентьевской летописи, так и в белорусско-литовском летописании, в частности в Волынской краткой летописи: «Бысть казнь на полочанѣх, чюдо пре||дивно в Полоцьку: въины в мечтѣ, топоть коневыи чюти и копыты видити, пустно стеняше в нощ по улицам, яко во множество, а паки человеци бѣси рьщуще и в дни являхуся и уязвляхуся люди полоцькыи и с того умираху. И аще кто вылязяше и храмины, хотяше видѣти, и уязвени бываху невидимо и умираху, такоже и в областьих. В сия же врѣмена многа знамениа быша, и князем усобица быша рускымь, и нахождение иноплеменник, и взяша половци град Трипесочный Переволок» (Летописи, 1980, 119; Лавр I, 1926, стб. 214–215).
Скорее всего, перед нами сообщение о моровом поветрии, в котором еще проявляются черты архаического сознания наших предков, страшившихся внезапных смертей соотечественников и потому приписывавших эти смерти рукам таинственных «бесов». Д. В. Пузанов, комментируя полоцкую эпидемию, находит в этом летописном известии определенную связь с древнескандинавской мифологией, где неоднократно встречались упоминания о мертвых воинах, скачущих на конях
(см.: [Пузанов, 2017, 22–28]). Мы же, предполагая, что летописец, написавший эти строки, был человеком чрезвычайно образованным для своей эпохи, согласимся с мнением А. Е. Мусина, который видел в «оседланных навиями конях» отсылку к всадникам Апокалипсиса [Мусин, 2005, 190]. Выше, говоря о небесном знамении 1541 г., мы подробно рассматривали похожий сюжет, поэтому уже не будем останавливаться на нем.
Первые упоминания о моровом поветрии и голоде на польско-литовских территориях в XIII столетии мы встречаем на страницах «Летописи Панцырного и Аверки». Так, в 1205 г. «Powietrze było tych lat cienżkie w Polszcze roku 1205» («Поветрие было в те годы худое в Польше в 1205 году»; (Хроники, 1975, 203)). Далее читаем, что в «roku 1211 skonczyło sie trzyletnie cienżkie» (в «1211 году закончилось трехлетнее худородие»; (Хроники, 1975, 203)). Голод был непременным спутником мора: «Gɫod cienżki był w Polszcze tych lat» («Голод великий был в Польше в те годы»; (Хроники, 1975, 203)). В Волынской краткой летописи читаем о море в Смоленске в 1230 г., известном нам по русским летописям29: «Того жь лѣта в Смоленьску сътво-риша 4 скудилници, в дву 16000, а в третеи 7000, а в 4–9 сот. Се же зло бысть под двѣ лѣта» (Летописи, 1980, 120). Выше мы уже рассказали про страшный голод 1269 г., предшественницей которого выступила комета.
В XIV столетии голод и моровые поветрия регулярно и достаточно часто упоминаются в источниках. В дополнении к особой редакции Ипатьевской летописи, повествующей о событиях на Юго-Западной Руси кон. XIII — нач. XIV вв., читаем, что в 1304 г. «былъ въ Польшѣ сильный голодъ по всѣмъ областямъ — такой, что матери ѣли своихъ дѣтей и маленькихъ невольницъ» (БАН, 232). «Летопись Панцырного и Аверки» прямо-таки пестрит сообщениями о голоде и моровых поветриях. Так, в 1310 г. «Z okazyi deszcow y powodzi wielkiey trży letni tak cienżki, że ludzie, dzieci ieść y trupow z szubienic zdientych» («Из-за дождей началось великое наводнение, и три лета было настолько худо, что люди, дети, ели трупы, снятые с виселиц»; (Хроники, 1975, 203)) Такой же голод повторился и через 5 лет: «Taki ż głod» («Такой же голод»; (Хроники, 1975, 203)). Очередное поветрие произошло в «roku 1318 w Prusich, Litwie y Białey Rusi, w Witebsku» (в «1318 году в Пруссии, Литве и Белой Руси, в Витебске»; (Хроники, 1975, 203)). Под 1320 г. в летописи появляется еще одно упоминание о голоде (мы упоминали выше, что его предвестником также были две кометы). В Никифоровской летописи читаем под записью, датированной 1332 г.: «В лѣто 6840. Бысть глад по всеи земли» (Летописи, 1980, 28).
В «Летописи Панцырного и Аверки» читаем про очередной страшный голод, наступивший в 1358 г., когда «Powietrże przez sześć miesioncy prawie połowe polakow wymorżyło naywiencey szlachty y mieszczan maientnych. W samym Krakowie 20 tysency ludzi wymarło» («От морового поветрия за шесть месяцев умерли почти половина поляков, в том числе высшего дворянства и мещан. В одном только Кракове вымерло 20 тысяч человек»; (Хроники, 1975, 203)). Затем беда пришла на русские земли. Согласно сухим строчкам Академической летописи, в 1365 г. «Морь бысть в Новѣгородѣ во Нижнем, на Костромѣ и во Ярославли, и во Ростовѣ» (Летописи, 1980, 105). Мор продолжился и в следующем 1366 г.: «бысть мор силень на люди» (Летописи, 1980, 105). В Никифоровской летописи читаем, что и в 1387 г. «бысть мор силен в Смолень-ску» (Летописи, 1980, 26). В Волынской краткой летописи под 1390 г. имеется запись, что «бысть мор в городѣ30» (Летописи, 1980,121).
С XV в. случаи голода и эпидемий по-прежнему фиксировались в белорусско-литовских летописях регулярно, причем чем дальше, тем они становились более опустошительными. В 1401 г. сразу в трех источниках — Слуцкой летописи, Летописи Красинского и Летописи Рачинского, летописцы отмечают, что «и мор был вѣлик на люди» (Летописи, 1980, 73; Летописи, 1980, 140; Летописи, 1980, 161). В «Летописи
Панцырного и Аверки» под 1404 г. имеется запись: «Z racyi cieńżkiey y długiey zimy, ze ludzie z liścia sobie pożywienie robili i trupow iedli, szli do lasow na pożarcie bestyiom. Na Rusi Białey psi na ludzi porywali sie y iedli» («Зима была настолько тяжка и продолжительна, что люди делали еду из листьев, ели трупы и уходили в леса, на съедение зверям. В Белой Руси собаки нападали на людей и ели их»; (Хроники, 1975, 203)). В Су-прасльской летописи под 1416 г. читаем, что «бысть в Новегороде мор силен железою и в Ладозе, и в Русе, и в Порхове, и в Пъсковѣ, и в Торъжку, и во Твери, и в Дмитровѣ, и по волостемь» (Летописи, 1980, 55)31. В «Летописи Панцырного и Аверки» под 1424 г. летописец пишет, что «tak cienzkie było powietrze, że Władysław Iagełło z krolowo y Witoldem, xionzeńciem w lasach mieszkali» («Настолько худое было поветрие, что Владислав Ягелло с королем и Витольдом, ксендзом, в лесах жили»; (Хроники, 1975, 203)). В Слуцкой и Академической летописях отмечается, что в 1430 г. в Литве «божим повелением паде на землю мочь великаа, за тымь не можаху в Литовьскую землю поити» (Летописи, 1980, 77; Летописи, 1980, 107).
По-видимому, в кон. 30-х — нач. 40-х гг. XV в. небывалый голод вкупе с моровым поветрием вновь охватили литовские земли. Этот голод был настолько страшен, что упоминается практически во всех источниках: «Был голод великии, по селам и по городом звѣры людеи едали, а в городе у Смоленску по мѣсту и по улицам собаки людеи едали, головы, руки и ноги человечые псы по улицам волочывали, люди людеи едали, матки дѣток своих ели от великого голоду, а в пост у велиикии мясо едали по селом и по волостям, а в тот час четверть жыта была по тры копы грошем… и мор был велми великии на люд, иж о таковом страху люди старые не могут паметати» (Летописи, 1980, 143; Летописи, 1980, 164)32. В «Летописи Панцыр-ного и Аверки» читаем, что в 1456 г. «W Gdansku 40 tysioncy wymarło, 36 tysioncy ludzi szło do lasow, a bestyie do wsiow y miast szli, trupy ieść ludzkic[h]» («В Гданьске вымерло 40 тысяч человек, 36 тысяч ушли в леса, а в деревни и города пришли звери, поедая трупы людей»; (Хроники, 1975, 203)). Наконец, в «Хронике Быховца» летописец отмечает, что в 1497 г. «byl holod welikij w zemli Litowskoy y nemocy francuskije na ludy poczalisia mnozyty»; (Хроники, 1975, 166). Это первое упоминание о сифилисе, которое зафиксировано в летописях/хрониках на территории Восточной Европы.
В следующем XVI столетии мы также неоднократно сталкиваемся с упоминанием в летописях голода и эпидемий, например в «Хронике Быховца» в записях о событиях 1504 г. читаем, что был «mor weliki w Mensku, y stoial nemalo po wsey zemli» (Хроники, 1975, 170). В «Хронике Литовской и Жмойтской» также содержится несколько подробных описаний голода и моровых поветрий. Так, в комплексе событий 1544 г. наряду с упомянутым выше солнечным затмением летописец обращает внимание, что «тяжкий был в Литвѣ голод, за решето жита рубль гроший плачено» (Хроники, 1975, 109). Далее читаем, что и в 1564 г. «была великая дорожнета хлѣба в Полщи и в Литвѣ, и голод немалый» (Хроники, 1975, 114). Но особенно выделяется описание голода 1571 г., когда «голод великий был в Полщи и в Литвѣ, же убогие люде стерво здохлое и собак ѣли, наостаток умерлых людей трупы выгребаючи з земли, ѣли и сами вмирали» (Хроники, 1975, 114). Это первая фиксация в источниках не просто случаев каннибализма (что мы можем увидеть и в более ранних сообщениях летописцев), а именно случаев детритофагии, т. е. поедания уже погребенных тел умерших людей. На наш взгляд, это говорит о небывалом характере голода, который поразил даже привыкших к этому современников. Очевидно, что тот же самый голод упоминается и в «Летописи Панцырного и Аверки» под 1570 г.: «W Wilnie 15 tysioncy ludzi umarło z głoda || a u szlachcica iednego zboże w wenże sie obrociło» («В Вильне от голода умерло 15 тысяч человек, а в доме одного дворянина зерно превратилось в пшеницу [т. е. проросло]»; (Хроники, 1975, 203)).
Под конец XVI в. встречается еще несколько упоминаний о моровых поветриях и в Баркулабовской летописи. В 1588 г. «у месте Виленском там у тых краях, такъже у Киеве и на многих странах великий мор был» (Хроники, 1975, 178). Далее читаем, что в 1597 г. «были хоробы, болезни розмаитые, многие, великие» (Хроники, 1975, 183). Практически дословно это сообщение процитировано и в записи на следующий 1598 г.: «Того року были хоробы, болести многие розмаитые» (Хроники, 1975, 184)33.
Отметим, что множество сообщений о голоде и моровых поветриях встречается в летописных источниках и в XVII в. Так, упомянутые выше Баркулабовская летопись и «Летопись Панцырного и Аверки» выступают немыми свидетелями тех потрясений, которые испытала Восточная Европа в начале этого столетия и которые стали предвестниками тяжелейшего периода в жизни как Речи Посполитой, так и Московского государства, вошедшего в историю под названием «Смутное время».
В Баркулабовской летописи читаем под 1601–1602 гг. горестные сообщения: «великие болести, хоробы, также войны великие, голод, неврожай силный; было поветрие албо мор на людей перехожих, множество на Низ идучих; около тысещ 4 з голоду мужей и жон, детей пошло так, иж страшно было видети, иж на улицах, по дорогах, по гумнах, у ровех псы мертвых многих тела ели» (Хроники, 1975, 184). Как уже писали выше, причиной этих бедствий стало небывалое похолодание.
Следующий 1602 г. начался еще большими бедствиями: «коли вже была весна в року 1602, тот наход людей множество почали мерти; по пятеру, по трид||цати у яму [хоронили]. Хворых, голодных, пухлых многое множество, страх видети гневу божого. Там же, которые шли на Низ, тые вси там померли, мало се зостало. А так мерли одны при местах, на вулицах, по дорогах, по лесах, на пустыни, при роспутиях, по пустых избах, по гумнах померли. Отец сына, сын отца, матка детки, детки матку, муж жену, жена мужа, покинувши детки свои, розно по местах, по селах разышлися, один другого покидали, не ведаючи один о другом, мало не вси померли. А коли тот наход у ворот, албо в дому у кого стоячи хлеба просили, отец з сыном, сын со отцем, матка з дочкою, дочка з маткою, брат з братом, сестра з сестрою, муж з жоною, тыми словы мовили силне, слезне, горко, молвили так: „Матухно, зезулюхно, утухно, па-нюшко, сподариня, слонце, месец, звездухно, дай крошку хлеба!“. Тут же подле ворот будет стояти з раня до обеда и до полудня, так то просячи; тамже другий под плотом и умрет» (Хроники, 1975, 188).
Напомним, что бедствия, связанные с неблагоприятными климатическими явлениями и неурожаями, в кон. XVI — нач. XVII вв. испытывало и Московское государство. Читаем в одном из списков Нового летописца — одной из самых значимых русских летописей XVII в., о ситуации в 1600–1602 гг.: «наведе на нас Богъ гладъ велїй бышав дожди великй во все лето… Иже хлѣбу наливающусъ а не зрелу стоящу зелену аки трава на праздникъ же успения Богородицы бысть мразъ велїи и поби хлебъ весь. Итого году еще люди питахуся снувдею старымя хлебомя и новых тою же зяблою рожью а на весну тех же зяблымя овсомя сеяху, чаяху что возрастетя хлебъ же той рдв и овесъ невзошло все погибе въ землй гладъ велїй и купитй негдѣ многїе отцы и мужїе женъ мечали и многїе нача мрети ї бысть того гладу три года. Царь же Борис видя гневъ божїи повеле мертвыхъ людей погребати во убогихъ домехъ ядоша же тогда мнози псину и мертвечину» (Архив, 70–71).
Как обычно, где голод, там и болезни, которые не заставили себя долго ждать: «Того ж року 602, веснѣ и летѣ на люди были з божого допущеня хоробы великие, горючки, бегунки; по местах, по селах много малых деток померло» (Хроники, 1975, 189). Мы видим, что для создателя Баркулабовской летописи, вне всякого сомнения, Господь вновь являет Свой гнев, насылая на людей болезни. В 1603 г. «в месте Виленским, в Менску, у Радо||шковичах, на Орши, у Шклове и по инших многих замках было поветрее великое в пост Филипов; а в которых замках поветрее не было, в тых местах по дорогах, по улицах страж великую день и ночь мевали аж до Рожства Христова; а пред се господь бог тых в целости здравых заховал» (Хроники, 1975, 190). В «Летописи Панцырного и Аверки» также упоминается о моровом поветрии 1603 г.: «Powietrze grossowalo w Witebsku y po ynszych miastach» («Мор свирепствовал в Витебске и иных местах»; (Хроники, 1975, 194)). Далее мы убедимся, что сообщения 1600– 1603 гг. о голоде и болезнях вкупе с множеством природных явлений (суровые зимы, громы и молнии, сильный снег в неурочное время года и др.) составляют единый комплекс связанных друг с другом событий.
В 1608 г. все в той же Баркулабовской летописи упоминается эпидемия оспы: «того ж року 608 много деток малых з воспы померло» (Хроники, 1975, 192). В «Летописи Панцырного и Аверки» в 1655 г. сообщается о том, что «Wielkie w Polszcze grossowało powietrże, tak dalece, ze w samym Krakowie 36 tysiency ludzi wypadło. Nie było iuż komu chować» («В Польше свирепствовало большое поветрие, настолько [большое], что только в Кракове умерло 36 тысяч человек. Некому было спрятаться»; (Хроники, 1975, 202)).
В настоящее время часть исследователей связывает череду этих аномальных погодных явлений с извержением перуанского вулкана Уайнапутина 19 февраля 1600 г., последующим глобальным понижением температуры на 1–2 градуса и еще рядом факторов. Суть этой гипотезы в том, что при любом даже самом незначительном колебании температуры резко падает производительность сельского хозяйства, бывшего в то время основой экономики. И падение это коррелирует с резким ростом численности в XV–XVI вв. населения Европы, уже вступающей в новые капиталистические отношения. Неурожаи 1600-1603 гг. привели к тому, что крестьяне — основные производители продуктов питания (в первую очередь зерна), были просто не в состоянии прокормить ни самих себя, ни остальное население34.
Отметим, что и в летописях XVIII в. также постоянно упоминаются голод и моровые поветрия. Например, в 1704 г. «We Lwowie dziesieńć tysiency ludzi wymarło, zkond powietrże po Polszcze kilka lat grassowało» («Во Львове вымерло десять тысяч человек, моровое поветрие по Польше несколько лет свирепствовало»; (Хроники, 1975, 203)). Но это уже тема для отдельного исследования.
Таким образом, по данным исследуемых источников за период XI-XVII вв. выявлено 16 сообщений о голоде: три относятся к XIII в. (1211, 1220, 1269), пять к XIV в. (1304, 1310, 1315, 1320 и 1332), два к XV в. (1404 и 1436–38), четыре к XVI в. (1544, 1564 и 1570– 1571), два к XVII в. (1600 и 1602) и 25 сообщений об эпидемиях. И лишь одно из них (моровое поветрие в Полоцке) относится к XI в. В XII в. записей про моровые поветрия в источниках не найдено. В XIII в. имеется два сообщения (1205, 1230), в XIV в. шесть (1318, 1358, 1365, 1366, 1387 и 1390) и в XV в. также шесть сообщений о моровых поветриях (1401, 1416, 1424, 1430, 1436–38 и 1456) и одно сообщение о сифилисе (1497). К XVI в. отнесем четыре сообщения (1504, 1588, 1597 и 1598), к XVII в. — пять сообщений (1600, 1602 и 1603, 1608, 1655).
-
5) Сообщения о землетрясениях
Что касается такого редкого для этих земель экстремального природного явления, как землетрясение, впервые упоминание о нем мы находим в Лаврентьевской летописи под 1091 г.: «В се же время земля стукну, яко мнози слышаша» (Лавр I, 1926, стб. 214). В Волынской краткой летописи отмечено, что в 1230 г. «месяца мая
3 трясеся земля, а 14 солнце померче» (Летописи, 1980, 120)35. По данным нескольких летописей (Никифоровской, Слуцкой и Академической), в 1353 г. произошло землетрясение в Константинополе, когда «бысть трус во Цариградѣ, 148 полата падоша, а иных множьство двиглося, а по странам град изъ снованиа извергошася» (Летописи, 1980, 29; Летописи, 1980, 47; Летописи, 1980, 104). В 1445 г. произошло землетрясение, также описанное в нескольких источниках (Супрасльская, Слуцкая и Академическая летописи): «перед покровомь за две недели поколи||башася земля в нощи, яко колыбель колибалися храмины» (Летописи, 1980, 61; Летописи, 1980, 79; Летописи, 1980, 110).
Свое отражение в литовских летописях нашло и знаменитое стамбульское землетрясение 1509 г. Так, в «Хронике Литовской и Жмойтской» читаем: «Того ж року великое и страшное было земли трасене в Трации, в Босенском и Далматском пан-ствѣ, и ве Влошех, и в Константинополю, так будованя аж падали, a цесарь турецкий Баязет, боячися в мурах мешкати, на поле вытягнул и там час долгий в наметах стоял. Вежи три, также палац Константина Великого в той час упал и Святой Софии церкви упала половица» (Хроники, 1975, 103).
Таким образом, по данным исследуемых источников за период XI–XVII вв. выявлено всего 5 известий о землетрясениях: по одному в XI (1091), XIII (1230), XIV (1353), XV (1445) и XVI (1509) вв. И это вполне ожидаемо, поскольку Восточная Европа в целом, как и земли, вошедшие в территорию Великого княжества Литовского в частности, не относятся к сейсмоопасным регионам планеты. И три из описываемых пяти землетрясений вообще произошли в других странах, а летописец явно не был их очевидцем. Возможно, поэтому в сообщениях про эти землетрясения мы не наблюдаем ни личного отношения летописца к происходящему, ни отсылок к библейским текстам.
Вывод
Подведем некоторые итоги нашим изысканиям. Всего в рамках данной статьи было проанализировано 14 различных летописей и хроник. Из них Лаврентьевская летопись и Новгородская I летопись являются общерусскими летописными сводами и написаны на различных диалектах древнерусского языка. Одиннадцать источников относятся к т. н. белорусско-литовским летописям, девять из которых написаны на западнорусском наречии древнерусского языка, а две — на польском языке: «Хроника Быховца» (здесь имеет место быть лишь передача текста в польской транскрипции) и «Летопись Панцырного и Аверки». Как уже было сказано выше, в качестве исключения нами был привлечен один источник, написанный на латинском языке, а именно польская «Хроника Яна Длугоша».
В рамках исследуемого периода XI–XVII вв. выявлено больше 180 сообщений об экстремальных природных явлениях. Количество это существенно выше количества самих явлений, поскольку многие сообщения дублируются в нескольких источниках.
Отметим также, что зачастую природное явление выступает во взаимосвязи с предшествующим ему либо, наоборот, следующим за ним знамением. Так, вслед за сообщением о сильнейших морозах, погубивших татарско-турецкое войско, мы видим информацию о рождении теленка с двумя головами, восемью ногами и хвостом посередине спины (Хроники, 1975, 79). Сейчас уже сложно сказать, действительно ли это была мутация, или авторская интерпретация библейского текста, где говорилось об апокалиптическом звере «с семью головами и десятью рогами» (Откр 13:1). Похожая мутация зафиксирована и в 1660 г.: «Tego ż roku woł sie urodził o dwu głowach, o siedmiu nogach» («В том же году родился вол с двумя головами и семью ногами»; (Хроники, 1975, 202)). Солнечное затмение 1415 г. последовало за пожарами в Москве и Смоленске либо предшествовало им (Летописи, 1980, 55; Летописи, 1980, 140). Вслед за «Великим солнечным затмением» 1544 г. «тяжкий был в Литвѣ голод, за решето жита рубль гроший плачено» (Хроники, 1975, 109). Выше уже обращалось внимание на очевидную связь нашествия саранчи в 1541 г. с небесным знамением четырех «огнистыи люде на облаках огнистых». За период XI–XVII вв. таких «комплексов», т. е. лет, когда небесное знамение (комета, солнечное затмение, световые оптические явления либо же иное атмосферное явление) было бы связано с экстремальными природными явлениями (недород вследствие аномальной погоды и последующие за ним голод и моровые поветрия, нашествие саранчи, наводнение, землетрясение и т. д.), насчитывается порядка 20–25.
Мы попытались не только выявить в источниках все сообщения об экстремальных природных явлениях и распределить их по группам (потокам) сообщений в соответствии с методикой, предложенной Т. В. Гимоном, но и проанализировать отношение к ним современников. Действительно, к некоторым сообщениям в том или ином источнике автор добавляет свой комментарий. Всего в исследуемых летописях нами выявлено около 20 таких комментариев. И абсолютное их большинство трактует природу того или иного явления с точки зрения Божественного вмешательства. «В лунных и солнечных затмениях, пролетах комет, неясных огненных явлениях в атмосфере и т. п. люди Средневековья непременно видели „перст Божий“» [Шайкин, 2002, 109]. По мнению А. В. Лаушкина, для понимания, познания этой Божественной воли средневековыми летописцами «тяжкие несчастья, ниспосылаемые на людей за их грехи, и загадочные явления, происходящие время от времени „на небеси и на земли“, заслуживали не меньшего внимания, чем судьбы правящих династий, жестокие битвы с иноплеменниками и факты церковной истории» [Лаушкин, 1998, 26].
Иногда, по мнению летописца, Господь может быть милостив: Он останавливает солнечное затмение, даруя людям свет (Летописи, 1980, 121), посылает дожди, останавливая войско князя Свидригайла, намеревавшегося разорить Литву (Хроники, 1975, 155), спасает польско-литовские земли от турецкого нашествия (Хроники, 1975, 99), дарует настолько теплую зиму, что листья даже не облетают с деревьев (Хроники, 1975, 182), освобождает Днепр от неожиданно сковавшего его льда (Хроники, 1975, 188).
Но куда чаще Бог суров к своим чадам и посылает им всевозможные бедствия и напасти. Например, летописец может объяснять происходящие несчастья — недород, пожары, засуху и морозы — Божественным вмешательством: «многа множества страшных и великих чудес господь бог оказати рачил» (Хроники, 1975, 176). Или сокрушаться о том, что разорительное нашествие саранчи ниспослано свыше: «Сее же все сталося для грехов нашых» (Летописи, 1980, 170). И прямо писать о том, что «хоробы великие в веснѣ и летѣ на люди были з божого допущеня» (Хроники, 1975, 189). И при этом соглашаться с необходимостью подобного наказания. Что это, как не очередная вариация т. н. теории казней Божиих, когда «Божья кара должна способствовать в первую очередь исправлению религиозного, нравственного состояния общества» [Мильков, 2000, 51]36? Впрочем, иногда Господь посылает предзнаменования людям, желая предупредить их о предстоящих испытаниях. В этом мы согласимся с мыслью А. В. Лаушкина, что по представлениям средневековых книжников (а следовательно, и их современников, т. к. фигуру летописца-книжника нельзя рассматривать в отрыве от социума и исторического контекста окружающей его действительности), «знамение — это не фатальный знак неизбежного, а одно из средств, использующихся Богом для спасения людей» [Лаушкин, 1997, 15]. Выше уже упоминалось о великом громе в 1600 г., ставшем предзнаменованием предстоящих погодных аномалий, голода и болезней из комплекса событий 1600–1603 гг. (Хроники, 1975, 187). Для нас очевидны параллели, которые летописцы, несомненно, обладавшие глубокими познаниями в библейских текстах, могли провести между природными явлениями, происходившими у них на глазах и, например, следующими словами из Священного Писания: «И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный» (Иоил 2:30–31).
Разумеется, в данной статье нами затронута лишь небольшая часть материалов, посвященных экстремальным природным явлениям на территории Восточной Европы. Для их детального анализа и проработки потребуется гораздо более длительное время.