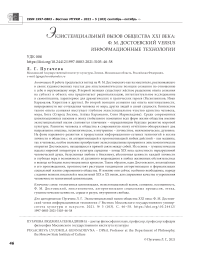Экзистенциальный вызов общества ХXI века: Ф. М. Достоевский versus информационные технологии
Автор: Пугачева Л.Г.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 5 (103), 2021 года.
Бесплатный доступ
В работе предлагается взгляд на Ф. М. Достоевского как на мыслителя, реализовавшего в своих художественных текстах две эпистемологические позиции сознания по отношению к себе и окружающему миру. В первой позиции существует жёсткое разделение опыта сознания на субъект и объект; она предполагает рационализацию, интеллектуальное исследование и самоописание, характерное для драматических и трагических героев (Раскольников, Иван Карамазов, Кириллов и другие). Во второй позиции сознания как опыта континуальности, непрерывности нет отчуждения человека от мира, других людей и своей сущности. Контекстом такого опыта сознания выступает глубокое экзистенциальное чувство единства человека, мира, Бога (Старец Зосима, Алёша Карамазов, Соня Мармеладова). Среди современных цивилизационных вызовов в эпоху глобального изменения всех форм жизни общества именно экзистенциальный вызов становится ключевым - определяющим будущее развитие мировой культуры. Развитие человека и общества в современную эпоху отчётливо обнаруживает два направления: внешнее, технологическое, и внутреннее - личностное, межчеловеческое, духовное. На фоне взрывного развития и прорастания информационно-сетевых технологий в жизнь личности и общества с их алгоритмизацией и протоколизацией любых действий - как машины, так и человека, особое значение приобретают экзистенциальные прозрения и эпистемологические открытия Достоевского, находящиеся в прямой связи между собой. Их основа - гуманистические идеалы мировой литературы и культуры середины - конца ХIХ века: целостность неразрушимой человеческой души, безусловная любовь к ближнему, абсолютная ценность каждой личности и глубокая вера в возможность её духовного возрождения в любых жизненных обстоятельствах и выхода из бездны экзистенциальных кризисов. Таким образом, идеи Достоевского, воплощённые в его произведениях, противостоят растущим тенденциям алгоритмизации и формализации социальной жизни современного общества. И именно они сейчас особенно необходимы, наряду с идеями великих писателей и мыслителей ХIX и ХХ веков, для сохранения качества и укрепления человечности техногенной цивилизации.
Техногенная цивилизация, экзистенциальный вызов, сознание, осознанность, ф. м. достоевский, эпистемология, алгоритмизация социальных процессов, этика, гуманистические ценности, сердце и разум, внутренняя свобода
Короткий адрес: https://sciup.org/144162316
IDR: 144162316 | УДК: 008 | DOI: 10.24412/1997-0803-2021-5103-46-58
Текст научной статьи Экзистенциальный вызов общества ХXI века: Ф. М. Достоевский versus информационные технологии
В данной работе предлагается нетрадиционный взгляд на Ф. М. Достоевского – не как на писателя – предтечу экзистенциализма, религиозного философа или психолога, открывшего читателю глубинную жизнь сознания, а как на мыслителя, реализовавшего в своих художественных текстах две эпистемологические позиции, в которых принципиально может находиться сознание по отношению к себе и окружающему миру.
В первой позиции у личности есть «чувство» разделения опыта сознания на субъект и противопоставленный ему объект, соответственно, она предполагает исключительно концептуальное отношение к реальности, рационализацию, интеллектуальное описание – и это переживающие внешний и внутренний конфликты, часто глубоко несчастные герои-идеологи (Родион Раскольников, Иван Карамазов, Великий Инквизитор, Николай Ставрогин, Пётр Верховенский, Алексей Кириллов). Вторая позиция близка некоторым современным философским трактовкам созна- ния как континуальности, «непрерывного континуума сознания» [9, с. 267]1. Речь идёт о непрерывности, конечно, имеющей полюса – самосознания и сознания мира, но в которой нет отчуждения человека ни от мира, ни от своей сущности. Наоборот, контекстом такого «чувства» реаль- ности выступает переживание единства, целостности опыта сознания – личности героя, других и окружающей реальности (Старец Зосима, Алёша Карамазов, Лев Николаевич Мышкин, Соня Мармеладова).
Однако прежде чем приступать к анализу идей Достоевского, рассмотрим современный культурный контекст, в котором требуется подобное прочтение текстов гениального русского писателя.
Сегодня техногенная цивилизация пе- реживает кризисы культурных парадигм – через обострение противоречий между экономико-политическими порядками, религиозными идеологиями, информационными средами и национальными мента-литетами, новыми культурными и социальными практиками. Мы живём в эпоху цивилизационных вызовов различной природы и уровня – как глобальных, так и локальных, информационных, социальных и природных, биологических. Одно несомненно – вызовы ХXI века носят всепроникающий характер и по сути становятся уже режимами функционирования и факторами трансформации социальных систем любого уровня. И необходимо признать в связи с этим, что высокая степень неопределённости, в которой пребывает мир, а также очевидная алгоритмизация и формализация важнейших социальных практик (в коммуникационной, финансово-экономической, административно-управленческой, производственной и других областях) уже стали очевидными пара- дигмальными чертами нового складывающегося миропорядка.
Естественно возникает вопрос: а как далеко может зайти неопределённость, неустойчивость – социальная, аксиологическая и метафизическая безосновность современного мира, наряду с явной тенденцией к алгоритмизации и автоматизации многих важных социальных практик? И как эти культурно-исторически уже взаимосвязанные неопределённость и форма- лизация влияют на понимание того, что такое человек и каким должно быть человеческое общество, чтобы оставаться именно «человеческим» и «человечным»?
Не углубляясь в специально философский или социально-исторический анализ, обратимся к ответу на вопрос, что такое человек, который Достоевский дал более полутора веков назад в письме брату Михаилу, поскольку, на наш взгляд, ответ великого писателя носит вневременной и общекультурный характер: «Человек есть тайна. Её надо разгадать, и ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком» [2, c. 20–22]. В существующей традиции исследований текстов Достоевского принято говорить об оппозиции рационального и иррационального (мистического), относя подобные формулировки к области иррационального – того, что буквально находится за пределами сознательного, ясного, разумного понимания. Однако в свете совре- менных исследований сознания как континуума [8], открывается возможность иного рассмотрения природы подобного опыта.
Сознание в этом смысле понимается как пространство ясного понимания – осознанности – области, в которой разворачиваются любые дуальности и оппозиции, в частности, оппозиция рационального и иррационального, «разума» и «сердца», говоря словами Достоевского. И это пространство осознанности понимается как территория разума – традиция, на становление которой в ХХ веке повлияли лингвистика, философия и психология ХХ века. (В частности, работы лингвистов и философов А. Коржибски и Н. Хомского, эпистемолога Гр. Бейтсона, радикальных конструктивистов Э. фон Глазерсфельда, П. Вацлавика, У. Матураны, Х. фон Фёрстера; психологов и психотерапевтов М. Эриксона, В. Сатир, Ф. Перлза. Но это тема отдельного исследования.)
Для нас важно, что данный междисциплинарный подход рассматривает разум в двух его аспектах: вербально-логическом, имеющем выражение в знаковой системе, и континуальном, связывающем «текст» и «прагматику» (контекст, условия функционирования знаковых систем), традицию выделения которой заложил Ч. У. Моррис.
В рамках подобного понимания мышление, порождающее текст, мышление как осознанное движение к определённой духовной цели (контекст, своеобразная «прагматика») оказывается шире своего вербально-логического аспекта (текста). И это было понятно Достоевскому уже на ранних этапах его становления как мыслителя: « Чтоб больше знать, надо меньше чувствовать, и обратно, правило опрометчивое , бред сердца. Что ты хочешь сказать словом знать ? Познать природу, душу,
Бога, любовь ... Это познаётся сердцем, а не умом. Ежели бы мы были духи, мы бы жили, носились в сфере той мысли, над которою носится душа наша, когда хочет разгадать её. Мы же прах, люди должны разгадывать, но не могут обнять вдруг мысль. Проводник мысли сквозь бренную оболочку в состав души есть ум. Ум – способность материальная ... душа же, или дух, живёт мыслию, которую нашептывает ей сердце ... Мысль зарождается в душе. Ум – орудие, машина, движимая огнём душевным ... Притом ум человека, увлёкшись в область знаний, действует независимо от чувства, следовательно, от сердца. Ежели же цель познания будет любовь и природа, тут открывается чистое поле сердцу ... Философию не надо полагать простой математической задачей, где неизвестное – природа ... Заметь, что поэт в порыве вдохновенья разгадывает Бога, следовательно, исполняет назначенье философии … Следовательно, философия есть та же поэзия, только высший градус её !..» [3, с. 13–16].
На вольном, не научном – поэтическом языке ХIХ века писатель доносит до нас, по сути, эпистемологическое прозрение: «мысль», которая «зарождается в душе» – глубинное свойство сознания, его основа. Она – акт познавательного движения к благородным целям философского уровня: природы, любви, Бога. Такое действие сознания выходит за рамки работы разума в узком смысле слова, но включает в себя разум поэтический, разум сердца и является, на наш взгляд, высшей фундаментальной разумностью для Достоевского.
Именно такая разумность – осознанность, то есть постоянная духовная связь человека с высшим контекстом – в каждой повседневной ситуации с другими людь- ми и нравственными ценностями и целями жизни – и есть то, чем интересен и необходим Достоевский современному миру.
Поэтому в данной статье мы обращаемся к идеям Достоевского, чьё влияние на мировую культуру, а через неё на самосознание личности в современном обществе неоспоримо. Известная фраза писателя из письма А. Н. Майкову «Самопознание – это хромое наше место, наша потребность» [4, с. 386], хотя не является программным философским заявлением автора, по сути, отражает его общефилософскую и литературную позицию: его герои всегда и в первую очередь осознанны – погружены в самопознание. Решая экзистенциальные, политические, религиозные и психологические вопросы, в любой даже бытовой ситуации они выходят на универсальный, бытийный уровень. Именно благодаря попыткам понимания всеобщей взаимозависимости причин и следствий, ограничивающих (внешних, социальных) и освобождающих (общечеловеческих, внутренних, экзистенциальных) условий выбора герои Достоевского пытаются совершить переход от обусловленности, связанности наличной ситуацией, к свободе, которую приносит осознанность. Герои осознают себя в духовном родстве с целым мироздания, с творением и Творцом.
Такие ключевые для философии, литературы и культуры ХХ века фигуры, как Ф. Ницше, К. Гамсун, Э. Хемингуэй, В. Вульф, Г. Гессе, Ф. С. Фицджеральд, Т. Манн, С. Моэм, С. Цвейг, Ф. Кафка, Ж.-П. Сартр, Ч. Буковски и другие писатели и философы, были внимательными читателями Достоевского, признававшими его влияние. Приведём здесь слова Д. Керуака, являющиеся, вероятно, определённой фокусирующей линзой влияния творчества
Фёдора Михайловича на мировую культуру второй половины ХХ века, вне зависимости от её конфессиональной, внекон-фессиональной или позитивистски научной идентичности: «Я думаю, что величие Достоевского – в признании существования человеческой любви. Шекспир не проникся глубоко этим пониманием, остановленный гордостью, как и все мы. Достоевский в действительности посланник Христа, и для меня – проповедник современного Евангелия. Его религиозный пыл проникает за факты и детали повседневности, поэтому он сосредотачивает внимание не на цветах и птицах, как святой Франциск, не на финансах, как Бальзак, но на самых будничных вещах … Виденье Достоевского – это виденье Христа, только в современных понятиях» [11, p. 273]. Известно, что Достоевский, помимо своих произведений, известен западной культуре ещё как персонификация мифа о загадочной русской душе, однако это лишь подчёркивает его неоспоримое влияние на культуру ХХ и ХХI веков.
Поэтому чтение и исследование текстов русского писателя само по себе было и остаётся способом развития осознанности как важной и, на наш взгляд, ключевой характеристики современной культуры. Именно это качество осознанности составляет внутреннее измерение сознания личности (и оно – всегда в фокусе внимания Достоевского). Единственный способ обретения этого внутреннего знания-понимания, или состояния сознания, – это собственный опыт, личные переживания, выборы и их последствия... Романы и рассказы писателя построены на таких «пониманиях», созвучиях сознаний, получивших в разных формах один и тот же экзистенциальный опыт.
Примером может служить известная сцена посещения Алёшей Карамазовым семьи штабс-капитана Снегирёва, когда Алёша переживает глубокое сострадание и к Илюше, и к его больной сестре, и к самому штабс-капитану: «Я, кажется, теперь всё понял, – тихо и грустно ответил Алёша, продолжая сидеть. – Значит ваш мальчик – добрый мальчик, любит отца и бросился на меня как на брата вашего обидчика ...» [6, с. 138]. На таком глубоком неэгоистичном уровне понимания поступков других людей держится принятие и поддержка человека человеком, проявляется мужество, угасает гнев и устраняется рознь, проявляется переживание целостности – связи с высшим духовным контекстом. Личный целостный экзистенциальный опыт – область осознанности – вот откуда приходит понимание и братское – божественное чувство любви (христианское агапэ), столь важное для Достоевского.
Возможно, для пояснения будет достаточно уместно сравнить современный концепт «осознанность» с трансцендентальным эго И. Канта, которое, не имея отношения ни к психологическому, ни к эмпирическому Я, тем не менее выступает в качестве элемента чистого разума, выражающего аспект «целого» (если воспользоваться термином из теории систем). Например, исследователь В. Е. Семёнов рассматривает трансцендентальное эго Канта в качестве структурной базы акта понимания и целостной (недискретной) основы мышления вообще. И хотя такой трансцендентальный субъект вне любых возможных предикатов обнаружить нельзя (по мысли В. Е. Семенова), он – «трансцендентальное сознание», которое и «есть не что иное, как осознание себя самого в качестве первоначальной апперцепции, то есть Я. Поэтому, безусловно, необходимо, чтобы в процессе познания всякий сознательный акт принадлежал к одному сознанию: здесь имеется синтетическое единство многообразного (сознания), которое познаётся априори и даёт основание синтетическим положениям априори, относящимся к чистому мышлению. Синтетическое положение, согласно которому всякое эмпирическое сознание должно быть связано в одном самосознании, есть, безусловно, первое и синтетическое основоположение нашего мышления вообще. Только представление о Я в отношении ко всем остальным представлениям есть трансцендентальное сознание» [8, с. 9].
Трансцендентальное эго, первоначальная апперцепция, то, что предшествует любому мыслительному процессу и принципиально не может быть воспринято и описано как объект, очевидно, неотличимо от бытия, которое и есть принципиально необъектный способ проявленности – жизни сознания: «знаменитый картезианский вывод cogito ergo sum, полагает Кант, изначально оказывается тавтологией, поскольку cogito (sum cogitans, существование вещей мыслящих) непосредственно выражает действительность» [6, с. 9]. Таким образом, самосознание оказывается не сознанием себя в качестве кого-то (личности), обладающего некими характеристиками (предикатами) – объективированным содержанием, а априорным условием всякого понимания и проявленности любых качеств: и объектного мира, и внутренней жизни сознания. Это чистое условие не обнаружимо как объект, оно чистый субъект, который, будучи направлен на самое себя в переживании (в экзистенциальном смысле) ничего не находит, не удваивает, не репрезентирует – просто пребы- вает сам в себе, неотличимый от своего существования.
Как же резонирует кантовская теория с прозрениями Достоевского, выраженными к тому же в художественной форме? Вероятно, аспект целостности, Я, не как пси- хологическое или эмпирическое, но как нравственное – по-кантовски трансцендентальное – начало человека обнаруживает себя у Достоевского в гуще эмпирической жизни, не теряя своего эпистемологического уровня чистого разума. Оно совершает чистое действие, не обременённое интеллектуальными логическими построениями, а часто вопреки всем логикам и социальным законам. Эта область свободы, в которую прорываются и действуют ключевые герои русского писателя – область этики, понимаемой вполне по-кантовски, то есть отсутствия любой внешней обусловленности. Это в некоторой степени и князь Мышкин, и Алёша Карамазов, и старец Зосима, и Мечтатель из раннего романа «Белые ночи», и Соня Мармеладова. В романах Достоевского эмпирическое Я героев совершает трансцендентальный прорыв сквозь все виды детерминизма и обнаруживается как центр, ответственный за бытие в моменте события, здесь-и-сейчас (подобное хайдеггеров-скому вот-бытию), непосредственное существование в диалоге с другими сознаниями. В произведениях писателя это глубинное Я (самосознание без предикатов) не только трансцендентальная часть разума, а событийный инструмент и главный герой, так сказать, романа реальности, который весь разворачивается на его основе и в его пределах.
Таким образом, самосознание (которое не обнаружимо в качестве предмета самого себя) выступает как осознанность кон- текста, ситуации в целом. И это не нИчто – это определённо нЕчто, поскольку оно действует наилучшим и по Канту, и по Достоевскому образом: исходя из нравственного чувства. Осознанность, как принцип действия, диаметрально противоположна дей- ствию по внешнему регламенту: правилам, нормам, законам, то есть любой формализации и алгоритму, но не воюет с ними, так как естественным образом проявляется как принятие, сострадание, терпение, усердие, внимательность к тонким чувствам ближнего.
В разные моменты романных коллизий все главные герои писателя осознают освобождающее свойство любви, её фундаментальный по отношению к интеллекту характер. Одно из важных, хотя до сих пор, на наш взгляд, остававшихся в тени исследовательского интереса эпистемологических открытий Достоевского – это понимание единства осознанности (как структурной, базовой характеристики сознания) и братской любви человека к человеку (также фундаментального свойства сознания). Так или иначе, все герои романов, повестей и рассказов двигаются в этой оппозиции «сердце – рассудок»: то есть любовь/ осознанность – формализованный закон/ интеллектуальное, рассудочное следование некой концепции, даже исключительно разумно обоснованной (Великий Инквизитор). И в этом состоит их основной выбор: пойти к свободе, к практическому исследованию тайны быть человеком, преодолев интеллектуальные построения или остаться в пределах интеллектуальных рассуждений.
Под эпистемологическим углом зрения два основных типа героев-идеологов великого писателя – рационалист (Иван Карамазов) и верующий в добро и состра- дание, в универсальную силу любви (Лев Николаевич Мышкин) могут быть рассмотрены как персонифицированные полюса сознания, или как поэтизация сущностной структуры сознания, выведенного художественным мышлением автора из «подполья» в светлую область – на страницы романов.
Интересно, что герои романов и повестей, хотя и являются плодом фантазии автора, по сути, взяты из реальной жизни, из бытовых ситуаций, в которых они совершают трансцендирование к свободе. Для примера обратимся к ситуации, описанной исследователем творчества писателя Л. Сараскиной. В её работе рассказана реальная история с участием Фонвизиной, передавшей в 1850 году Достоевскому в Омский каторжный острог Евангелие: «Когда зимой 1850 года Фонвизина вручала ему Евангелие, она (по свидетельству дочери писателя, знавшей семейное предание доподлинно) просила внимательно просмотреть страницы. Однако набожная дарительница не отсылала несчастного узника к цитатам из Нового Завета. Она спрятала между склеенными страницами единственной дозволенной в остроге книги 25 рублей. Таков был изумительный почерк её веры, точная человеческая формула участия в судьбе каторжника. Евангелие было единственной книгой в остроге, а 25 рублей – единственными деньгами, которые оказались у Достоевского в первый год его каторги, они и дали ему возможность выжить. Замечу, что именно это Евангелие Достоевский хранил всю свою жизнь» [7, с. 96]. И далее: «Именно этот экземпляр Евангелия описывает Достоевский в “Преступлении и наказании”; и выходит, что Лизавета дала Соне, по её просьбе, Евангелие Достоевского, подаренное
Фонвизиной, а потом Соня молча принесла святую книгу в острог, по просьбе каторжника. Значит, именно оно раскрыто перед Соней, читающей Раскольникову “про Лазаря”. “Это был Новый Завет в русском переводе. Книга была старая, подержанная, в кожаном переплёте”. Склеенные страницы, которые иной фарисей счёл бы порчей сакрального предмета, в глазах Достоевского – неотразимый аргумент добра и любви» [7, с. 97].
Поступок Фонвизиной не требует никакого анализа или логического рассмотрения именно потому, что сострадание и любовь являются для неё и Достоевского самоочевидной основой человека понимающего, подлинного, то есть обладающего осознанностью как естественной основой человека.
Через четыре года, в 1854 году, Достоевский напишет Фонвизиной письмо с тем самым парадоксальным «символом веры», который, возможно, станет более понятным в связи с рассказанной выше историей. Особенно, если рассмотреть «символ веры» в контексте двух измерений сознания: относительном, концептуальном (разум) – и абсолютном, трансцендентном (сердце): «… Я скажу Вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатич- нее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной …» [5, с. 96].
Итак, сделаем выводы.
-
1. Стремление познать Бога, любовь, человека, свободу у героев писателя и у него самого трансцендентны, абсурдны и достоверны одновременно. На такой целостной глубокой основе герои получают опору и совершают поступки, необусловленные ничем внешним – только любовью и состраданием, составляющими истинную контекстуальную природу сознания. Эти любовь и сострадание – не автоматически работающие функции, а внутренний осознанный и потому свободный выбор, проявляющийся для тех героев, которые обнаруживают любовь и сострадание к другим людям, преодолевая собственный эгоизм. Выбор в пользу других выводит сознание из грубой оппозиции субъект-объ-ектных отношений – к целостному переживанию реальности и открывает истинное континуальное измерение сознания, в котором «разум» и «сердце» – взаимосвязанные полюса.
-
2. Можно предположить относительно современного мира, что если в науке и обществе в целом возобладает представление о разуме и сознании как о чём-то принципиально моделируемом, поддающемся формализации, то возникнет опасность: возрастающая в рамках данной парадигмы алгоритмизация всех жизненно важных социальных процессов будет постепенно вытеснять из человеческих отноше-
- ний собственно «человеческое». То есть то, что никакой внешней моделью принципиально не обусловить: спонтанность, выбор, личную ответственность, прощение, доверие и, наконец, сострадание и любовь...
-
3. Тексты Достоевского, прочитанные через призму некоторых современных философских представлений о разуме и мышлении, отражают иную – «не машинную» модель сознания: ту, которая включает как свою основу континуальный целостный аспект. В частности, в текстах писателя это выражается в неэлиминируемости личности из процесса мышления и акта поступка (для современной же «техногенной» модели сознания «личность» несущественна и является чем-то вроде эфира или флогистона). Для Достоевского личность – это и личность каждого «маленького человека», и Личность Христа. Стремиться узнать эту тайну и значит быть человеком. Его герои демонстрируют осознанность – связь повседневных поступков и мышления с высшей целью любви и Богопознания – нечто живое и необусловленное внешними обстоятельствами. В этой, скажем современным языком, «модели» сознания как континуальности, непрерывности нет отчуждения человека от мира, других людей и своей сущности. Контекстом такого опыта сознания выступает глубокое экзистенциальное чувство единства человека, мира, Бога (Старец Зосима, Алёша Карамазов, Соня Мармеладова).
-
4. В условиях современного массового общества именно бытовая, обычная осознанность каждой личности может стать ключевым фактором гармонизации жизни. В беспрецедентной для человечества коммуникационно-информационной ситуации – публичности повседневной жизни личности, воплощаемой в публикациях текстов, видео, аудио, именно искусство, в частности, литература, остаётся сферой воспитания и развития осознанности. Таким образом, чтобы сохранился баланс между «технологическими достижениями» и «человеческими качествами», полезно признать: сегодня как никогда актуальны Достоевский, русская и мировая литература, а также гуманитарная культура человечества в целом.
Но Достоевскому хорошо знакома и «машинная» – формализующая позиция мышления, в ней всё логично и разумно объяснено в терминах причин и следствий. Своим преобладающим детерминизмом она близка той модели, на которую опирается современный технический прогресс в области развития искусственного интеллекта. Данная позиция характерна для драматических и трагических героев (Раскольников, Иван Карамазов, Кириллов и других), которые – и в этом художественный и философский выбор писателя – показаны в крайне мучительных внутренних состояниях, отчуждающих человека от других и самого себя, вплоть до убийства и самоубийства.
В заключение, чтобы поддержать последнюю мысль, приведём отрывок из беседы Зосимы с Иваном Карамазовым с комментариями исследователя А. К. Шарипова, с которыми нельзя не согласиться. Устами старца Зосимы Достоевский излагает своё понимание того, что такое человек и что такое сознание, его разум, задающий вопросы, и какова роль сердца – основы разума и сознания в этом процессе. Зосима говорит Ивану (герою-идеологу): «Идея эта ещё не решена в вашем сердце и мучает его … В вас этот вопрос не решён, и в этом ваше великое горе, ибо настоятельно требует разрешения ... Если не может решиться в положительную, то никогда не решится и в отрицательную, сами знаете это свойство вашего сердца; и в этом вся мука его. Но благодарите творца, что дал вам сердце высшее, способное такою мукой мучиться, “горняя мудрствовати и горних искати, наше бо жительство на небесех есть”. Дай вам Бог, чтобы решение сердца вашего постигло вас ещё на земле, и да благословит Бог пути ваши! …» Все интеллектуальные коллизии разрешаются в признании превосходства сердца над умом. Простота Зоси-мы иного рода, она – итог большой сложности, итог глубоких размышлений и большого внутреннего опыта. Зосима утверждает, что всё в мире друг с другом соприкасается: в одном месте тронешь – в другом конце отдаётся, а правды вечной умом не доказать и не понять… «Доказать тут нельзя ничего, – говорит Зосима, – убедиться же возможно ... опытом деятельной любви. Постарайтесь любить ваших близких деятельно и неустанно. По мере того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души вашей. Это испытано, это точно» [10].
Список литературы Экзистенциальный вызов общества ХXI века: Ф. М. Достоевский versus информационные технологии
- Бахтин М. М. Идея у Достоевского // Проблемы поэтики Достоевского. Москва, 2002. Глава 3.
- Достоевский Ф. М. Письма. М. М. Достоевскому. 16 августа 1839. Петербург // Собрание сочинений: в 15 томах / [сост. Т. И. Орнатчкая, Г. М. Фридлендер] ; Российская академия наук, Институт русской литературы (Пушкинский дом). Санкт-Петербург: Наука, Ленинградское отд., 1988-. Том 15: Письма, 1834-1881 / [тексты подгот. и примеч. сост. А. В. Архипова и др. ; ред. И. А. Битюгова, Т. И. Орнатская]. 1996. С. 20-22.
- Достоевский Ф. М. Письма. 8. М. М. Достоевскому. 31 октября 1838. Петербург // Собрание сочинений: в 15 томах / [сост. Т. И. Орнатчкая, Г. М. Фридлендер] ; Российская академия наук, Институт русской литературы (Пушкинский дом). Санкт-Петербург: Наука, Ленинградское отд., 1988-. Том 15: Письма, 1834-1881 / [тексты подгот. и примеч. сост. А. В. Архипова и др. ; ред. И. А. Битюгова, Т. И. Орнатская]. 1996. С. 13-16.
- Достоевский Ф. М. Письма. 133. А. Н. Майкову. 26 октября (7 ноября) 1868. Милан // Собрание сочинений: в 15 томах / [сост. Т. И. Орнатчкая, Г. М. Фридлендер] ; Российская академия наук, Институт русской литературы (Пушкинский дом). Санкт-Петербург: Наука, Ленинградское отд., 1988-. Том 15: Письма, 1834-1881 / [тексты подгот. и примеч. сост. А. В. Архипова и др. ; ред. И. А. Битюгова, Т. И. Орнатская]. 1996. С. 381-387.
- Достоевский Ф. М. Письмо Н. Д. Фонвизиной. Ф. М. Достоевский. Письма 39. Н. Д. Фонвизиной. Конец января - 20-е числа февраля 1854. Омск // Собрание сочинений: в 15 томах / [сост. Т. И. Орнатчкая, Г. М. Фридлендер] ; Российская академия наук, Институт русской литературы (Пушкинский дом). Санкт-Петербург: Наука, Ленинградское отд., 1988-. Том 15: Письма, 18341881 / [тексты подгот. и примеч. сост. А. В. Архипова и др. ; ред. И. А. Битюгова, Т. И. Орнатская]. 1996. С. 95-98.
- Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Москва: Художественная литература, 1972. 544 с.
- Сараскина Л. Христос Достоевского в 1854 году // Достоевский и мировая культура: Альманах. 2007. № 22. С. 85-109.
- Семенов В. Е. Трансцендентальные основы понимания (И. Кант и неокантианство). Владимир: Изд-во Владимирского государственного ун-та, 2008. 228 с.
- Троицкий С. А. Непрерывный континуум сознания как основа для философствования // Философия XX века: школы и концепции: научная конференция к 60-летию философского факультета СПбГУ, 21 ноября 2000 г. Материалы работы секции молодых учёных «Философия и жизнь». Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. C. 267-270.
- Шарипов А. К. «Интертекст»: Сердце против Разума. Кантианские антиномии в романе Достоевского «Братья Карамазовы» [Электронный ресурс]. URL: https://concepture.club/post/ obrazovanie/kant-i-dostoevskij#
- Kerouac J. Windblown World: The Journals of Jack Kerouac. 1947-1954. New York, 2004. P. 273.