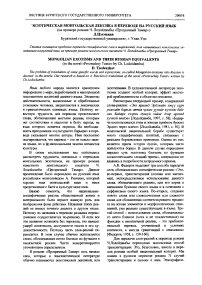Экзотическая монгольская лексика в переводе на русский язык (на примере романа Ч. Лодойдамбы «Прозрачный Тамир»)
Автор: Цэдэнжав Дамдингийн
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 8, 2008 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме перевода специфических слов и выражений, так называемых монгольских эк-зотизмов на русский язык на примере романа монгольского писателя Ч. Лодойдамбы «Прозрачный Тамир».
Короткий адрес: https://sciup.org/148178409
IDR: 148178409
Текст краткого сообщения Экзотическая монгольская лексика в переводе на русский язык (на примере романа Ч. Лодойдамбы «Прозрачный Тамир»)
Язык любого народа является хранителем информации о мире, выработанной и накопленной поколениями носителей данного языка. Элементы действительности, выделенные и обработанные сознанием человека, закрепляются в лексических и грамматических единицах языка. Поэтому известную трудность для перевода представляют слова, обозначающие местные реалии, которым нет соответствия и аналогии в быту народа, на язык которого делается перевод. На необходимость преодоления «культурного барьера» в переводе указывают многие авторы. Ими постоянно подчеркивается, что перевод - это не только замена языка, но и функциональная замена элементов культуры.
В своем исследовании мы попытались рассмотреть трудности, связанные с переводом монгольских экзотизмов, на примере романа известного монгольского писателя Ч. Лодойдамбы «Прозрачный Тамир». Данное произведение было переведено на русский язык российским монголоведом А. Ринчино, который хорошо знал монгольский язык и имел представление о быте и культуре монголов.
Важно отметить, что национальноспецифические реалии общественной жизни и материального быта играют важную роль для изображения фона действия. Названия таких реалий не имеют точного аналога в другом языке. Поэтому их названия в переводе разными переводчиками осуществляется по-разному. И если все эти названия оставлять без перевода, это нанесет ущерб понятности, доступности текста и его художественности. Поэтому часть слов-реалий переводится. В этом случае обычно используется слово, обозначающее нечто близкое по функции к иноязычной реалии. Часто конкретизируется уточняющим определением.
В романе «Прозрачный Тамир» есть немало слов, которые в лингвистической литературе обычно называются экзотической лексикой, или экзотизмами. В художественной литературе экзо-тизмы создают особый колорит, эффект некоторой приближенности к объектам описания.
Рассмотрим следующий пример, содержащий слова-реалии: «Энэ ярианд Эрдэнийн зэвуу хурч ухасхимн баръж автол чухам уунийг хулзэж бай-сан Бадарч сзэрэн дунгуй хмйж дээр ергоед хучтэй шидэв» [Лодойдамба, 1997, с. 58]. «Бадар-чи воспользовался этим и ловким приёмом бросил Эрдэнэ через плечо» [Лодойдамба, 1981, с. 50]. В монгольской национальной борьбе существует много специфических понятий, связанных с разными борцовскими приемами. Одним из них является прием «сзэрэн дугуй», которым часто пользуются борцы. В данном случае переводчик передал суть экзотизма близким по функции словосочетанием «ловкий прием», совершенно не вдаваясь в подробности хитроумного приема.
А.В. Федоров вьщеляет три способа передачи слов, обозначающих специфические реалии: «Это, во-первых, транслитерация (полная или частичная), непосредственное использование данного слова, обозначающего реалию, или его корня в написании буквами своего языка и в сочетании с суффиксами своего языка Во-вторых, создание нового слова или словосочетания или сложного слова для обозначения соответствующего предмета на основе элементов и морфологических отношений, уже реально существующих в языке. Третий способ - использование слова, обозначающего нечто близкое (хотя и не тождественное) по функции к иноязычной реалии, - это приблизительный перевод, уточняемый в условиях контекста, а иногда граничащий с описанием» [Федоров, 1958, с. 159-160].
Для передачи слов-реалий в переводе романа ЧЛодойдамбы переводчик использовал способ транслитерации. Это, безусловно, внесло в перевод романа особый национальный колорит. Мы нашли в русском переводе романа 71 случай транслитерации и сноски к ним. Эгнографиче- ские, бытовые, географические названия переданы без перевода, но их отсутствие восполняется постоянным объяснением в сносках малопонятных мест, деталей, эпизодов, различных обычаев. Эти слова можно классифицировать следующим образом: I) этнографические реалии; 2) мифологические реалии; 3) бытовые реалии; 4) реалии государственного устройства и общественной жизни.
К этнографическим реалиям относятся следующие слова: терлик, вадом, гутулы, доли, хан-таз, хадак, отго, «хурай», жинс, хурэм, соембо, сайнэр, Цаган Сар, лодыжки, зоска (всего 15 слов).
К мифологическим реалиям: Хархул, карага-ма, Чжан-Лин (всего 3 слова).
К бытовым реалиям: аилы, уртон, аргал, бандза, арза, янчан, хотон, хайнак, хашан, ханы (четырехханная, шестиханная), хурдзы, хоймор, олбог, буузы, дзодок, цен, дзут, гиудрага, юмбу, обо, жасаа, мунгу, ом, хурэм, джин, начин, орхимджи (всего 27 слов).
К реалиям государственного устройства и общественной жизни: Богдо-гэгэн, хошун, Халха, тайджи, арат, нойон, хутухту, Урга, аймак, уртон, бээс, чахары, харчимы, чернобрючники, жинс, ван, амбань, занги и хунды, асман-банди, хурэм, Гоймон-Батор, желтая религия, цам, шабинары, гэсгуй (всего 26 слов).
Как можно заметить из вышеприведенных примеров, автор основную часть слов оставляет без перевода, очень редко давая русский эквивалент (лодыжки «шагай» (монг.)). Или, например, в следующем примере значение экзотического слова «хоймор» переводчик раскрывает с помощью подстрочного примечания: «Хоймор - почётная часть юрты»: Павлов, эхнэр хоёрыг майхны хоймор зассан монген цартай торга» ууцны ард суулгаж айраг архи сэгнеж гарлаа [Лодоцдамба, 1997, с. 81]. Итгэлт посадил купца и его жену в хойморе и поставил перед ними серебряное блюдо с жирным крестцом» [Лодойдамба, 1981, с. 64]
При анализе монгольских экзотизмов, употребляющихся в переводе романа, мы сталкиваемся и с такими случаями, когда новообразование создается на базе формы множественного числа: например, слово «шабинары», в сносках к которому объяснение дано два раза, и каждый раз по-другому. Первая сноска: шабинары - крепостные церковных феодалов и монастырей; вторая сноска: шабинары - последователи, послушники. В первом случае речь идет о крепостных, во-втором - о монахах, учениках ламы. Эти значения определяются монгольским словом шавь, имеющим два соответствующих значения. Во множест венном числе имеем: шавь + нар (шавь нар), где мер - грамматический показатель множественного числа одушевленных имен существительных. Отсюда и употребляющееся в переводе слово шабинары. То есть в данном примере налицо явная нецелесообразность полученного слова, автору в каждом конкретном случае просто следовало дать разные вполне соответствующие контексту варианты, существующие в русском языке: монахи или послушники.
На современном этапе развития отношений наших двух стран, Монголии и России, в результате политических, экономических и культурных контактов неизбежно возникает проблема взаимодействий, взаимовлияний монгольского и русского языков. Хотя в русском языке прямых заимствований из монгольского немного, нельзя не учитывать тот факт, что через газетные и журнальные статьи, путевые очерки, заметки, воспоминания российских писателей, журналистов, других лиц, побывавших в Монголии, монгольские периодические издания на русском языке и переводы произведений монгольских авторов в русскую речь вливается определенное количество монгольских слов и выражений, используемых в текстах при описании жизни и быта монголов. В подавляющем большинстве случаев эти слова представляют собой монгольские экзотизмы, которые не освоены русским литературным языком, а являются лишь фактами русской речи.
Во многих очерках, написанных о Монголии, российские авторы используют без каких-либо комментариев такие слова-реалии, как надом, вдут, арат, худом и другие. В художественных переводах с монгольского языка слой непереводимой лексики возрастает, в таких материалах часто фигурируют такие слова как нукер, нойон, худон, мадам, дели и многие другие.
Далее рассмотрим второй способ передачи слов, обозначающих специфические реалии, - это создание нового слова и словосочетания с помощью русских словообразовательных средств. Касаясь вопроса о разной степени освоения монгольских экзотизмов носителями русского литературного языка, следует особо рассмотреть такой немаловажный критерий его оценки, как наличие или отсутствие производных слов, образованных от корня заимствованного слова.
Например, переводчик А.Ринчино сложные слова употребил редко, хотя он создал такие производные слова, как четырехханный, шести-ханный, зоска, хошунный (надом)" Зургаан хана-тай гэрт битуу хивс дэвсээд хошин внгетой хурэм ширээмуудийг хоёр талаар нь тавьжээ» [Лодойдамба. 1997, с. 164]. «Большая шестихан-
146 --------------------------------------------------------------------------------------------- ная юрта была сплошь устлана коврами. По обеим сторонам очага стояли длинные деревянные столы» [Лодойдамба, 1981, с. 129]. Здесь переводчик дает объяснение сначала слову «хана», а потом создает новое словосочетание с помощью русских словообразовательных суффиксов «шестиханный, четырёхханный», в результате чего передается значение монгольских реалий: Хоер жилийн емне Итгэлт еврее хеег^елдеж бага сага херенге зарж байгаад нутгийн нэгэн ядуу авгайн охин Дулмаа-тай суулгаад тов хийсэн дервон ханатай гэр барьж вгчээ» [Лодойдамба, 1997, с. 54]. «Два года назад Итгэлт женил Галсана на Дулме — дочери бедняка - и поставил им хорошую четыреххан-ную юрту» [Лодойдамба, 1981, с.47].
То же самое можно сказать относительно слова «хошунный». Хошун - это административная единица в старой Монголии. После толкования слова вполне естественно звучит «хошунный надом». К сожалению, переводчик не дал объяснения к слову «надом», хотя многие русские, побывавшие в Монголии, знают это слово. Но для большинства русскоязычных это слово так и остается непонятным. Например: «Хошуу наадам эхлэхийн урьд едер Итгэлт морьд хрухдээ авч наадмын байранд гурван майхан шааж буув» [Лодойдамба, 1997, с. 80]. «Приближался хошунный надом. За день до праздника Итгэлт поставил для своих людей три юрты» [Лодойдамба, 1981, с. 62].
Следующую монгольскую фразеологическую единицу харганын унгас тууж эсгий хийх переводчик перевел дословно: «собирала (бабушка) шерсть с караганы» и дал комментарий только к слову караганы (карагана - степной кустарник), но общий смысл данного фразеологизма так и не объяснил: «Би гуйгаад, чи тусалж, монголд диваажин байгуулна. Харганын унгас тууж эсгий хийх шиг хэрэг байка даа гээд Эрдэнэ хегжилтей инээв» [Лодойдамба, 1997, с. 104]. - «Я попрошу, ты поможешь, и рай нам обеспечен.Так что ли? Собирала бабушка шерсть с караганы. - Эрдэнэ рассмеялся» [Лодойдамба, 1981, с. 82]. Данное выражение ни о чем не говорит русскоязычному читателю, вполне возможно было бы заменить его более знакомым «Как бы не так!», «После дождичка в четверг!», «Когда рак свистнет!» и т. д.
Для воссоздания описываемой эпохи очень часто используется лексика, отражающая реалии того времени, существующую систему тогдашних понятий. Это - устаревшие слова и выражения социально-политической, хозяйственной и бытовой жизни, общественных отношений и т.д. В аспекте стилистического использования историзмы главным образом характеризуют социально- политическую терминологию того времени, социальную структуру монгольского общества в прошлом, внутрисословную иерархию.
В исследуемом нами тексте к историзмам можно отнести такие слова как амбань, бэйс, бээл, ван, занги и хунды, батор, нойон, таиджи, сайнэр, сойвон, лама, арат, хутугту, чахары и харчины, асман-банди, гэсгуй, начин, шабинары. Ко всем этим 20 словам даны объяснения их значений в сносках. Из них в настоящее время активно употребляются в речи только такие слова, как лома, арат, батор, нойон, начин, гэсгуй.
Из этих слов-реалий, к которым даны комментарии в переводе романа Ч. Лодойдамбы «Прозрачный Тамир», ныне находят отражение в монгольской периодической печати, в монгольских учебниках по русскому языку следующие слова: терлик, гутулы, дели, батор, аймак, сомон, дзерен, арат, надом, хоймор, лама, дзодоки, дзут, аилы, хадак, обо, Цаган Сара, соёмбо, хайнак.
И, наконец, третий способ передачи слов, обозначающих иноязычные реалии, состоит в использовании слов языка перевода, означающих нечто близкое или схожее по функции, хотя и не абсолютно тождественное.
Как уже отмечалось, трудность для перевода представляют слова, обозначающие именно национальные реалии. Например: «Тайж сэмхэн гэтэж тотгыг нъ сехвж харвал баруун талым орон дээр ямар ч шултгуй болсон цонхир царай-тай Темер хедлелгуй хэвтэж емне нъ Цэнд хуухэн сууж байв» [Лодойдамба, 1997, с. 115]. «Улдзи вошёл в юрту, Пурэв заглянул в дверь. Возле кровати, на которой лежал Тумэр, присела Цэнд» [Лодойдамба, 1981, с. 92]. Тотго - это, собственно, не дверь, а стык дверной рамы и крыши юрты. Чуть приподняв войлочную крышу над дверью, через образовавшуюся щель тайком можно заглянуть в юрту. Именно так и сделал Пурэв. Переводчик, используя функциональную близость слов, передал общий смысл отрывка, хотя не передано значение, связанное со страхом Пурэва перед Тумэром. Ведь писатель изображает, как велик страх Пурэва перед Тумэром. «Эсгий ууд сехегдеж том менген цвгцтей менх зулын гэрэлд бараан дээлтэй ханхар хун орж ирээд, ийш тиши харснаа тайж руу шууд ирлээ» [Лодойдамба, 1997, с. 150]. «Но в это время дверь юрты открылась, и при свете лампады они увидели высокого широкоплечего человека в тёмном дели» [Лодойдамба, 1981, с. 120]. В то время дверью монгольской юрты служила толстая кошма, которая открывала и закрывала дверной проём. Откинув кошму на крышу юрты, люди входили и выходили из юрты. Именно об этом говорится в этом отрывке романа. В переводе, по-нашему мнению, сохранены основное содержание и стиль отрывка, поэтому такой способ передачи реалии в подобных случаях вполне допустим.
«За хоёулаа энэ гэрт сууна даа гээд Эрдэнэ малгай, сэлэм буугаа авч ханын толгойд елгев» [Лодойдамба, 1997, с. 334]. «Мы будем жить здесь с тобой, - сказал Эрдэнэ. Он снял папаху, оружие и повесил на стену» [Лодойдамба, 1981, с. 269]. Хана монгольской юрты, конечно, не стена в традиционном смысле этого слова: ханы-стены состоят из решетчатых складывающихся блоков, которые растягиваются при постройке юрты, образуя круг. В верхней части хан имеются острые скрещенные выступы для поддержания уней - жердей. Именно на них и повесил оружие Эрдэнэ.
В следующем отрывке разговор происходит во время игры в домино. Каждая игральная кость домино у монголов имеет свое название в стихотворной форме, например, бросая шестерку на стол, игрок обычно приговаривает такие слова: Ханан хээтэй чане, хамбан дээлтэй зургаа.
- Таной энд ардын засгийн телеелегч хэн бэ? - Нагее Эрдэнэ. Ханан хээтэй чане, хамбан дээлтэй зургаа гэж Бадарч тоомжиргуй хэлээд чане чулуудав [Лодойдамба, 1997, с. 489]. - Кто у вас здесь правительственный эмиссар ? - спросил Жамбал. - Эрдэнэ, ты же его знаешь. - Бадарчи небрежно бросил кости на стол» [Лодойдамба, 1981, с. 385]. Ханан хээтэй чане, хамбан дээлтэй зургаа в дословном переводе будет звучать «чане с узорами стены юрты, шестерка в шелковом дели». Слово чане - монгольское название шестерки в домино, а хана - это решетчатая стена юрты. Конечно, такую словесную игру необязательно передавать на русский язык, так как она не влияет на общее содержание текста.
Эти примеры показывают, что последний способ перевода не является удовлетворительным, он передает лишь чисто бытовую окраску соответствующего слова подлинника, в одних случаях придавая ему руссифицированный оттенок, в других случаях ослабляя национальноспецифические особенности, выраженные в нем.
Проделанный нами обзор способов передачи реалий на примере романа «Прозрачный Тамир» показывает, что переводчик должен не только хорошо знать языки, но и обладать специальными знаниями в области истории и культуры народа, которому принадлежит переводимое произведение.
Перевод монгольских слов-реалий, передающих национальные особенности, как видно, дело нелегкое. В большинстве случаев переводчик успешно справился с ним. При переводе наиболее трудных реалий, связанных с монгольским народным бытом, мышлением, он искажает смысл содержания или оставляет их без перевода, что и оказало негативное воздействие на восприятие романа русскоязычными читателями. Конечно, даже в таких текстах в какой-то степени проявляется чисто стилистическое значение экзотизмов, создающих вокруг описываемых реалий своеобразный национальный ореол. Однако в наибольшей степени стилистическая окрашенность экзотизмов дает о себе знать в публицистических и особенно в художественных текстах, где умело употребленный монголизм служит незаменимым средством, украшающем ту или иную часть произведения.
Переводы произведений монгольских писателей на русский язык в основном осуществлялись в советскую эпоху, после победы народной революции в Монголии. За истекшее время советские люди познакомились со многими сотнями произведений современной монгольской литературы. Однако качество многих переводов не отвечает высоким требованиям, предъявляемым к художественным переводам, что отчасти объясняется и недостаточной точностью передачи стилистических средств выражений, использованных писателями.
Имея большую свободу действий в выборе средств передачи на русский язык, переводчик должен придерживаться адекватности передачи и стилистических средств выражений. Неточная передача стилистических средств выразительности авторского текста оказывает влияние на качество перевода.
Список литературы Экзотическая монгольская лексика в переводе на русский язык (на примере романа Ч. Лодойдамбы «Прозрачный Тамир»)
- Лодойдамба Ч. Тунгалаг Тамир/Ч. Лодойдамба//Монголии уран зохиолын дээжис. -Улаанбаатар, 1997.-Т. 30.-632 с.
- Магсар Ц. О переводимое™ национально-культурных элементов из лирики С.Есенина//Современный мир и русский язык: материалы междунар. форума руссистов Азии и Конгресса мои. асс-ции преп-лей рус. яз. и литры. Улаанбаатар, 2007. -С. 46-53.
- Федоров А.В. Введение в теорию перевода М.: Изд-во лит-ры на иностранных языках, 1958. -376 с.
- Хованская З.И. Принципы анализа художественной речи и литературного произведения. Саратов, 1975. -250с.
- Чадраабалын Лодойдамба. Прозрачный Тамир/Ч. Лодойдамба -М.: Прогресс, 1981. -496 с.
- Эрдэнэмаам С. «Богатырь» хэмээх \тийн гарал ууслийн тухайд//МУБИС-ийн Гадаад хэлний сургууль. Эрдэм шинжилгээний бичиг. -2006. -№ 2 -С. 110-117.