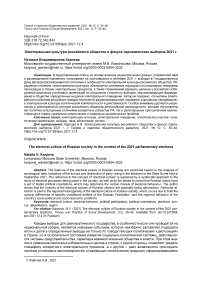Электоральная культура российского общества в фокусе парламентских выборов 2021 г
Автор: Карпова Наталья Владимировна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 12, 2021 года.
Бесплатный доступ
В представленной статье на основе анализа социологических данных, показателей явки и распределения партийного голосования на состоявшихся в сентябре 2021 г. выборах в Государственную Думу автором рассматриваются состояние и особенности электоральной культуры российского общества. Обращение к понятию «электоральная культура» объясняется системным подходом к исследованию специфики проходящих в стране электоральных процессов, а также стремлением раскрыть наличие у российских избирателей комплекса устойчивых ориентаций по отношению к институту выборов, обусловливающих формирование в обществе определенных моделей электорального поведения. Автором показано, что мотивы электорального действия российских граждан постепенно рационализируются, отражаясь в процессах «вызревания» в электоральной культуре политической компетентности и действенности. Особое внимание уделяется укоренению в электоральной культуре российского общества региональной разнородности, которая обусловлена как политико-культурными отличиями конкретных субъектов РФ, так и региональным преломлением наличествующих в стране социально-политических и социально-экономических проблем.
Электоральная культура, электоральное поведение, политическое участие, политические ориентации, выборы, явка, абсентеизм, регион
Короткий адрес: https://sciup.org/149138512
IDR: 149138512 | УДК: 316.72:342.843 | DOI: 10.24158/tipor.2021.12.4
Текст научной статьи Электоральная культура российского общества в фокусе парламентских выборов 2021 г
,
модели электорального поведения граждан. Применительно к последнему историко-сравнительный анализ электоральных процессов становится одним из принципиальных методов познания и исследования сложившейся в обществе электоральной культуры, которая по своей природе не является продуктом конкретной избирательной кампании. Тип электоральной культуры формируется в ходе электоральной истории страны, зависит от устоявшихся традиций организации и проведения выборов, политических ценностей, присущих как гражданам, так и представителям власти, характера доверия народа к представительным органам власти.
Целесообразность использования понятия «электоральная культура» в политической социологии (в отличие, например, от более распространенного в использовании термина «электоральное поведение») имеет определенные основания, которые не ограничивают нас статистическими показателями конкретной выборной кампании, а непосредственно связаны с системным пониманием специфики и характера электоральных процессов. Знания о состоянии электоральной культуры конкретной страны, структурирование ее по региональным аспектам, а также понимание направления ее развития выступают существенным ресурсом для разработки грамотных и эффективных стратегий избирательных кампаний. В любой системе именно культурный компонент является той матрицей, которая придает уникальность и своеобразие институциональным формам, определяет характер и направленность их развития.
Нельзя не отметить, что в научном обращении понятие «электоральная культура» появилось сравнительно недавно. В частности, одним из первых рабочих определений данного феномена стала дефиниция И.Н. Гомерова, ученого из Новосибирска, в 90-х годах прошлого века. По его мнению, электоральная культура представляет собой «специфический элемент политической культуры», выступает как система «знаний, оценок и норм политических выборов» (цит. по Фадеева, 2010: 34). Соглашаясь в общем плане с подобной формулировкой, мы осознаем, что отнесение нового понятия к сфере политической культуры хотя и делает его более конкретным, но при этом оставляет его не менее дискуссионным, поскольку интерпретации самой политической культуры не являются однозначными.
Однако по аналогии с культурой политической, в трактовке родоначальников данной категории Г. Алмонда и С. Вербы (2010: 131–133), мы можем говорить об электоральной культуре как о комплексе устойчивых ориентаций граждан по отношению к институту выборов в органы власти, к избирательному процессу, к организации процедуры голосования, и вместе с тем по отношению к собственному участию в голосовании, включая в себя компетентность (ориентации относительно политической активности) и действенность (представления о важности электоральной активности). В подобной формулировке предполагается, что наличествующие в электоральной культуре «образцы» фиксируют в ее содержании характерный для конкретного общества интерес граждан к политической жизни, уровень доверия представительным институтам власти, степень готовности к политическому участию, выражению и отстаиванию своих интересов.
В то же время срез электоральной культуры не может быть ограничен только уровнем сознания. Хотя он и представляет собой один из главных «двигателей» политического действия, связь между политическими ориентациями и формами политического поведения не всегда выражается линейной зависимостью, и не все модели поведения индивидов и групп можно вывести из моделей сознания. К примеру, демонстративное выражение гражданами готовности пойти на выборы не всегда заканчивается фактическим приходом на избирательный участок. Соответственно, подобный взгляд на проявление электоральной культуры в обществе дает нам основания несколько расширить ее трактовку и включать в ее содержание « образцы», или типичные модели, электорального поведения избирателей, а также характер участия граждан в избирательных кампаниях партий и кандидатов в органы власти (Карпова, 2020: 30–33).
Так какие же черты электоральной культуры российского общества проявили себя на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва, состоявшихся в сентябре 2021 г.?
Прежде чем дать ответ на данный вопрос, нельзя не отметить тот факт, что с началом своего развития в нaшей стране в 90-е годы прошлого века, на этапе «закладки традиций», конкурентные выборы как институт социально-политического представительства, по словам В.В. Федорова, были «глубоко дискредитированы» (Федоров, 2010: 178). Процесс формирования электоральных ориентаций российских граждан на первоначальном своем этапе проходил в условиях недоверия народа к элитам, отчуждения подавляющей части населения от политических институтов, создаваемых, по мнению рядовых граждан, властями для решения собственных проблем. Сложившаяся атмосфера неверия народа во власть во многом поспособствовала распространению и укоренению в системе электоральных установок граждан абсентеистских тенденций, которые выступали не просто как мотив разового действия, но и довольно быстро трансформировались в культурные ориентации к представительной власти. В частности, именно по причине низкой активности избирателей с середины 1990-х гг. (до законодательной отмены явочного порога), стало увеличиваться количество регионов, имеющих практику несостоявшихся выборов (глав администраций, депутатов). И главными мотивами неучастия в голосовании для граждан становились:
-
• недоверие к властям;
-
• неверие в возможность с помощью выборов решить свои проблемы или что-то изменить;
-
• представления о нечестности института выборов.
Соответственно, анализируя явку на выборах депутатов российского парламента восьмого созыва, надо понимать, что полученные 51,72 % являются отражением не только реального политического процесса, но и во многом проекцией исторических факторов, а вместе с тем и культурной матрицы электората (для сравнения: на парламентских выборах Германии, проходивших неделей позже российских, явка составила 76,6 %). Правда, нынешний российский результат стал на 3,84 % выше, чем на предыдущих выборах в 2016 г., явка на которых (47,88 %) стала самой низкой за всю их историю. Для сравнения: на выборах в нижнюю палату российского парламента в 1993 г. явка была 54,81 %, в 2003 г. – 55,75 %, в 2007 г. – 63,78 %, в 2011 г. – 60,21 %. Тем не менее, в показателях участия граждан в голосовании на парламентских выборах прослеживается определенная тенденция.
Однако при анализе подобных цифр обязательно нужно учитывать форму правления в государстве, поскольку в странах с парламентским устройством выборы в законодательный орган имеют принципиально иное значение, нежели в президентских системах. В данном контексте «образцы» поведения российского электората на парламентских выборах становятся понятными. За время развития политической системы современной России в формате «Конституции-1993» приоритет президентских выборов над парламентскими в электоральной культуре российских граждан стал довольно устойчивым . Хотя, конечно, немалую роль в этом сыграли политико-культурные традиции российского общества, связанные с персонификацией власти и ориентацией на центральную фигуру властной иерархии.
Однако нельзя сбрасывать со счетов то, что в российской электоральной традиции формирование абсентеизма происходило в атмосфере неверия граждан в законность, легитимность, результативность, а также честность института выборов. В частности, генеральный директор ВЦИОМ В.В. Федоров отмечал, что, согласно данным социологических опросов на 2007 г., для приблизительно 40 % россиян выборы 1990-х – начала 2000-х гг. оставили некоторое «послевкусие». По мнению граждан, проходившие в те годы выборы были далеки от демократических норм и принципов. Причем, более половины россиян в тот период не верили и в честность предстоящих на тот момент выборов в Государственную Думу и Президента РФ (Федоров, 2010: 146–147). Отсюда нынешний, все более значимый для общества, запрос на процедуру честных выборов, является вполне оправданной реакцией со стороны российских граждан и объективным показателем зрелости их электоральных ориентаций по отношению к выборам как основному институту демократии.
Между тем, динамика мотивов участия/неучастия российских граждан в голосовании на выборах на протяжении десяти лет обнаруживает некую стабильность. Так, по данным опросов «Левада-центра» (признан в России иностранным агентом – Н.К.), прослеживается, что среди мотивов неучастия в парламентских выборах на первом месте сохраняется отсутствие веры кому-либо из политиков, хотя значение этого показателя постепенно снижается. Если в 2011 г. так полагали 29 % процентов абсентеистов, в 2016 г – 25 %, то уже 21 % отказавшихся от участия в прошедших выборах 2021 г.1
На втором месте среди объяснений неучастия в голосовании на выборах находятся доводы о том, что граждане в силу разных обстоятельств просто не смоли попасть на избирательный участок. Количество подобных ответов с 2011 г. сохраняется на уровне 17–20 %. Скорее всего эту часть пассивного электората можно отнести к представителям «субкультуры наблюдателей» , которая характерна в принципе для любой демократической системы. Данный термин был веден голландскими исследователями Ф. Хьюнксом и Ф. Хикспурсом на основании трех индикаторов: субъективного интереса индивидов к политике, политического доверия к государственным институтам и оценки возможностей личного участия в политической жизни и воздействия на политику . Причем у этих граждан может присутствовать высокий интерес к происходящим политическим процессам и даже демонстрация нормативных участнических установок, но само участие в политических событиях ими не совершается (Карпова, 2012: 68).
Также нельзя не отметить, что количество людей, которые не пришли на голосование, поскольку «результаты выборов никак не зависели от их участия и голосования», заметно снизилось. Если такую позицию в 2011 г. разделяли 17 % из не участвующих в голосовании, в 2016 –
-
21 %, то сейчас количество тех, кто отказался прийти на избирательный участок по данной причине, представлено на уровне10 %. Уменьшилось и число тех, кто полагает, что ни один из кандидатов или партий не выражает их интересы: 12 % в 2011 г. в сравнении с 3 % в 2021 г.
Таким образом, неучастие в голосовании российских граждан стабильно выражается двумя основными мотивационным блоками: сохраняющимся неверием кандидатам и партиям, с одной стороны, и отсутствием политического интереса – с другой. Причем сохраняется и небольшая, но устойчивая часть абсентеистов, которые либо не доверяют самому институту выборов, полагая, что «выборы будут нечестными, результаты все равно подтасуют», либо просто «не решили, за кого голосовать» (каждая из позиций на уровне 5–6 %)1.
Среди же проголосовавших на парламентских выборах в сентябре 2021 г. большинство (57 %) сделали это, потому что считают своим гражданским долгом. Хотя показательно, что за прошедшее десятилетие процент подобных людей несколько снизился. Только 8 % проголосовали из стремления помочь конкретному кандидату или партии, другие 8 % побоялись, что их голос будет использован. Примечательно, что число тех граждан, кто голосовал по привычке резко снизилось: с 20 % в 2016 г. до 7 % – в 2021 г. (табл. 1).
Таблица 1 – Мотивы голосования на парламентских выборах
(% от тех, кто принял участие в голосовании и ответил, за какую партию)
|
2011 |
2016 |
2021 |
|
|
Гражданский долг |
62 |
60 |
57 |
|
Привычка |
18 |
20 |
7 |
|
Стремление помочь кандидату/партии, которым я симпатизирую |
20 |
14 |
8 |
|
Стремление помешать кандидату/партии, которым я не симпатизирую, набрать лишние голоса |
11 |
5 |
5 |
|
Стремление выразить свою политическую позицию (даже если это не поможет никому из кандидатов/партий) |
20 |
15 |
7 |
|
Чтобы мой голос не был использован без моего ведома |
14 |
8 |
|
|
Меня заставило голосовать начальство |
3 |
||
|
В кругу близких мне людей принято ходить на выборы |
9 |
8 |
1 |
|
Это почти единственная возможность проявить свое участие в жизни страны |
13 |
9 |
4 |
|
Другое |
1 |
2 |
2 |
|
Затрудняюсь ответить |
1 |
0 |
0 |
Таким образом, отражение результатов парламентских выборов 2021 г. в зеркале как явки, так и социологических опросов, показывает, что мотивы электорального участия/неучастия российских граждан постепенно рационализируются. В сознании все большего числа российских граждан постепенно «вызревает» политическая компетентность и действенность. В культурной проекции голосование на выборах представляется уже не только традиционным ритуальным действием, совершаемым «по привычке». Российский электорат становится все больше ориентирован на результат. Поэтому факт отсутствия желаемой и видимой для народа выгоды от голосования в некотором роде способствует снижению в массовом сознании значимости самих выборов и отказ от участия в них . Отчасти по этой причине в повышении явки хорошо срабатывают такие рациональные механизмы вовлечения граждан, как, например, проходившая в Москве акция «Миллион призов». Ожидаемая материальная выгода не только стимулирует социально одобряемое поведение, но и в некоторой степени компенсирует возможные разочарования в итогах выборов.
Немаловажным фактором формирования электоральных позиций, предопределяющих отказ граждан от участия в голосовании на выборах, остается осознание российским обществом факта «отчуждения делегатов от электората», отражающего принципиальные противоречия между интересами народа и реальными целями выбранных представителей. Согласно ряду исследований, системно проводимых аналитиками того же «Левада-центра», около 85 % россиян на протяжении двух десятков лет устойчиво выражают согласие с тем, что выбранные представители, придя к власти, быстро теряют внимание к проблемам народа и живут своими инте-ресами2. В распространяемых в обществе представлениях о том, что выборы больше нужны власти, чем народу, граждане как бы заранее оказываются в положении проигрывающей стороны.
Поэтому кардинальное преломление атмосферы недоверия к кандидатам и партиям, как и к самому «собирательному образу власти» становится определенным кодом активизации мотивационных пластов российского электората.
На фоне того, что институциональное доверие политическим партиям устойчиво сохраняется на уровне самых низких показателей, преломление абсентеизма и формирование политической поддержки, согласно основаниям матрицы российской электоральной культуры, может происходить через процессы идентификации с яркими политическими фигурами и лидерами. Эти выборы не стали исключением. Так, весьма показательной была эффективность включения в число лидеров федеральной части предвыборного списка «Единой России» политиков с самыми высокими в стране персональными рейтингами доверия. Здесь имеются в виду министр обороны С.К. Шойгу, министр иностранных дел С.В. Лавров и Д.Н Проценко, главный врач Коммунарки, который, встав на защиту страны в борьбе в красной зоне с новой коронавирусной инфекцией, предстал для народа в образе нового героя-спасителя.
Также обращают на себя внимание и некоторые результаты партии-новичка «Новые люди», в кампании которой отчасти сработали механизмы региональной, национальной и, можно даже предположить, что и религиозной идентичности с кандидатами. Например, федеральный список партии довольно успешно представили бывший мэр Якутска С. Авксеньтьева и экс-постпред Калмыкии при Президенте РФ С. Тарбаев: в итоге в Якутии партия «Новые люди» получила 9,9 % голосов, а в Калмыкии – 12,2 %. Причем возможно допустить, что на 11,2 % голосов, отданных за эту партию в Бурятии, и 9,8 % в Хакасии повлияла объединяющая эти регионы принадлежность к буддийской культуре, так как именно эти регионы вошли в топ лидеров по поддержке данной партии. В качестве другого примера использования кандидатами партии «Новые люди» региональной идентичности можно назвать кампанию Г.В. Шилкина, генерального директора ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», который сумел мобилизовать поддержку электората своего региона (9,7 % голосов), а также представляемой им Республики Коми (9,6 %)1.
Между тем, устойчивой остается и специфика российской электоральной культуры, в которой представляется ее регионально-разнородный, или «субкультурный» характер. Выборы сентября 2021 г. отчетливо показали сохранение вариативности политической активности граждан из различных российских регионов в процессе их голосования. Подтверждением вышесказанному является разброс показателей явки от 37 % в Иркутской области до 94,4 % в Чеченской Республике. Очевидно, что эти цифры не только свидетельствуют о политико-культурных отличиях данных регионов, но и о различных механизмах вовлечения граждан в процесс голосования на выборах.
Действительно, Северо-Кавказские субъекты нашей страны в электорально-культурном отношении являются особыми регионами, где выстраивание взаимоотношений между обществом и властью в принципе очень во многом зависит от влияния национального менталитета, который, в том числе в силу исламской культуры, характеризуется особым властным почитанием, традициями кланов и родов и сохраняет в себе подданнические, а порой и патриархальные политические ценности. Именно эти регионы показывают не просто высокую явку, но и принципиальную поддержку партии власти. Для примера, за Единую Россию (далее ЕР) в Чеченской Республике проголосовали 96,1 % избирателей, в Дагестане при явке 84,5 % за ЕР отдали свой голос 81,2 %; в Ингушетии при явке 83 % партию власти поддержали 85,2 % жителей2.
При этом на противоположном электоральном полюсе находятся регионы с довольно низкой явкой, где количество голосов, отданных за Единую Россию по партийным спискам, было значительно меньше. Сюда, в частности, относится группа субъектов Центрального региона РФ (в Ивановской области явка 38,3 %, а процент, поддержавших ЕР – 36,2 %; Костромская область: явка – 39,5 %, поддержка ЕР – 30,3 %; Владимирская область: явка 37,9 %, за ЕР – 37,6 %), Санкт-Петербург (явка 37,6 % и поддержка ЕР – 35 %), регионы Сибирского федерального округа (Новосибирская область: 37,7 % явка и 35,2 % поддержка ЕР; Омская область: 41,4 % и 32,9 % соответственно; Хакасия – 37,5 % – явка и 33,4 % – поддержка ЕР).
Конечно, различия в конкретных электоральных ориентациях российских субъектов, как и сам факт формирования и развития в нашей стране электоральных «субкультур», зависят от многих причин. Прежде всего, это объясняется спецификой самой политической культуры России, содержанию которой в принципе присуща определенная гетерогенность. Да и надо сказать, что по отдельности эти два культурных пласта в принципе рассматривать очень сложно. Однако также формирование электоральной культуры страны зависит от целого комплекса социальных, экономических и политических факторов, региональное преломление которых получает для избирателей все большую значимость, что и подтвердили парламентские выборы 2021 г.
Список литературы Электоральная культура российского общества в фокусе парламентских выборов 2021 г
- Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура. Подход к изучению политической культуры (I) // Полития. 2010. № 2. С. 122-144. DOI: 10.30570/2078-5089-2010-57-2-122-144
- Карпова Н.В. Социология политической культуры. М., 2012. 168 с.
- Карпова Н.В. Электоральная культура как индикатор отношений политического представительства // Гоажданин. Выборы. Власть. 2020. № 2. С. 24-39.
- Фадеева Л. "Электоральная культура": теоретический конструкт или очередная концептуальная натяжка // Российское электоральное обозрение. 2010. № 1. С. 32-37.
- Федоров В.В. Русский выбор. Введение в теорию электорального поведения. М., 2010. 384 с.