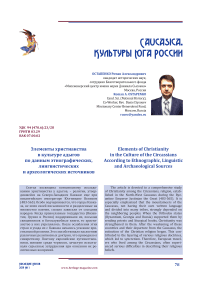Элементы христианства в культуре адыгов по данным этнографических, лингвистических и археологических источников
Автор: Остапенко Роман Александрович
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Caucasica. Культуры Юга России
Статья в выпуске: 1 (17), 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена комплексному исследованию христианства у адыгов, - религии, утвердившейся на Северо-Западном Кавказе еще при византийском императоре Юстиниане Великом (483-565). Особо подчеркивается, что горцы Кавказа, не имея своей письменности и разделенные на множество племен, сильно зависели от соседних народов. Когда православные государства (Византия, Грузия и Россия) поддерживали их, посылая священников и богослужебные книги, то христианство у них укреплялось. После ослабления этих стран и ухода их с Кавказа началось угасание христианской религии. Это способствовало наслоению различных религиозных доктрин, что приводило к синкретизму. Поэтому европейские путешественники, жившие среди черкесов, зачастую испытывали серьезные затруднения при описании их религиозных воззрений. Основное внимание в статье уделено не только исторической реконструкции, но и исследованию современного состояния отдельных христианских элементов в культуре адыгов. Несмотря на достаточно сложную религиозную историю, даже в настоящее время некоторая православная атрибутика глубоко интегрирована в культурный слой народной памяти. Для анализа всего комплекса христианских элементов в культуре адыгов стандартные исторические методы были дополнены филологическим инструментарием, ставшим основой этимологических построений. Использование ономастики и фразеологического материала позволили выявить укоренившиеся в языке христианские имена и пословицы.
Северо-западный кавказ, адыги, православная церковь, христианизация, праздники, догматика, фольклор, этимология, топонимика, археология
Короткий адрес: https://sciup.org/170174976
IDR: 170174976 | УДК: 94
Текст научной статьи Элементы христианства в культуре адыгов по данным этнографических, лингвистических и археологических источников
На протяжении длительного времени христианство являлось центральным элементом системы религиозных ценностей в культуре адыгов. Данный период продолжался примерно с раннего Средневековья до начала Нового времени, и о его былом влиянии свидетельствует множество сохранившихся до наших дней исторических источников, часть из которых составили предметное поле настоящего исследования.
Структурная канва статьи состоит из вводной исторической части, за которой следует догматический раздел, посвященный народному почитанию Иисуса Христа, Божьей Матери, христианских святых и содержащий рассмотрение сакральности распятия у адыгов. Для удобства в отдельный структурный блок выделены православные праздники, точнее, их отдельные элементы, дошедшие до наших дней. Вслед за этим проводится лингвистический анализ христианских наименований дней недели, библейских имен, ряда пословиц. Сюда же относится христианская топонимика с анализом географических объектов и населенных пунктов. В заключение дается краткий археологический обзор в котором рассматриваются древние христианские религиозно-культовые сооружения Адыгеи, имеющие отношения к исследуемой проблеме, при этом внимание акцентируется на уцелевших фрагментах каменных крестов, христианских эпиграфических памятников и мелкой пластики.
Для начала целесообразно провести краткий исторический экскурс и рассмотреть историю проникновения христианства в народную среду адыгского общества.
Апостольская миссия. Впервые с христианством жители Северо-Западного Кавказа познакомились благодаря апостольской проповеди святых Андрея Первозванного и Симона Кананита, а также апостолов Матфея, Варфоломея, Петра и Филиппа, которые посетили причерноморских зихов, бофори-тян, алан и абазгов. Известно и время их пребывания — это 40 г. [здесь и далее во всех датах используется время от Р. Х.] . Как отмечает множество исследователей, «центром их миссионерской деятельности, кроме северо-восточного побережья Черного моря, было восточное и северное побережье, а также Крым» [6, с. 49] [11, с. 15] [31, с. 171] [33, с. 13] [34, с. 57] [39, с. 11] [52, с. 29]. В подтверждение пребывания апостола Андрея на Кавказе английский путешественник и поэт Эдмонд Спенсер приводит свидетельства о наличии среди адыгов «андреевских» крестов (косой крест, на котором был распят Андрей Первозванный). Местные жители утверждали, что «этот святой, или его последователи, обратили жителей в христианство…» [57, с. 106].
Следует отметить, что некоторые историки, включая даже церковных авторов (Е. Е. Голубинский [12, с. 21] и А. В. Карташев [27, с. 83–95]), ставили под сомнение пребывание апостолов на Северном Кавказе. Чтобы показать ошибочность этого мнения, было подготовлено специальное исследование, в котором приводятся аргументы в пользу апостольской миссии в рассматриваемом регионе. При комплексном анализе различных видов исторических источников — «христианских апокрифов, византийских сочинений и русских летописей можно без малейшего сомнения утверждать, что Северный Кавказ и Преднепровье имеют богатую апостольскую историю» [46, с. 74–81].
Миссия Римской империи. Спустя всего несколько десятилетий после посещения апостолами Северо-Западного Кавказа в эти края стали ссылать христиан, что являлось официальной политикой властей Римской империи. Такая ситуация сохранялась вплоть до начала IV в., и в этот период крещение горских народов имело характер явления, в определенной степени сопутствующего укоренившейся политической линии империи по отношению к христианам. Сначала власти Рима объявили всех христиан неблагонадежными и, высылая их, способствовали, тем самым, латентной христианизации этого региона. Впоследствии империя, преследуя лишь военно-стратегические интересы, провела передислокацию нескольких легионов на Черноморское побережье, и в итоге часть воинов-христиан смогла привести к своей вере некоторых представителей местного населения.
В поисках надежного заработка горцам разрешили служить в римской армии, что еще в большей степени христианизировало их. Параллельно осуществлялась торговля с купцами-христианами, также зафиксированы случаи пленения христианских священников, которые, ведя очень аскетический образ жизни и силой молитвы исцеляя больных, окончательно укрепили в вере часть зихского населения. Уже к началу IV в. во время провозглашения Миланского эдикта (313 г.) на территории Зихии и Абхазии быстро возникли полноценные церковные епархии во главе с епископами, что может свидетельствовать о значительной христианской общине [50, с. 86–98].
Просветитель Юстиниан Великий. В дальнейшем Римская империя разделилась на Восточную (Византию) и Западную. Через два столетия, в середине VI в., горские племена Кавказа прочно вошли в орбиту внешней политики императора Юстиниана Великого. Наивысший расцвет среди народов этого региона христианство получило именно в этот период. В Зихии к этому времени уже имелось четыре епархии с резиденциями в Фанагории (близ ст. Сенной), Метрахе (Тамань), Зихопли-се и Никопсисе (на р. Шакупси) [39, с. 128]. Как отечественные, так и зарубежные путешественники и исследователи, посетившие Кавказ в разное время, приводят свидетельство христианизации адыгов Юстинианом I: «Греческий император Юстиниан (Юстук), был союзником адыхейского народа и даже называл себя адыхейским витязем… Песни, сказки и предания черкесов свидетельствуют, что христианство введено было при Юстиниане. При нем воздвигнуты были храмы, поставлены священники — шогени , из которых главный, с званием епископа — шехник , по преданию жил недалеко от Нальчика… Cуществова-ли предания о пребывании среди адыгов греков — урыма , принесших им христианство» [17, с. 28] [32, с. 621–628] [44, с. 43] [51, с. 5].
Тмутараканское княжество. Следующим этапом христианизации народов Северо-Западного Кавказа явилось образование Тмутараканского княжества (X–XI вв.). В 861 г. его посетили славянские просветители братья Кирилл и Мефодий. Епископ Тмутаракани (Таматархи) на протяжении многих лет прикладывал усилия для распространения христианства у адыгов, посылая к ним проповедников и византийских монахов. Князю Мстиславу легко удалось объединить в рамках одной политической системы «адыгские этно-территориальные группы в единое, крупное адыго-славянское политическое образование» [15, с. 60–61]. Тмутараканское княжество стало важным христианским центром: в нем имелся кафедральный собор, окруженный рядом церквей и монастырей.
Аланская епархия. В это же самое время в предгорьях Кавказа возникла могуществен- ная Аланская епархия (X–XI вв.), центром которой, как считают некоторые историки, был храмовый комплекс сохранившийся до наших дней. Это три Зеленчукских, а также Шоа-нинский и Сентинские храмы. Епархиальным собором являлся северный Зеленчукский храм (пос. Нижний Архыз), стены которого были расписаны фресками греко-византийского происхождения. Наиболее полно живопись сохранилась в интерьере Сентинского храма, расположенного в ущелье р. Теберды [10, с. 1–14].
Грузинская миссия. В конце XII — начале XIII вв., в период правления царицы Тамары (1166–1213), Георгия Лаша (1207–1222) и царицы Русудан (1222–1245) начался «золотой век» грузинской истории. В это время христианство широко распространялось не только в самой Грузии, но в соседних с ней областях. Грузинские правители активно строили храмы на территориях, где проживали чеченцы, ингуши и осетины. До наших дней дошли уникальные памятники церковной архитектуры: Тхаба-Ерда, Алкбы-Ерда, Таргимский храм [25, с. 173]. Народный эпос адыгов сохранил память о «христианстве грузинского толка», которое принесла царица Тамара [19, c. 399].
Многие иностранные путешественники, жившие на Кавказе и собиравшие народные предания адыгов, упоминают о грузинской христианизации среди них [30, с. 244] [32, с. 621–628] [37, с. 25] [57, с. 106]. Так, французско-швейцарский археолог и путешественник Фредерик Дюбуа де Монпере приводит интересное свидетельство, связанное с грузинским миссионерством: «Когда аланы или осетины в 931 г. изгнали своих епископов и священников, царица Тамара приказала восстановить среди них христианство и построить церкви. Среди черкесов, до тех пор язычников, заботами Тамары также загорелся свет этой веры: церкви, заброшенные руины которых встречаются то здесь, то там, относятся именно к этой эпохе Грузии» [18, с. 123.].
И. Ф. Бларамберг, немец, состоявший на русской службе, описывает причины неудачной грузинской миссии среди адыгов: «Несмотря на старание грузинских царей с целью сохранить христианскую религию у черкесов… преуспеть в этих замыслах не удалось в силу как невежества и дурного поведения некоторых миссионеров, так и непреодолимых препятствий, воздвигавшихся татарами» [8, с. 372.]. Еще одним свидетельством христианизации среди адыгов служит грузинское название креста — джур, которое они употребляют в своем языке: «Слово джур ясно показывает происхождение свое от грузинского джари, крест» [37, с. 30.].
Зихская и Кавказская епархии. В начале XIII в. Северный Кавказ испытал вторжение монголо-татар, которое потрясло весь регион и значительно перекроило его этническую карту. Очень сильный удар был нанесен и по христианству, однако первоначальная политика Орды отличалась веротерпимостью, что ознаменовалось созданием новых епархиальных центров на Северном Кавказе. В этот период известность получила Зихская епархия , которая сначала входила в состав Аланской, а уже к 1317 г. стала самостоятельной. В этот же период была известна и Кавказская епархия , границы которой до сих пор не установлены. В последний раз Аланская епархия упоминается в документах, относящихся к 1366 г., Зихская — в 1398 г. [25, c. 234].
Католическая миссия. Со второй половины XIII в. на Кавказ постепенно стало проникать католическое духовенство, которое активно осуществляло миссионерскую деятельность среди местного населения. Это стало возможным благодаря укреплению итальянских республик Генуи и Венеции, которые смогли добиться от Византии существенных торговых преференций, что позволило им в скором времени доминировать в Крыму и Восточном Причерноморье. В XIV–XV вв. во многих генуэзских факториях активно шло католическое проникновение в адыгскую культурную среду. Была развернута обширная епархиальная сеть, выходившая далеко за пределы городов-колоний, в одной только Матреге имелось два католических епископа под властью архиепископа, один из которых являлся зихом по происхождению. В Каффе функционировала специальная миссионерская школа для детей, училище и библиотека. Вдоль «Анапской дороги», соединяющей Черное море с Каспийским, были построены укрепления с имеющимися религиозными объ- ектами: «Такая активная католическая миссия среди зихов несомненно принесла свои результаты. Мы имеем свидетельства о том, что христианство латинского обряда приняли некоторые влиятельные князья Зихии: Миллен, Верзазт, Биберды и Заккария Гизольфи. При этом, по крайне мере одним из епископов Матреги — Иоанн также был зихом» [47, с. 181–205]. После падения Константинополя в середине XV в. прекращаются связи Византии с Кавказом, после этого греческое духовенство более не направлялось для служения к горцам.
Миссия Иоанна Грозного. В середине XVI в. немаловажную роль в миссионерской деятельности среди адыгов сыграла Россия. В правление Иоанна Грозного (1547–1584) адыгские князья, стремившиеся заручиться военной и дипломатической поддержкой Москвы, охотно принимали сотрудничество в духовной сфере — многие из них добровольно крестились и шли на русскую службу со своими семьями. Как, например, Кудадек (в крещении Александр) и Салшалук, сын Темрюка (Михаил), жанеевский князь Сибоком (Василий) с сыном Кудадеком и братом Ацымгуаком, а также абазинский князь Тутарык Езбозлуков, князь Ма-ашук (Иван) были устроены на русскую службу [15, с. 85–86] [24, с. 774–799]. Важно отметить, что интерес русского царя к адыгам был связан и с родственными отношениями, так как его второй женой была Мария Темрюковна — дочь кабардинского князя.
В 1558–1559 гг. посольство западных адыгов, направленное в Москву, обратилось к царю с просьбой, чтобы он «дал им воеводу своего в Черкассы и велел бы их всех крести-ти» [53, с. 259]. В 1559 г. в Москву «являются послы от адыгского народа с просьбой выслать на Кавказ священников для их крещения» [26, с. 307]. Эти переговоры с русской стороны вел князь Дмитрий Иванович Вишневецкий, со стороны адыгов — мурза Черкасский Чирак. В феврале 1560 г. по указанию Иоанна Грозного Вишневецкий вместе с черкесскими князьями, жившими в Москве — Иваном Боа-шиком и Василием Сибоком, а также с христианскими священниками отправились к адыгам, чтобы крестить их. Судьба миссии осталась неясной, известно лишь, что Вишневец- кий был разбит турками, попал в плен и вскоре был казнен в Константинополе. В этот период на Кавказе велось храмовое строительство о чем свидетельствует состоявший на русской службе немец Иоганн Гюльденштедт, исследовавший быт горских народов: «Попечениями … российского духовенства, наипаче в царствование Иоанна Васильевича, была введена в Черкесскую землю греко-кафолическая вера, чему служат и по ныне свидетельством старые каменные церкви, кресты на могилах, лежащих по Куме, соблюдение некоторых постов и прочее» [13, с. 207–208]. Сильный удар по христианству был нанесен в 1717 г., когда оттоманский султан Ахмед III договорился с крымским ханом Давлет-Гиреем об обращении адыгов в мусульманскую веру. Многие служители церкви были убиты, священные книги преданы огню, епископские посохи сломаны [17, с. 29].
Русская миссия. Со второй половины XVIII и вплоть до начала XX вв. русское правительство и православная церковь предпринимали различные миссионерские шаги в отношению горцев Кавказа и, в частности, к адыгам, но назвать эти миссии успешными нельзя. Например, с 1899 по 1903 гг. по инициативе Ставропольского епархиального комитета православного миссионерского общества в девяти аулах Майкопского отдела Кубанской области (Адамий, Ульский, Ходзь, Джерокай, Блечепсин, Хатукай, Хачемзий, Кошехабль и Егурухай) были открыты русские епархиальные школы грамоты. Миссионерская концепция комитета подразумевала начало христианизации адыгов через их обучение русскому языку. За эти четыре года, образование в этих школах получили 834 чел., из них 559 детей. Однако результаты данной формы миссии были весьма скромными. Более подробно об этом периоде рассматривается в специальной литературе [48, с. 126] [49, с. 59–77].
В течение длительного времени христианство оказывало очень сильное влияние на культуру адыгов, доказательством чему могут служить элементы православной догматики, выявленные в народном фольклоре адыгов.
Почитание Иисуса Христа и Богородицы. Адыги всегда верили в Бога — Тха. В раз- ные исторические периоды в данный термин вкладывали различные значения, но главное всегда оставалось неизменным — это был верховный Бог, Бог-Творец. Некоторые исследователи благодаря лишь одному теониму Тха смогли проследить этногенез народа. Примечательно, что греческое слово Бог (Theos) (с основой dei-1, deiə̯ -, dī-, di̯ā- («сиять», «бог») [67, pp. 183–187], присущей практически всем языкам, относящимся к индоевропейской языковой семье) имеет сходный корень с адыгским Тха. «В обозримом прошлом абхазо-адыгские языки составляли достаточно обширную группу вместе с родственным хатт-ским языком доиндоевропейской Малой Азии; в эту же группу входили нахско-дагестанские языки, генеалогически связанные с хуррито-урартскими языками» [4, с. 115.].
После византийской христианизации, осуществленной императором Юстинианом Великим, адыги приняли учение Иисуса Христа, но именовали Его по-своему, как греческого Иисуса — Аус Герга, и данное наименование четко зафиксировало именно эллинский период миссионерства. В особом почете у черкесов всегда была Божья Матерь или Богородица, которую они называли Мерисса , Мериам , Мэ-рем или Мэрейм . Ей было посвящено несколько праздников и пост, а также Она считалась покровительницей пчеловодства [17, с. 40] [25, с. 497] [32, с. 621–628] [61, с. 302–306]. В дальнейшем при отходе от православия их верования изменились до религиозного синкретизма. Так, в XIX в. они почитали уже «три божества: Тхашхо, в переводе Бог великий), Матерь его Марием-тха-пши , — Мария Бог-князь и Шергупз (смысл этого слова утерян) » [2, с. 53].
Почитание христианских святых. Еще в середине XIX в. в адыгском народе сохранялось особое почитание к некоторым христианским подвижникам. Так, в большом почете был св. вмч. Георгий Победоносец. По легендам, большинство нартов были христианами, и во главе их стоял Георгий Победоносец — Савсорук, спутником которого был рыжий конь Тхозий . А в балкарском народе именем св. Георгия даже назван особый день недели — вторник. В период окончания Петрова поста адыги отмечали память преп. Сергия
Радонежского. Летний праздник этого святого приходится на 5 (18) июня [здесь и далее в датах праздников указан старый и новый стиль] . Преп. Сергий был прославлен как святой только в середине XV в. О нем адыги узнали, видимо, в царствование Иоанна Грозного.
Почитались также ветхозаветные пророки, такие как св. Иаков. Еще одним очень известным святым был ветхозаветный пророк Илия, которого именовали как Алия и Яллия . В народе бытовало поверье, что святой часто являлся на вершине самой высокой горы. В дальнейшем, когда адыги стали отходить от христианства, вместо молитв к святому появились языческие жертвоприншения в виде пения с танцами, подношения ягнят, молока, масла, сыра и пива. Им был известен и ветхозаветный пророк Моисей, под именем Аймие , а царя Давида они знали как Тли-Япша [29, с. 115–116] [45, с. 83] [59, с. 102].
До середины XIX в. адыги сохраняли и некоторые элементы православной службы, которая у них назывлась богоугодной жертвой — Ташь . За неимением священников они избирали какого-нибудь старика, облачали его в белую войлочную мантию — ямычи, и тот, взяв в руки деревянную чашу, подобную причастной, наполнив ее вином или бузою, становился лицом к востоку и читал импровизированную молитву. Затем он обращался к народу, призывал на него милость и благословение небес и желал ему исполнения того, что было поводом молебствия. Черкесы также верили в бессмертие души и в будущую жизнь, в которой воздаться каждому по делам земной жизни.
Отношение к Кресту. Важнейшим атрибутом христианства является распятие. Крест у адыгов использовался как центральный культовый символ в обрядах Тхьалъэу — просьба к Богу. Материал, посвященный его символике, весьма обширен: зафиксированы ритуалы с его применением в «священных рощах», против воровства в садах и огородах; при нем давали обещания и клятвы, в том числе и умирающим родителям. Крестом оберегались при нашествии болезней и падеже скота. При рождении сына родители целовали крест. Они верили, что никто не сможет ворваться в дом, на крыше которого установлен крест.
В дни засухи дети ходили по улице с деревянным крестом, натянув на него старые одежды, чтобы придать ему вид человека, и называли его Ханце-гуаше [23, с. 159] [38, с. 144] . Вот как этот ритуал описывает Л. Я. Люлье: «Они идут от дома к дому, распевая песни, в которых молят Бога о милосердии и дожде. Детям дают сладости, которые они делят между собой» [37, с. 25].
О почитании креста адыгами также свидетельствуют самые разнообразные источники, к которым можно отнести мемуары путешественников, как европейских, так и отечественных, а также адыгских просветителей XIX в., среди которых необходимо упомянуть венгерского монаха Юлиана [66, с. 33], французского торговца Жана Баптиста Тавернье [60, с. 78–79], голландского политика Николаса Витсена [9, с. 88–89], польского писателя и археолога Яна Потоцкого [54, с. 229–230], консула Нидерландов в Одессе Шевалье Тэбу де Мариньи [61, с. 302–306], венгерского ученого Жана Шарля де Бесса [7, с. 339–341], российского генерала И. Ф. Бларамберга [8, с. 372–373], швейцарского путешественника и этнографа Фредерика Дюбуа де Монпере [18, с. 448–450], английского политического агента Джемса Белла [5, с. 469], корреспондента лондонской газеты «Таймс» Дж. А. Лонгворта [36, с. 533] и немецкого ботаника-дендролога Карла Коха [32, с. 621–628]. О почитания креста черкесами также упоминали: адыгский историк и писатель Султан Адиль-Ги-рей [2, с. 53–54], российский этнограф и кавказовед Л. Я. Люлье [37, с. 25, 29–30], генерал Н. Ф. Дубровин [17, с. 32], кубанский историк Ф. А. Щербина [19, с. 407] и позднее современный исследователь Г. Х. Мамбетов [40, с. 224–245].
Как видно из проведенного анализа, крест являлся для адыгов весьма почитаемым сакральным элементом и активно использовался вплоть до начала XX в., что дополнительно указывает на его важное значение в национальной культуре.
Годичный круг православных праздников сохранялся в народной памяти адыгов до середины XIX в. Конечно, без полноценной литургической жизни и ежедневного богослужения эти праздники с течением времени очень сильно видоизменились, некоторые почти до неузнаваемости, но несмотря на это, их можно легко идентифицировать и в настоящее время.
Пасха. Самым торжественным из всех праздников было Воскресенье Христово — Удышъ, Гадыж, Кутиш . Этот день выпадал на раннюю весну и у адыгов определялся по лунному календарю. Здесь важно дать небольшое уточнение: в православной церкви время празднования Пасхи было определено еще в III в., при этом соответствующая дата вычисляется, с использованием сочетания солнечного и лунного циклов. Адыги сохранили систему определения Пасхалий, хотя и не в полном объеме, без учета солнечного календаря.
Гастрономические особенности праздника были следующими: накануне красили яйца и разговлялись ими после поста, и лишь потом — другими яствами. Непременную принадлежность праздничного стола составляли, кроме крашенных яиц, небольшой пшеничный круглый хлеб, на котором изображались три головы, символизировавшие, предположительно, Св. Троицу. В этот день устраивались состязания в стрельбе, целью для которой служило красное яйцо [2, с. 53] [23, с. 159] [57, с. 111]. Обряд Пасхи у черкесов описывал также офицер русской армии Т. А. Зубов [20, с. 21] и исследователь Д. Г. Анучин [3, с. 266–267].
Рождественский пост. За неделю до Рождества начинался пост — Тлеумсикъ. Проходил он так: «Постились целую неделю, питаясь одними лишь бобами, и этот пост еще называется мясопуст. После сего праздновали Рождество Христово» [23, с. 159]. Следует обратить особое внимание на продолжительность поста, который у адыгов был семидневным. Сама дата установления Рождественского поста относится ко времени раннего христианства, а именно к IV в. При этом особенно примечательно, что первоначально по церковным канонам он длился столько же — семь дней, и лишь после церковной реформы 1166 г. по решению патриарха Константинопольской церкви Луки Хрисоверга этот пост стал сорокадневным. Данный факт свидетельствует о том, что христианство окончательно укоренилось у адыгов раннее X в., скорее всего в период правления императора Юстиниана Великого.
Рождество Христово . 25 декабря (7 января) православная церковь отмечает праздник Рождества Христово — Созерис . Его адыгское название восходит к языческим временам, и дословно означет — «покровитель хлебопашцев». После принятия христианства адыгами этот праздник наложился на Рождество. Вот как его описывает Л. Я. Люлье: «К этому времени вносится в дом сук о семи ветвях дерева Гамшхут ; к ветвям прикрепляются свечи из желтого воска, пирожки и кусочки сыра. Во многих странах Европы есть обычай ставить накануне Рождества Христова елки украшенные разными подарками для детей» [37, с. 26–27]. Еще один очевидец данного торжества отмечал следующее: «В начале каждого года, в первых числах января, постились… После сего, праздновали Рождество Христово, тоже целую неделю, проводя время в пирах и забавах» [23, с. 159].
Крещение Господне — Кордесех, Псуткъ праздновалось через две недели после Рождества — 6 (19) января, сопровождаясь веселыми народными играми. Адыль-Гирей повествует о нем так: «Жители берут воду и опрыскивают ею друг друга» [2, с. 53].
Сретение. Следующим праздником в церковном годичном круге является Сретение Господне — Созерешъ, который православная церковь отмечает 2 (15) февраля. Он имел схожее название с праздником Рождества. Этот праздник у адыгов проходил так: «Накануне, в вечернюю пору, в дом молитвы входила новобрачная молодая женщина, богато убранная, с зажженной свечей в руке (остатком от прошлогоднего праздника), и ей зажигала другие свечи и осветив дом становилась у запертых дверей; и во все время пребывания в молитвенном доме не должна была отворачивать лица от востока. Тем временем у дверей собирался народ. Хромой старик, с палкой усаженной восковыми свечами, подходил к той двери и говорил: «Ай, созерешъ, пчерухи тхечахъ», что значит: «Отверзай нам двери». Народ единогласно повторял эти слова, и когда молодая женщина отворяла двери, тогда старик со всем народом входил в дом, зажигал на палке свечи и читал молитвы. Потом в молитвенном доме и вне его раскладывали костры, народ расходился по своим жилищам с зажженными свечами и ими каждый зажигал у себя свой костер» [23, с. 159].
Обычай совершать массовые шествия со светильниками или свечами на праздник Сретения пришел из Византии, утвердившись в 542 г., в царствование Юстиниана I, перед тем, как империю поразила страшная моровая язва. С учетом анализа этого праздника можно с большой степенью достоверности очертить период, в рамках которого произошло принятие христианства адыгами — с VI до XII вв.
Благовещение или Нагышатах отмечается 25 марта (7 апреля). В этот день вспоминают возвещение Архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении от Нее Иисуса Христа. По преданию, Архангел приподнес Ей в подарок лилию. И как раз Благовещение переводится как подарок свежими цветами. В адыгейском языке используется слово цветок как къэгъагъ . Сейчас весной в Адыгее организуется праздник цветов, который называется Къэгъэгъэштахь и переводится как «сбор цветов» ( къэгъагъ «цветок» + штэн «взять / поднять» + хьын «принести»). Но примечательно, то что в шапсугском диалекте адыгейского языка цветок обозначается как — нэкъ-ыгъ . Поэтому следует предположить, что данный праздник более всего сохранился именно у шапсугов. В середине XIX в. вот как его отмечали: «Девицы и молодые женщины толпами идут в поле, собирают цветы и дарят их друг друга. На вопрос о причине такого обыкновения, старики сказывали, что это перешло к ним от предков, в ознаменование того, что Ангел при Благовещении св. Марии принес цветок» [17, с. 40] [23, с. 159].
Масленица. Перед Великим постом адыги также отмечали Масленицу — Угагъ , Угаг. Этот праздник не имеет отношения к церковному кругу богослужения и является реликтом русского язычества. После принятия христианства он трансформировался как заговенье перед Великим Постом. Сам этот праздник пришел к черкесам с Руси.
Мясопуст и Сыропуст . Отмечали адыги и праздники, выпадающие раннею весной: «Мясопуст» — Ллеумешле и «Сыропуст» — Ко-аяште. Первый переводится как «не ешь мяса»
и предписывал воздержание на мясные продукты перед постом, а второй, название которого означает «взятие сыра», являлся последним днем Масленицы — в последующее время употребление молочных продуктов воспрещалось [17, с. 40] [37, с. 28].
Был знаком адыгам и Великий пост — Угыг, выпадавший на весну и продолжавшийся сорок восемь дней [23, с. 159]. Так же, как и сейчас у православных он длился шесть недель плюс седьмая — Страстная седмица. О том, что пост ими переносился легко, упоминает Н. Ф. Дубровин: «В обычай черкесов вошло соблюдение некоторых постов, и тем легче, что за исключением особых случаев, горцы постоянно крайне умеренны в пище» [17, с. 29]. О соблюдении этого поста упоминали как отечественные, так и зарубежные путешественники [2, с. 53] [7, с. 339–341] [8, с. 372–373] [32, с. 621–628] [61, с. 319]. Так, католический монах доминиканского ордена, посетивший черкесов в середине XVII в., подробно описывал, связанные с ним нормы: «По вторникам, средам и пятницам они не едят мяса круглый год; соблюдают посты пред праздниками святых апостолов в июне и Успения Пресвятой Богородицы в августе; постятся несколько дней перед Рождеством Христовым, а также весь Великий пост, все по уставу греческого вероисповедания» [16, с. 67].
Но уже через двести лет, в середине XIX в., современники, посетившие черкесов, упоминали об исключительно одном вида пищи от которого воздерживались — яиц и о его двухнедельном сокращении. Так, Дюбуа де Монпере пишет: «И за пятнадцать дней до праздника [Пасхи], наподобие поста, воздерживаются от употребления в пищу яиц» [18, с. 448–450]. Священник Иоанн Хазров дает важные сведения о том, как проходил пост: «В продолжении всего поста собирали яйца, но не употребляли их ни для какой нужды, и разбить яйцо почитали преступлением» [23, c. 159]. Здесь, возможно, сведения были не полными, так как, например, Хавжоко Шаукат Муфти свидетельствует о воздержании от мяса в Великий пост даже в начале XIX столетия: «Старики рассказывают, что наши деды не ели мяса весной» [24, с. 25]. Но, скорее всего, одновременно с отходом от христианства за это время былая строгость соблюдения постов существенно смягчилась.
Вербное воскресенье . За неделю до воскресенья Христова Господь въехал на ослице в Иерусалим под ликование всего города. В воспоминание этих событий установлен праздник Вход Господень в Иерусалим. Вот как об этом повествует Евангелие: «Иисус въезжает верхом на осле в Иерусалим, где его встречает народ, полагая на дорогу одежду и пальмовые ветви с восклицаниями: «осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!» (Мф. 21:9). В России пальмовые листья заменяли веточками вербы, отсюда берет свое начало и название этого праздника — Вербное воскресенье — Гушгах . С адыгейского переводится как воскресенье мертвых. Данный праздник переходящий, то есть не имеет точной даты и его отмечают в шестое воскресенье Великого поста. В этот день адыги отправлялись на могилы поминать своих родственников молитвами, яв-ствами и разными благотворениями [17, с. 40] [23, с. 159]. Здесь следует отметить наслоение этого дня на праздник, отмечаемый двумя неделями позднее — Радоницу или днем поминовения успоших, который был введен церковью только в XIV в., поэтому с большой степенью вероятности мог перейти к адыгам во времена Иоанна Грозного.
Страстная седмица . После Вербного Воскресенья и вплоть до Пасхи, у православных наступает самая скорбная неделя в году — Страстная седмица, которая была известна и адыгам под названием Шечаръ . В это время вспоминается предательство, бичевание и распятие Иисуса Христа. Адыги проводили это время так: «Постились целую неделю, а некоторые вовсе ничего не ели» [23, с. 159]. Эта цитата передает очень большую религиозность народа, так как полный отказ от пищи в течении всей этой недели положен только по монастырскому уставу.
Вознесение Господне. День Святой Троицы. На сороковой день после Пасхи церковь отмечает Вознесение Господне — Отбекъ. В этот день воскресший Иисус Христос телесно вознесся на Небо. Название этого праздника переводилось с адыгейского как «жребий». Именно на десятый день после Вознесения апосто- лы собрались в Сионской Горнице и бросали жребий, в какую страну идти каждому из них. То есть у адыгов со временем произошло наслоение двух праздников — Вознесения и отмечаемого после него дня Св. Троицы — Жегу, Тхьэнапищ. В день Вознесения Господня приносили в жертву ягненка, приготовляли из него обед, убирали свои дома ветками деревьев и цветами, при этом в определенной степени отождествляя этот праздник с днем св. Троицы [2, с. 53] [17, с. 40] [23, с. 159].
О празднике Преображения Господня, отмечаемом церковью 6 (19) августа сведений найти не удалось, хотя он и считается двунадесятым, то есть одним из двенадцати важных.
Успение. Очень много сведений сохранилось о празднике, посвященном телесному вознесению Божьей Матери. Успение Пресвятой Богородицы — Тгагрепыхъ, Мерием Тгаш-хуо-янь, Ташхоянъ приходится на 15 (28) августа. Название этого праздника переводится как «Божия Дочь», «Господня Дева». Называя св. Марию «Матерью великого Бога», черкесы питали к ней особенное благоговение. Множество хвалебных песен в честь Богородицы, длинный ряд осенних праздников свидетельствуют о большом ее уважении среди народа. В этот день каждая девушка должна была отнести на место моления цыпленка и там приготовить из него кушанье. Собравшийся народ пробовал эти угощения и после него поздравлял присутствующих с заговеньем в честь Богородицы. Постившись всю следующую неделю, в воскресенье отмечали праздник Богородицы, называвшийся Ташхоянъ , то есть Матерь Божья. В этот день всенародно пели песнь в честь Богородицы: «Ташхояне ми-риамшхо, мериемнефъ тиефжанъ дыхрзынашъ мазе зыпшахъ» , что значит: «Великого Бога Мать-великая Мария, светлая Мария, облаченная в золото белое, на челе имеет луну, а вокруг себя солнце». Подобных хвалебных песен во славу Божьей Матери много, и Пресвятая Дева до сих пор в особенном почитании у горцев [8, с. 372–373] [17, с. 41] [23, с. 159] [37, с. 28].
Покров. Кроме основных, двунадесятых праздников, существуют еще свидетельства о почитании двух не менее важных. Первый из них выпадал на октябрь месяц, и был также посвящен Богородице. Это празник Покрова Божьей Матери — Мерем, который церковь отмечает 1 (14) октября. Английский агент Джон Белл оставил краткую заметку о нем: «23 октября 1837 г. В это время года в течение двух недель совершается праздник, называемый Мерем. Черкесы утверждают, что праздник этот установлен в те времена, когда в Черкесии господствовало христианство, в честь Матери Христа!» [5, с. 489]. Как видно из этого текста, адыги переместили праздник Покрова на три недели.
Его история была связана с событиями в Византии при императоре Льве Мудром, когда империя вела войну с сарацинами — мусульманами (902 или 910 гг.), и Константинополю угрожала опасность. В иных источниках говорится о войне с племенами русов или болгар. Вражеский флот, осадивший Константинополь, угрожал городу, и тогда было принято решение опустить в воды моря покров (головной убор) Божьей Матери, который хранился во Влахернской церкви Царьграда. После этого поднялся сильный шторм и потопил большинство вражеских судов. В 1164 г. кн. Андрей Боголюбский ввел этот праздник в синокса-рий Русской церкви.
Еще одним христианским праздником, отмечаемым адыгами, был день апостолов Петра и Павла — Абшетлабшетсутъ , который церковь празднует 29 июня (12 июля). Его название переводится как «храбрые воины» или «мужественные сподвижники» [23, с. 159]. Такое название было дано, скорее всего, в честь этих апостолов. Во время празднования произносили молитвы и каждый осыпал себя мукою. Этот обряд, видимо, символизировал духовное очищение. Например, даже в наши дни в некоторых горных селениях Дагестана сохранился свадебный обычай, во время которого невесту посыпают мукой.
Как видно из анализа христианских праздников, некоторые из них имели сугубо византийский след, а другие — ярко выраженный русский, при этом христианские праздники наложились на местные народные традиции. Данный факт говорит о сложном, многомерном процессе христианизации адыгов. Так, при византийском императоре Юстиниане Великом ими было принято христианство, поз- же частично утраченное, а позднее при царе Иоанне Грозном, уже Русское государство пыталось осуществлять христианскую миссию на Кавказе. Из истории также известна и роль Грузии в попытке обращения адыгов в православную веру, но в обрядово-праздничной сфере грузинского влияния не зафиксировано, между тем оно сохранилось в церковной архитектуре.
Возможности историко-культурной реконструкции элементов христианства в кульу-тре адыгов существенно расширяются с использованием научного инструментария языкознания, позволяющего провести лингвистический анализ некоторых адыгейских слов и словосочетаний. Этимологические и ономастические изыскания свидетельствует, что христианские названия давались не просто рядовым словам, а зачастую первостепенным; часто употребляемым, например, таким как дни недели и имена.
Дни недели. Черкесские названия дней недели указывают на то, что адыги некогда исповедовали христианскую религию и принадлежали к православной церкви. Так, среда до сих пор называется бираскезий , а пятница — бираскешхуо, что соответственно переводится как «малый» и «великий пост». В адыгейском языке лексемы «бэрэскэжъый» и «бэрэскэшху» имеют общий корень «бэрэскэ» . Данное слово-корень обозначает пост, а значение суффиксов в этих словах: — жъый «маленький», — шху «большой». В кабардинском языке для обозначения пятницы используется теоним Мерэм , Мерием , Мириам , что означает Божья Матерь, св. Мария [65, с. 266].
Следует пояснить, почему именно эти дни считаются постными. Практика воздержания христианина от продуктов питания животного происхождения в среду и пятницу восходит еще к первым векам христианства. В среду православные постятся в память о предательстве Иисуса Христа Иудой. Священное Писание возвещает о том, что именно в среду перед еврейской Пасхой Иуда Искариот предал Христа за тридцать сребренников фарисеям и законоучителям, и пост совершается в память об этом скорбном событии. Библейская история объясняет и то, почему православные постятся в пятницу: именно в этот день недели Его распяли. «И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский» (Ин. 19:17–19).
Воскресенье — Тхавмахъ , Тхьаумаф , Тга-умаф переводится как «Божий день». По евангельскому повествованию, в этот день Иисус Христос воскрес, поэтому он назначен для отдыха, и в воскресный день христиане не работают. Монах Юлиан еще в XIII в. описывал большое почитание его зихами: «Многие христианские праздники чествуются также и горцами. Так, например, день воскресный они называют Божьим днем и воздерживаются тогда от работ» [2, с. 53]. Эти данные также подтверждают исследователи: Шора Ногмов [25, с. 497], И. Ф. Бларамберг [8, с. 372–373], Тэбу де Мариньи [19, с. 404], Дубровин Н.Ф [17, с. 32], священник Иоанн Хазров [23, с. 159] и современные историки [11, с. 66] [38, с. 106]. Таким образом, из семи названий дней недели, три явно являются продуктом христианского влияния, что говорит о глубоком проникновении учения Христова в культуру адыгов.
Во многих личных именах сохранились следы библейского влияния. И В настоящее время можно встретить такие имена как: Адам (др.евр. «человек»), Асфар (др. евр. «пятикнижие Моисея»), Илья (др. евр. «сила Божья»), Искандер (Александр, др. евр. «победитель мужей»), Исмаил (др. евр. «Бог слышит»), Марьям (Мария, др. евр. «горькая»), Нух (Ной, др. евр. «утешение»), Сара (др. евр. «госпожа»), Сулайман (Соломон, др. евр. «мирный, защищенный»), Хавва (Ева, др. евр. «источник жизни»), Шамиль (Самуил, др. евр. «услышанный Богом»), Юнус (Иона, др. евр. «голубь»), Юсуф (Юсиф, Иосиф, др. евр. «приумноженный»), Якуб (Яков, др. евр. «идущий следом»), Яхья (др. евр. имя одного из ветхозаветных пророков) [19, с. 404].
Пословицы, народные традиции и богослужебные книги. Для определения христианских элементов в устном народном творчестве адыгов вновь необходимо обратится к лингвистическим методам исследования, в частности, к опыту, накопленному фразео- логией — разделом лингвистики, изучающим устойчивые речевые обороты и выражения, а также фразеологическую систему языка в ее современном состоянии и историческом развитии.
По свидетельству Н. Ф. Дубровина, песни, сказки и предания черкесов свидетельствуют о христианской эпохе. Поговорка гласящая: «Ударь хлебом в того, кто ударит в тебя камнем», возникла, вероятно, во времена христианства и указывает на необходимость терпения. Более того, она напоминает нам заповедь Христа: «А я говорю тебе, чтобы ты не противился злу: кто бы ни стукнул тебя по првавой щеке, подставь ему ещё и другую» (Мф. 5:39).
Память об исламизации народа со стороны Османской империи и Крыма в начале XVIII в. сохранилась и в народном сознании: «Чтобы твое имущество, — говорит адыг, рассердившейся на соседа, — было расхищено как расхищены были шогенские (священнические) жезлы!» [64, с. 24]. Многие христианские обычаи и традиции стали национальными. Например, нельзя жениться на двоюродной сестре — это является одной из традиций православной церкви [17, с. 25] [64, с. 25].
Интересно появление слов шоген , которое обозначает православного священника, и шехник — епископа, по преданию, жившего в четырех километрах от Нальчика, на месте до сих пор известном народу под именем «Лесистого кургана» . В начале XIX в. польский писатель Ян Потоцкий описывал православные книги, хранящиеся у горцев: «У них есть также несколько греческих молитвенников, которые никто не решается открыть, но на них они приносят клятву» [54, с. 226]. Шора Ногмов рассказывал о рукописном греческом Евангелии, хранившемся в одной адыгской семье: «Уздень Исмаил Шогенов имел в своем доме рукописную книгу, которая принадлежала его предкам, переходила по наследству от отца к сыну в его семействе. Он был последний из умевших читать ее и скончался в 1830 г., в глубокой старости. Господин академик [А.М.] Шегрен, которому я посылал несколько листов из этой книги, утверждал, что она писана на греческом языке и что посланные ему листы заключали в себе начало Евангелия» [44, с. 43].
Христианская топонимика Адыгеи. Топонимика — раздел языкознания, занимающийся изучением происхождения местных географических названий и находящийся на стыке многих наук — истории, этнологии, языка, географии, фольклора, археологии. Топонимический материал может быть отнесен к особому виду исторических источников, отражающих народную память, запечатленную в названиях местностей, часто употребляемых словосочетаний. Приведем некоторые термины, ведущие свое происхождение от христианской символики. Например: Пцелыр , Пцелир , переводится как «Вербовая роща». Джорэ чъыг (Джоре чиг) — джорэ «крест», чиг «дерево», дословно «Крест дерево» [деревянный крест]. Джорэ тхьэлъэIупI (Джоре Тхатлеуп) — джорэ «крест», Тхтэ — «Бог», лъэIон — «молиться», пIэ — «место», то есть «место у креста, где производят молебны» [41, c. 44–45] [42, с. 138].
Археологический материал, связанный с христианством, довольно хорошо сохранился в памятниках, относящихся к культуре адыгского народа. Н. Ф. Дубровин, один из российских исследователей Кавказа XIX в. писал, что частые находки зарытых в землю распятий и глиняных горшков с угольями и ладаном — неопровержимые свидетели присутствия между адыгским народом христианства, что подтверждается нахождением развалин архитектурно-церковных сооружений бывших церквей. Другие исследователи кавказских древностей также упоминают о сохранившихся руинах христианских церквей, «которые до сегодняшнего дня почитаются как священные и неприкосновенные убежища» [8, с. 372] [17, с. 32] [30, с. 262].
Остатки церквей и часовен. К. Ф. Сталь в своем исследовании отмечал шесть таких церквей [58, с. 227]. Адыль-Гиреем описано пять развалин древнехристианских храмов: Кефар, в 13 км. от укрепления Надежинского, недалеко от аула Сидова; на месте Надежин-ского укрепления; на вершинах Большого Зеленчука сохранились церковь и каменные строения; на Малом Зеленчуке, между аулами Абатова и Трамова, видны развалины древней христианской церкви и кладбища; на левом берегу Кубани, против Хумары, на р. Шони, видна хорошо сохранившаяся христи- анская церковь, с остатком других строений [2, с. 50–51].
До наших дней дошли древнейшие на территории России монументальные архитектурные памятники — Зеленчукский, Шо-анинский и Сентинский храмы. Они связаны с деятельностью Аланской епархии, существовавшей в X–XI вв. Наиболее полно живопись сохранилась в интерьере Сентинского храма в ущелье р. Теберды. В конхе над алтарем размещалось монументальное изображение Богородицы Оранты, на северной и южной стенах аспиды — две группы святителей, верхний ярус живописи в кафоликоне храма занимали сцены так называемого праздничного цикла. Как и в Зеленчукском храме, фрески Сентин-ского храма сопровождались греческими надписями и автографами прихожан XIX в. [10, с. 10–15].
Адыгский просветитель Шора Ногмов указывал на каменное здание Шона (Чона), находящееся при слиянии Кубани с Тебердою, как на церковь, крестообразная форма которой доказывает ее греческое происхождение. Л. Я. Люлье в своих историко-этнографических статьях, касаясь темы церковной археологии, повествует о развалинах христианских храмов во многих местах в «странах черкесов», по верховьям р. Кубани, в особенности по северному склону от перевала через главный Кавказский хребет в Абхазию. Однако лишь один Пицундский храм устоял против разрушительного влияния времени и довольно хорошо сохранил даже купол [1, с. 154] [37, с. 26].
По данным археолога Н. Г. Ловпаче, на левом берегу р. Белой, в г. Майкопе, сохранились остатки фундамента, по своим очертаниям напоминающие крест. Не исключена возможность, что здесь ранее находилась христианская церковь [19, с. 398]. Этой же позиции придерживается и монах Прокопий, описывая остатки четырех фундаментов древнехристианских церквей, первый из которых находится напротив дубзавода (Майкоп); второй — в бассейне р. Губс в 15 км. от Свято-Михайловского монастыря; третий — у Белореченска и четвертый фундамент на горе Острах в 1 км. от обители [55, с. 69–82].
В XIX в. между станицами Ханской и Белореченской были обнаружены развалины древнего христианского храма, построенного, судя по надписи на древне-армянском языке, в 1171 г. Между тем современный ученый-археолог А. В. Пьянков на основании работ А. Амиранашвили и Д. Каштанова привязывает дату постройки или освящения храма к 1468 г. [56, с. 237–242].
Особенно много христианских памятников встречается на пространстве от р. Белой до верховьев р. Кубани. Это — полоса длиной более 215 км. и шириной 85 км.: такое близкое расположение памятников к Главному Кавказскому хребту, по другую сторону которого находится Абхазия, наводит на мысль об их связи с распространением христианства из Абхазии, а также с влиянием Грузии и Византии.
В источниках встречаются упоминание и о бывших русских храмах времен Иоанна Грозного — «Развалины Татар», находившихся на западном берегу Терека в 7,5 км. выше устья речки Комбулеевка: «Там есть также две церкви совершенно в русском стиле. На внутренних стенах изображены фигуры святых; эти изображения, вероятно, относятся к XVI в., то есть к периоду, когда после блестящих завоеваний царя Ивана Васильевича русские миссионеры обратили черкесов в христианство» [8, с. 420].
Каменные кресты и плиты . Большой интерес представляет каменный крест близ станицы Губской, относящийся к VII в., с надписью на греческом языке. Ш. Ногмов описывал лестницу на правом берегу Подкумки, сделанную в камне, с шестью ступенями, ведущую на вершину горы, где были найдены серебряные кресты. На Рим-горе, возле Кисловодска, был обнаружен крест с греческой надписью VIII в. В местности Песчанка, недалеко от Нальчика, также были найдены христианские кресты, высеченные на стенах катакомб VII–IX вв. [25, с. 136] [35, с. 44]. Церковным историком Д. И. Успенским, описывается немало каменных крестов и надгробных плит с греческими надписями [63, с. 21–23]. На р. Кефаре в 13 км. от укрепления Надежинского, у аула Сидова находятся развалины большого христианского поселения: «Вне стены, окружавшей колонию, находится кладбище с памятниками кубической формы; около входа в одну из таких гробниц стоит крест» [2, с. 50].
Сохранились свидетельства христианского погребального обряда у адыгов. В поселке Гостагай (Анапского района) выявлена надпись на греческом языке следующего содержания: «Усоп раб Божий и младенец Охормаз. Генеджуата, жена Кан[…]атола» [21. c. 256]. Заслуживает особого внимания группа из четырех больших каменных крестов в долине Сукко (12 км. юго-восточнее Анапы), которая была открыта и описана еще в XIX в. Один из этих крестов запечатлен на цветной литографии Г. Бернарда, изображающей расположившихся возле него троих вооруженных черкесов. А. М. Новичихин смог расшифоровать греческие надписи на кресте и датировать их XIV в. [43, с. 39–43].
В 1985 г. в станице Курджипской была обнаружена известниковая плита (1,2 х 0,7 х 0,25 м.) с греческой христианской надписью на лицевой стороне: XC ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГДА [Господа] БГА[Бога] НАШЕГО И[сус]А Х[риста] НОЯБРЬ 12, которая сейчас хранится в фонде археологии Национального музея республики Адыгея. В соответствии с выводами автора находки В. А. Трифонова, датировка на плите указывает на 557 г., но он посчитал ее орфографической ошибкой и установил «предпочтительную» дату на тысячу лет позже: 1557 г. В. А. Трифонов считает, что данный памятник связан с попыткой России возродить христианство в Адыгее при Иоанне Грозном [62, с. 156–157].
Археолог А. В. Пьянков в соавторстве с Д. В. Каштановым критически подошли к датировке памятника. В частности, по их утверждению, на плите вообще нет указания даты и по проведенному сравнительному анализу она испытывает близость к уташской плите (1468 г.), опубликованной В. В. Латышевым, и плите из Краснодарского музея, лучшая на сегодняшний день атрибуция которой принадлежит Д. В. Каштанову (1392 г.). Авторы статьи также подтвердили неграмотность резчика: «На три короткие строки он совершил две ошибки в виде перестановки букв» [28, с. 171–173]. По мнению А. В. Пьянкова, высказанному в личной переписке, «позднесредневековая датировка ближе к истине. Она может датироваться вплоть до XV в. включительно».
Схожей датировки памятника придерживается и специалист по кавказской археологии и эпиграфике А. Ю. Виноградов, им также исключена ранняя хронологическая привязка (VI в.): «Шрифт надписи демонстрирует крайнюю близость к кубанскому надгробию Педирико и Марии 1392 г., и оно должно датироваться временем около 1400 г.» (из личной переписки с А. Ю. Виноградовым).
Нет оснований не соглашаться со специалистами, но между тем вопрос окончательной датировки греческой плиты из станицы Курджипской все еще остается открытым по следующим причинам:
-
1) В. А. Трифонов в своей статье указал на дату 557 г., хотя он сам ее не поддержал, признав ошибочной. Однако именно в этот период со стороны Византии осуществлялась самая активная христианизация адыгов за всю их историю.
-
2) Если принять за основу предложенный им же год — 1557 г., то наличествует определенная фактологическая противоречивость. Во-первых, греческое влияние в регионе давно угасло, и в пользу этого говорят свидетельства европейских путешественников, например, сведения, принадлежащие итальянскому географу и этнографу Джорджио Интериано. Он отмечал, что в это время у адыгов были православные священники, которые совершали службы, но в то же время они уже не придерживались церковных канонов и проводили их импровизированно: «Священники у них служат по-своему, [употребляя] греческие слова и начертания, не понимая их смысла» [22, с. 47]. И во-вторых, весьма странным выглядит факт написания греческого текста русскими миссионерами. В данных обстоятельствах датировка А. В. Пьянкова, Д. В. Каштанова и А. Ю. Виноградова (1392–1468 гг.) выглядит более убедительной, так как в конце XIV — начале XV вв. греческое духовенство еще присутствовало среди адыгов и греческий язык был не забыт.
-
3) Если же принять версию о том, что резчик не был носителем греческого языка, что с учетом допущенных ошибок вполне может соответствовать действительности, то датировка надписи определенно смещает-
- ся в более поздний период, и в данной связи версия В. А. Трифонова уже не кажется столь «пугающей».
В любом случаи для продолжения научного исследования было бы неплохо привлечь современные археологические методы, например, воспользоваться методом мюонной радиографии, хотя конечно он более эффективен при анализа объемных объектов, а не для уточнения датировок. Также можно использовать метод радиоуглеродного анализа, с помощью которого, например, в 2018 г. ученым Археологического центра имени Е. И. Крупнова в Назрани совместно с Институтом географии РАН удалось уточнить датировку древне-христианского храма Али-Ер-ды в Ингушетии, удревнив ее на три столетия — до VII–X вв.
Мелкая христианская пластика . В по-следнеевремяколичествотакихнаходокзамет-но возросло, только в границах современной Адыгеи было найдено пять нательных крестов, два энколпиона и образок. Рассмотрим более подрбно нательный крест из фонда национального музея республики Адыгея с шифром НМРА-12446/1. Его высота — 5 см., ширина — 3,3 см; толщина — 0,3 см. Он изготовлен из се-ребра,отлит в одностороннейформе, с четырьмя ветвями. В его центре припаян круглый каст в виде чашечки со стеклянной вставкой из голубогостекла. В верхнейчастикрестаиме-ется петля для подвешивания. Специалисты исследовавшие этот крест, подчеркивают его уникальность, так как полной аналогии найти не удалось, но все же по сопутствующим предметам при находки креста ими была установлена примерная его датировка — это VIII–IX вв. [14, с. 72–81].
Список литературы Элементы христианства в культуре адыгов по данным этнографических, лингвистических и археологических источников
- Адыль-Гирей Кешев. История адыгейского народа, составленная по преданиям кабардинцев Шора-Бекмузин Ногмовым // Избранные произведения адыгских просветителей. Нальчик: Эльбрус, 1980. С.142-163.
- Адыль-Гирей. Черкесы. Отрывок из «Очерка горских народов правого крыла Кавказской линии» // Избранные произведения адыгских просветителей. Нальчик: Эльбрус, 1980. C.49-66.
- Анучин Д.Г. Очерк горских народов Правого крыла Кавказской линии // Русские авторы XIX в. о народах Центрального и Северо-Западного Кавказа: в 2-х т. Нальчик: Эль-Фа, 2001. Т.2. С. 245-298.
- Ахохова Е.А. Природа теонима «Тха» («Бог»): базовые гипотезы // Мир культуры адыгов. Майкоп: Адыгея, 2002. C.112-117.
- Белл Дж. Дневник пребывания в Черкесии // Адыги, балкарцы, карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIX вв. Нальчик: Эльбрус, 1974. С.458-530.