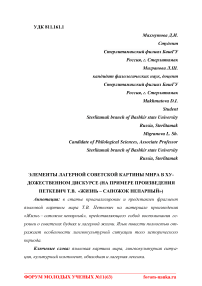Элементы лагерной советской картины мира в художественном дискурсе (на примере произведения Петкевич Т.В. "Жизнь - сапожок непарный")
Автор: Махмутова Д.И., Мигранова Л.Ш.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 11 (63), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализирован и представлен фрагмент языковой картины мира Т.В. Петкевич на материале произведения «Жизнь - сапожок непарный», представляющего собой воспоминания героини о советских буднях и лагерной жизни. Язык повести полностью отражает особенности лингвокультурной ситуации того исторического периода.
Языковая картина мира, лингвокультурная ситуация, культурный компонент, обиходная и лагерная лексика
Короткий адрес: https://sciup.org/140288316
IDR: 140288316 | УДК: 811.161.1
Текст научной статьи Элементы лагерной советской картины мира в художественном дискурсе (на примере произведения Петкевич Т.В. "Жизнь - сапожок непарный")
Язык является средством отражения исторической эпохи и тех особенностей, которые существовали в определенный момент времени и в конкретной среде. Язык сохраняет в себе культурные ценности, традиции, обычаи, быт народа. Каждый период в истории нашей страны со всеми его радостями, победами, потерями, болью и поражениями находит выражение в русском языке с помощью лексики. В языке сохраняется память народа, и даже спустя много лет мы можем окунуться в атмосферу того или иного периода и в полной мере прочувствовать все, через что прошел другой человек.
Для полноценного восприятия произведения важно описать лингвокультурную ситуацию той исторической эпохи, в которой жил автор. Лингвокультурная ситуация - процесс взаимодействия языка и культуры в исторически сложившемся регионе и социальных средах [7, с. 19].
«Жизнь - сапожок непарный» Т.В. Петкевич относится к специфическому жанру литературы - к воспоминаниям. Автор-повествователь отразил в книге трагическую историю жизни главной героини Тамары, используя авторскую манеру изложения. Подчеркнем, что в повести как в художественном тексте воплощается индивидуально-авторская языковая кар- тина мира, опосредованная дважды «языком и индивидуально-авторской концептуальной картиной мира» [5, с. 40].
С помощью метода сплошной выборки мы отобрали слова из произведения Т.В. Петкевич, отражающие ту историческую эпоху - период тоталитарного режима и лагерную жизнь.
Лингвокультурная ситуация СССР, осознанная и преобразованная в восприятии, нашла отражение в ее языковой картине мира. Из всех лексических единиц, существовавших в языке в то время, наиболее важным для понимания языковой картины мира писателя является употребление слов, которые отображали лингвокультурную ситуацию: жаргонизмов, воровского сленга, лагеризмов. Лагеризмы - специфическая лексика лагерного субъязыка. Их большая часть относится к группе слов, содержащих так называемый культурный компонент значения (подробнее о культурном компоненте значения см. [2, с. 44]). Отметим, что слой русской лексики, используемый Т.В. Петкевич в воспоминаниях, не является литературным приемом, это сама органика повествовательного процесса.
Представим фрагмент языковой картины мира Т.В. Петкевич. Рассмотренная нами лексика объединена в четыре крупных тематических блока: «Еда», «Одежда», «Лагерная жизнь» и «Работа».
Как известно, естественной и каждодневной составляющей быта является еда. К первой группе относятся наименования еды, которую употребляли в пищу заключенные. В то время во всей стране отмечался дефицит продуктов, поэтому питание было очень скудным, недостаточным для нормальной жизнедеятельности. Люди постоянно испытывали голод, недоедали. Приходилось есть не полноценную пищу, а, например, отходы, остатки еды, очистки картофеля, траву. Ср.: «...они шли на помойку и перерывали ее сверху донизу…выбирали из нее все пригодное. Обсасывали и глодали кости, которые выбрасывала обслуга, рвали там лебеду, другие травы и поддерживали себя крапивными супами» [4, с. 169].
Важно отметить, что в те голодные, страшные годы в стране существовал культ хлеба. Хлеб являлся самым ценным и калорийным продуктом. На нем можно было прожить достаточно много времени без ущерба для здоровья, поэтому за кусок хлеба заключенные готовы были многое отдать.
Во многих лагерях вес выданного на человека хлеба определялся в зависимости от выполнения необходимой нормы выработки. Чтобы хоть как-то спастись и получить необходимый паёк, приходилось работать до потери сознания, до изнеможения. Людей наказывали хлебом, т.е. недодавали его. Чувство голода преследовало каждую минуту. Удовлетворение своих физиологических потребностей стало чуть ли не единственным смыслом в жизни.
Иногда продукты задерживали, не привозили или начальство распоряжалось выделенным на заключенных пайком по-своему усмотрению (продавало его на рынках). Тогда заключенные могли несколько дней остаться без еды.
Привычным блюдом лагерной жизни является бурда - мутное безвкусное жидкое кушанье [3]. Ср.: «Дежурные внесли в барак цинковый бак с бурдой, как здесь называли подкрашенную чем-то коричневую жидкость - «кофе»» [4, с. 163]. В воровском жаргоне бурда - жидкая тюремная пища [6].
К жидкой невкусной пище относится и баланда - плохая еда, чаще всего - жидкий суп [3]. В воровском жаргоне - тюремная похлебка [6]. Ср.: «суп с кукурузными крупинками, догонявшими одна другую, прозывался здесь «баландой»» [4, с. 163].
Второй тематический блок - наименования одежды. Лагерные заключенные чаще всего носили то, в чем попали в тюрьму. Новая одежда во время войны практически не выдавалась, донашивали свои вещи, одевались не по погоде, мерзли, болели и умирали. Вот как об этом вспоминает
Петкевич: «На работу мы ходили в истлевших лифчиках и когда-то бывших цветными, а ныне просто грязных трико. От многочасовой работы и постоянного пребывания на улице при любых погодных условиях одежда приходила в негодность, пачкалась, выцветала и сгорала на солнце» [4, с. 172]. Люди переделывали вещи из того, что было: «Мой «намек» на сарафан из подкладки пальто доживал последние дни» [4, с. 172]. Для лагерной жизни характерно воровство, поэтому люди надевали несколько слоев одежды и всегда старались держать вещи при себе. Ср.: «Под голову я положила узелок с сохранившимися туфлями и шерстяной кофточкой» [4, с. 182].
Иногда кое-какую одежду все же выдавали: «Помимо телогрейки я получила хлопчатобумажные брюки и гимнастерку с настроченными на них пятью или шестью вопиюще разноцветными заплатами» [4, с. 191]. Вещи не были новыми, их много раз перешивали и передавали от одного заключенного к другому.
Телогрейка - теплая рабочая одежда, куртка, толсто простеганная на вате, без воротника или с узким отложным воротником. В советское время дешевые, удобные и теплые ватники приобрели широкую популярность в народе. В лагерях такие бушлаты, черные, из хлопчатобумажной ткани на вате, входили в состав вещевого снабжения заключенных; в каторжных лагерях в соответствующих местах тканевого покрытия делался вырез, в который вшивалась белая тряпочка с индивидуальным номером заключенного [1].
Гимнастерка - верхняя рубашка из плотной ткани, обычно с прямым стоячим воротом, принятая (до 1969 г.) как военная форменная одежда [3].
Обувь тоже не представляла собой особого разнообразия. Заключенным выдавались, например, веревочные тапочки, которые при длительной ходьбе быстро стирались и превращались в «лохмотья», резиновые бутсы, бурки, бахилы.
Бутсы – ботинки с шипами или поперечными планками на подошвах для игры в футбол [3].
Бурки – вид мужской (в особенности) и женской обуви, бывший в обиходе до 60-х гг. XX в. Имели две разновидности: высокие, под колено, с небольшими отворотами сапоги из тонкого плотного фетра на кожаной подметке с кожаными союзками (обшивкой нижней части ступни), и самодельные суконные или даже хлопчатобумажные, хорошо простеганные, на вате, с частыми вертикальными стежками невысокие сапожки, как правило, женские, носившиеся с галошами главным образом в деревне и глухих провинциальных городах, а также в лагерях [1].
Бахилы – хорошо пропитанные дегтем высокие сапоги из толстой кожи с голенищами под пах. Сапоги с высокими мягкими голенищами, подвязываемыми тесемками [1].
К третьему блоку мы отнесли жаргонную лексику и воровской сленг, с помощью которых автор наиболее полно и образно описывает жизнь заключенных и передает лингвокультурную ситуацию, свойственную сталинским лагерям. Жаргонизмы помогают погрузиться в будни заключенного и увеличивают степень читательского восприятия.
В лагерях сидели осужденные по разным статьям, что сильно отразилось на языке лагерных будней. В одном месте собрались интеллигентные, образованные, культурные люди и малограмотные, невоспитанные, грубые, совершившие реальные преступления (воровство, убийство), уголовники. В такой среде, бесспорно, часто преобладает ненормативная лексика, жаргонизмы, сниженная и грубая речь. Также следует отметить, что в лагерях нередко придумывались новые выражения или к уже существующим словам добавляли новое значение на основе схожести явлений или предметов.
Примечательно, что в одном лагере жили люди разных национальностей, что тоже наложило свой отпечаток на язык того времени, ведь каждый человек обладал индивидуальными особенностями речи.
Курочить - отнимать еду, одежду, вещи (особенно из посылки), все ценное. В бытовой речи и на уголовном жаргоне - ломать, разрушать, разбрасывать, ворошить. Раскурочить - разворошить, например, посылку или вещи зэка, чтобы отобрать лучшее [1].
Бердана - передача заключенному [6].
Бандерша - содержательница подпольного публичного дома, также незаконно торгующая спиртными напитками и пр. Женщина, занимающаяся незаконной деятельностью [1].
Шестерка - на блатном и бытовом жаргоне - тот, кто прислуживает, шестерит, а в местах заключения - мелкая шпана при ворах в законе. Шестерить - прислуживать или подхалимничать. Низшее звено в иерархии преступного мира. Шестёркам поручают обслуживание вора в законе, смотрящего, блатных [1].
Блатнячка - женщина-уголовница, профессиональная преступница [1].
Шмон - на блатном жаргоне - обыск. В лагерях шмонали при выходе из зоны на работы и при возвращении в нее, чтобы не допустить выноса или приноса чего-либо недозволенного, а также периодически и неожиданно проводился повальный шмон целых бараков в поисках запрещенных вещей, оружия, денег и пр. [1].
Мастырка - на блатном жаргоне - увечье, рана, нанесенные себе умышленно, или их имитация (искусственно вызванное нагноение и пр.) с целью уклонения от работы в лагере; симуляция заболевания. Фальшивая рана или ложное заболевание, дающее возможность уклониться от работы. Также — небольшое реальное ранение или легкая хворь, специально приобретенная для той же цели [1].
Урка - на бытовом и блатном жаргоне - уголовник, профессиональный преступник. Слово представляет собой искаженное «урок»: до революции каторжникам, занятым тяжелыми работами на рудниках, задавался на день «казенный урок»; неграмотные арестанты во множественном числе говорили «урки», «на урках» с ударением на конце, и это стало насмешливым прозвищем дореволюционных каторжан. Постепенно ударение сместилось в начало слова, а само оно стало обозначением уголовника [1].
Нары – дощатый настил для спанья на некотором возвышении от пола [3]. Нары широко применяются в местах заключения, и в русском языке само это слово служит разговорным синонимом тюрьмы.
Барак – здание лёгкой постройки, предназначенное для временного жилья [3]. Бараки устраивались также в лагерях для военнопленных, а в XX в. и в концентрационных лагерях.
Лорд – важный заключенный. Либо придурок высокого чина, либо ответственный работник на лагерном производстве, в общем, тот, с кем комендантам и нарядчикам приходится считаться [6].
Мамка – на лагерном жаргоне заключенная, кормящая младенца или находящаяся на последней стадии беременности [1].
Четвертый блок – описание деятельности, которой занимались заключенные. В каждом лагере была своя работа в зависимости от того места, где он расположен.
В основном в лагерях занимались тяжелой физической, каторжной, изнурительной работой, однако некоторая категория занималась «легким трудом».
Основная масса заключенных работала на заводе или на полях. Занимались сбором тростниковых кенафа и конопли и обработкой их в волокно. На заводе работали приемщицами волокна.
Кенаф - однолетнее травянистое растение семейства мальвовых, лубяное волокно которого употребляли для изготовления текстильного сырья [3].
Конопля - травянистое растение, стебли которого идут на изготовление пеньки, а семена на масло [3].
Волокно - тонкая непряденая нить растительного, минерального или искусственного происхождения [3].
Были также «задавальщицы», которые занимались «самой трудной операцией из всех работ на заводе - «задачей» волокна в машину» [4, с. 165].
Еще одним видом «каторжных» работ была «мокрая трепка». Заключалась она в том, что заключенный должен был бить деревянной ступой по вынутому из воды кенафу [4, с. 165].
Занимались и сельскохозяйственными работами в поле и на парниках: «Мы тяпками срубали замерзшую капусту, дергали мерзлый турнепс, грузили на платформы твердую как камень сахарную свеклу» [4, с. 181].
В одном из лагерей строили эвакуированный сахарный завод. Работу выполняли заключенные. Были сформированы бригады, каждой из которых доставалась своя деятельность. Одни рыли котлован для фундамента, другие «очищали от камней участок земли, по которой собирались тянуть железнодорожную ветку к будущему заводу», третьи - таскали кирпичи от склада к стройплощадке, четвертые - работали в карьере (ср.: «Надо было накайлить гравий, погрузить и, став «паровозом», доставить его на завод»), на камнедробилке [4, с. 184].
Иногда заводское начальство брало из лагеря нужных им специалистов, и заключенные могли работать нормировщицами.
Нормировщик - это работник, осуществляющий нормировку чего-нибудь [3].
Трудились и на лесоповале: мужчины валили лес, женщины пилили стволы. Эта работа считалась одной из самых тяжелых. Ср.: «Пилили весь день, до отупения, до боли…сверх нее, до одеревенения и далее…Уже через месяц непосильная работа оболванила, превратила в бесформенный ком» [4, с. 206].
Возможность заниматься «человеческим» трудом выпадала немногим. Люди дорожили таким местом и держались за него. Ср.: «Усердию не было предела. Хотелось ни в чем не оплошать» [4, с. 223]. Это была работа в лазарете медсестрой, в обязанности которой входили «раздача лекарств, перевязки, выполнение других врачебных назначений, кормежка» [4, с. 223], или манипуляционной сестрой для вольнонаемных, делавшей внутривенные вливания вольным и заключенным.
В лагерях занимались и творческой деятельностью. Существовал ТЭК - театрально-эстрадный коллектив, который ездил по разным лагерям и давал концерты, представления. Там пели, играли на инструментах, танцевали, ставили акробатические номера, читали стихотворения и прозу, готовили театральные постановки. Их жизнь отличалась от обычных лагерных будней. Ср.: «Было дивом видеть в пайках тэковцев американский яичный порошок, макароны и сало. Отпечаток исключительности лежал на всем. Общим с остальной лагерной жизнью была лишь несвобода» [4, с. 252].
Следует отметить, что работа в лагерях была очень тяжелая как с физической, так и с моральной точки зрения. Подъем - в 5 утра. Рабочий день длился до захода солнца, т.е. по 15-16 часов в сутки. Все это на солнцепеке или на морозе. Многие умирали от такого изнуряющего труда. Работать заставляли и больных, и беременных. Не было разницы между мужской и женской работой, всем одинаковая норма выработки. Освобождение получить было очень сложно, часто даже больной человек вынужден был трудиться до тех пор, пока его состояние не станет критическим. Чтобы вы- жить, люди шли на крайние меры и симулировали болезнь или с помощью разных подручных средств умышленно причиняли вред своему здоровью.
Итак, проанализированная нами обиходная и лагерная лексика, употребляемая в повести «Жизнь – сапожок непарный», дает представление о лагерной советской картине мира. Бесспорно, исследование языка произведения, описания событий, ситуаций, мест, изображения людей, уклада их быта, исторических реалий того периода имеет особое значение для осмысления эволюции жизни народа, развития его ментальности.
Список литературы Элементы лагерной советской картины мира в художественном дискурсе (на примере произведения Петкевич Т.В. "Жизнь - сапожок непарный")
- Беловинский Л.В. Энциклопедический словарь советской повседневной жизни [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://coollib.com/b/314885/read. (05.11.2021)
- Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: лексического фона, рече-поведенческих тактик и сапиентемы. - М.: Индрик. - 2005. - 1040 с.
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://gufo.me/dict/ozhegov. (05.11.2021)
- Петкевич Т.В. Жизнь - сапожок непарный. Воспоминания. - СПб.: Астра-Люкс, АТОКСО. - 1993. - 503 с.
- Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика / З.Д. Попова, И.А. Стернин. - М.: АСТ: "Восток-Запад". - 2007. - 226 с.
- Словарь воровского жаргона [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://gufo.me/dict/criminal_slang. (05.11.2021)
- Шаклеин В.М. Лингвокультурная ситуация и исследование текста. - М.: Общество любителей российской словесности. - 1997. - 184 с.