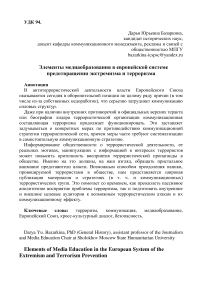Элементы медиаобразования в европейской системе предотвращения экстремизма и терроризма
Автор: Базаркина Дарья Юрьевна
Журнал: Медиа. Информация. Коммуникация @mic-iej
Рубрика: Язык как средство коммуникации
Статья в выпуске: 17, 2016 года.
Бесплатный доступ
В антитеррористической деятельности власти Европейского Союза оказываются сегодня в оборонительной позиции по целому ряду причин (в том числе из-за собственных недоработок), что серьезно затрудняет коммуникацию силовых структур. Даже при наличии внутренних противоречий в официальных версиях теракта или биографии лидера террористической организации коммуникационная составляющая терроризма продолжает функционировать. Это заставляет задумываться о конкретных мерах по противодействию коммуникационной стратегии террористической сети, причем меры часто требуют систематизации в самостоятельную коммуникационную стратегию. Информирование общественности о террористической деятельности, ее реальных мотивах, манипуляциях с информацией в интересах террористов может повысить критичность восприятия террористической пропаганды в обществе. Именно на это должны, на наш взгляд, обращать пристальное внимание представители власти. Возможным способом преодоления паники, провоцируемой террористами в обществе, нам представляется широкая публикация материалов о стратегиях (в т. ч. и коммуникационных) террористических групп. Это помогает со временем, как преодолеть пассивное аполитичное восприятие проблемы терроризма, так и подготовить внутренние и внешние целевые аудитории к возможным террористическим атакам и их коммуникационному эффекту.
Терроризм, коммуникация, медиаобразование, европейский союз, кросс-культурный диалог, безопасность
Короткий адрес: https://sciup.org/147218240
IDR: 147218240 | УДК: 94
Текст научной статьи Элементы медиаобразования в европейской системе предотвращения экстремизма и терроризма
Перемены, наступившие в области противодействия терроризму в XXI веке, говорят об осмыслении проблемы более как военной угрозы, несмотря на то, что в декларациях многих силовых структур терроризм приравнивается к организованной преступности. Эта тенденция во многом связана с появлением так называемого «мышления 12 сентября», которое сформировалось после атак на Всемирный торговый центр и которому более свойственно понимание борьбы с террором именно как войны, в отличие от «мышления 10 сентября». Профессор криминалистики Университета Оттавы Р. Крелинстен пишет:
«Начиная с атак 11 сентября, в последовавшей «войне с террором», противодействие терроризму анализируется, прежде всего, в военных терминах. Это привело к эмоциональным ... дебатам о самых основных принципах демократического общества, поскольку они касаются природы террористической угрозы... До 11 сентября терроризм, прежде всего, понимался как форма преступления; после он преобразовался в новую форму войны. Этот дискурс можно назвать «мышлением 12 сентября»...» [1; с. 8 – 9].
«Мышление 10 сентября» выводит на первый план юридические подходы к терроризму, правовые нормы, международное сотрудничество и понимание глубинных причин терроризма. Хотя военные средства считаются обязательной составляющей полного арсенала средств по борьбе с терроризмом, их считают применимыми лишь в исключительных случаях, как последнее средство, использование которого должно лежать в рамках закона и строго контролироваться. «Мышление 12 сентября» выдвигает на первый план военный подход к терроризму, дает потерпевшей стороне право на применение силы, узаконивает его, изменяя правовые нормы в случае необходимости; дает право на односторонние действия, если союзники отказываются или неспособны к сотрудничеству. Оба эти подхода к проблеме демонстрируют свою ограниченность и могут вызвать непредвиденные последствия.
Сегодняшние антитеррористические структуры Европейского Союза находятся на переходном этапе между «мышлением 10 и 12 сентября». В открытых публикациях делаются заявления о том, что терроризм, прежде всего, представляет собой вид преступления, однако на практике предпринимаются меры по преобразованию силовых структур, переходу их к военным методам борьбы. В отдельных странах Европы, в частности, в Великобритании, чья внешняя политика находится под влиянием «мышления 12 сентября», принятого в США, разработка исследований в области психологии и социологии терроризма, его коммуникационного аспекта, также ведется более в рамках «военного» дискурса, хотя кризисные явления в самом ЕС (к примеру, рост численности местных террористов-одиночек) показывают, что терроризм возникает отнюдь не только как результат внешнего воздействия. Важно понимать необходимость системного подхода к проблеме, которая не должна восприниматься однобоко.
Проблемы коммуникационного противодействия терроризму
Простого перекрытия каналов коммуникации террористов, даже устранения их лидеров, как это произошло в случае Анвара Аль-Авлаки, не всегда достаточно. В этом случае террористическая пропаганда обычно использует мотивы жертвенности. Вытеснение лидеров мнений из коммуникационного пространства исполнителей терактов и аудитории потенциальных сторонников, предоставление правдивой информации о корнях и мотивах той или иной террористической группировки представляется более действенным.
В теории информационно-психологической войны присутствуют понятия невидимости и абсолютной невидимости. Под невидимостью понимают «вытеснение (уничтожение) из системы части ее структуры или отдельных элементов (знания) или неспособность системы в определенном состоянии осознавать происходящее» [2; с. 215]. Абсолютная невидимость понимается так: «в том случае, если при поступлении в информационную самообучающуюся систему входных данных F в системе не произошло никаких изменений, кроме уничтожения входных данных F, то эти данные F (факты, правила) для данной системы являются абсолютно невидимыми» [там же]. Исходя из этих определений, можно предположить, что, изменяя характер восприятия сообщений лидеров мнений, возможно обесценить эти сообщения в глазах целевых аудиторий, сделать их невидимыми для широкой аудитории.
Так, при публикации в прессе материалов о финансировании ультралевых террористических организаций ФРГ женевскими банкирами или даже при опубликовании данных о полицейских провокаторах, толкнувших отдельных представителей протестного движения на путь террора, доверие к ультралевой террористической риторике может подчас снизиться более заметно, нежели при очередной попытке разъяснить деструктивный характер ультралевого терроризма, в том числе и по отношению к самому молодежному левому движению. В отношении других террористических организаций возможно применение сходной тактики. Однако применение таких тактик возможно, опять же, при формировании определенной «картины мира», при которой преступный характер терроризма становится более очевидным, то есть приоритетной задачей опять же становится достижение большей защищенности целевой аудитории от манипуляций.
Специалисты выделяют несколько основных черт современных моделей и концепций предотвращения рисков международного терроризма: «установка на определение несиловых стратегий минимизации рисков; акцент на осмыслении роли культурологических и цивилизационных факторов терроризма; концептуализация проблем развития человека и формирования системы современных ценностей как основы теории и стратегии уменьшения рисков международного терроризма и др. [3; с. 36 - 37]». В связи с этим при формулировании стратегий обеспечения национальной безопасности государств и международной безопасности для предотвращения терроризма коммуникационные механизмы противодействия терроризму все шире применяются в развитых странах мира.
В последние годы европейская концепция противодействия терроризму начала меняться. Так, работа с потенциальными целевыми аудиториями террористической пропаганды стала проводиться на разных направлениях, включая издание публикаций для детской аудитории. В то же время европейским властям пришлось переосмыслять кризисные ситуации, связанные с ошибками межкультурного взаимодействия, например, с реакцией на серию карикатур на пророка Мухаммеда в газете Jyllands Posten.
Все чаще высказываются точки зрения, согласно которым кратковременные стратегии противодействия уже сформированным террористическим организациям должны уступить место долгосрочным стратегиям, направленным на предотвращение обращения новых людей к террористической деятельности: «Необходимо думать не о кратковременных решениях, а о долговременных - про-активных, а не реактивных» [4; с. 221], что подразумевает разработку комплексной стратегии, в том числе и коммуникационной, учитывающей политические и социальные противоречия в обществе, приводящие к терроризму.
Приоритетное сообщение, которое транслируется сегодня на массовую аудиторию, - аргументы в пользу сосуществования демократии с различными культурными ценностями, к примеру, с мусульманскими. Тезис о невозможности такого сосуществования усиленно эксплуатируют «религиозные» террористы типа «Аль-Каиды». Европейскими силовыми структурами выпускаются публикации, опровергающие такие установки [5; с. 39].
В опровержение доводов «религиозных» экстремистов часто используются высказывания потенциальных или реальных лидеров мнений мусульманской общины. Так, к примеру, транслировалась точка зрения на публикацию упомянутых карикатур, высказанная верховным муфтием Египта: «Мы хотим жить в мире с человечеством, в котором, [к сожалению], все чаще распространяются противоречивые (путаные) и даже подлые мысли и убеждения. Однако это не значит, что мы допустим расистские высказывания в адрес мусульман. Разумеется, мы решительно отказываемся от экстремистских действий со стороны мусульман как реакции на такие высказывания» [там же].
В рамках концепции коммуникационного противодействия терроризму типа «Аль-Каиды» в ФРГ исследователи Г. Штайнберг и А. эль-Дифрауи предлагают следующие меры:
-
• Действия, призванные затруднить доступ на экстремистские сайты, «чтобы снизить число … подпадающих под влияние агрессивной сетевой пропаганды». При этом, однако, по мнению специалистов, важно сохранять определенное число сайтов, чтобы иметь возможность наблюдать за пропагандой и тенденциями развития идеологии.
-
• Ведение дискуссий с представителями экстремистов и сочувствующих им на их собственных форумах, при этом дискуссии должны вестись квалифицированными специалистами в области религии (такое не всегда возможно, так как модераторы подобных сайтов блокируют сообщения, оспаривающие положения их пропаганды).
-
• Распространение в Интернете интервью бывших экстремистов, отказавшихся от агрессии и вернувшихся к мирной жизни.
-
• Привлечение авторитетных религиозных деятелей к дискуссиям с экстремистами. Сюда можно отнести предложение «расширять сотрудничество с независимыми мусульманскими теологами, историками и социологами: обладая глубокими знаниями исламской истории, религии и культуры, они могли бы разоблачать … примитивную и брутальную версию … богатой духовно-исторической традиции» [6].
Элементы медиаобразования в коммуникации антитеррористической системы
Показательным примером попытки решения коммуникационных проблем можно назвать стратегию, предложенную Р. Крелинстеном, ключевым аспектом которой является продвижение кросс-культурного диалога, в том числе в сфере образования.
Тезис о необходимости кросс-культурного диалога был выдвинут как контраргумент идее С. Хантингтона о неизбежности грядущего столкновения цивилизаций. Попытки противодействия терроризму посредством работы с религиозными институтами, однако, становились причиной, особенно в Великобритании, негативных оценок со стороны религиозных лидеров: они делали справедливое замечание, что не все проблемы социального, политического и экономического характера возможно решить только действиями в религиозной сфере.
Власти стран Запада, участвовавшие в «войне с террором», обвинялись в попытках заменить религиозным фактором более широкие социальные проблемы, что может только законсервировать низкую ответственность граждан за свое участие в политической деятельности. Действительно, нельзя выделять целевую аудиторию государственной коммуникации только на основе религиозной принадлежности. Представители различных мировоззрений сегодня могут объединиться на основе новой концепции развития. Однако концепция мультикультурализма, в основе которой лежит тезис о культурном многообразии, то есть разности граждан ЕС, нуждается сегодня в корректировке. Необходима идея, базирующаяся на общности людей и их проблем, которую должны транслировать и претворять в жизнь реальными мерами государственные, политические и общественные институты - прежде всего они, а не религиозные лидеры.
Постоянно подчеркивается роль образования как важного элемента разъяснения природы террористической угрозы и возможностей практической борьбы с ней, как и с распространением и последствиями террористической пропаганды. Самые важные ценности или навыки, которые могли бы формироваться специальными образовательными программами, по мнению Р. Крелинстена, включают сосредоточение на сотрудничестве, общей работе и интересах; способность бороться с проявлениями расизма и другими формами предубеждений; выстраивание понимания расизма и механизмов расистской и другой дискриминационной пропаганды через развитие способности к критической оценке, медиаграмотности, применение контент-анализа.
Р. Крелинстен выделяет три области, в которых развитие таких ценностей и навыков является самым эффективным с точки зрения долгосрочной борьбы с терроризмом:
-
• школа (необходима как работа с учащимися, так и с преподавателями);
-
• институты общественного контроля, которые имеют дело с иммигрантами, беженцами, а также разнообразными в культурном и языковом отношении сообществами;
-
• полицейские колледжи и военные училища.
Школьное образование должно знакомить учащихся с факторами обращения к террористической деятельности, к примеру, членов ультралевых или сепаратистских террористических группировок и разъяснять несостоятельность того «ответа» на социальное неравенство, который избрали террористы.
Представители институтов общественного контроля, по мнению Р. Кренлинстена, должны проходить специальную систематическую подготовку, к примеру, в виде тренингов, чтобы осмыслить и предотвращать в ходе своей практики случаи стереотипного подхода и «демонизации» представителей других культур. В категорию институтов общественного контроля включены представители судебной системы, такие, как обвинители, государственные защитники, судьи, сотрудники исправительных учреждений, тюремные охранники, и должностные лица, надзирающие за условно-досрочно освобождёнными. Но эта категория также включает социальных работников, лиц, занимающихся подбором персонала, работодателей, членов советов по делам иммигрантов и беженцев, таможенных служащих, правительственных чиновников, сотрудников сфер медицинского обслуживания и образования.
Полиция и вооруженные силы – контрольные органы, обладающие правом «реализовывать государственную монополию на насилие, которым более чем всем остальным, необходимо специальное обучение в области прав человека и правовых норм». Эта категория включает полицию, сотрудников органов безопасности, лиц, предоставляющих частные услуги в области безопасности, и военнослужащих. Учебные планы многих полицейских академий действительно включают курсы о правах обвиняемого, специфике и легитимности полицейских полномочий, в то время как военные училища иногда включают курсы о правах человека [1; с. 220].
Заключение
Как антитеррористические структуры Европейского Союза, так и институты гражданского общества и эксперты пытаются переосмыслить традиционные механизмы коммуникационного противодействия терроризму на основе изменения этнического состава и социальных изменений, которые не учитывала политика мультикультурализма на предыдущих этапах.
В целом в ЕС чаще применяются средства информационного, нежели коммуникационного менеджмента. Вместе с тем, происходит осознание того факта, что, независимо от содержания сообщения, необходимо уделять внимание каналам и механизмам его распространения и реакции аудиторий.
Список литературы Элементы медиаобразования в европейской системе предотвращения экстремизма и терроризма
- Crelinsten R. Counterterrorism. - Cambridge, 2009.
- Вепринцев В.Б., Манойло А.В., Петренко А.И., Фролов Д.Б. Операции информационно-психологической войны. Краткий энциклопедический словарь-справочник. - М., 2005.
- Лукин В.Н. Глобализация и международный терроризм: Политический анализ рисков и стратегий обеспечения безопасности. - СПб., 2006.
- Мохаддам Ф. Терроризм с точки зрения террористов. - М., 2011.
- Zerrbilder von Islam und Demokratie. Argumente gegen extremistische Interpretationen von Islam und Demokratie. - Berlin, 2010.
- Штайнберг Г., Эль Дифрауи А. Враг в нашей сети. Как бороться с Аль-Каидой & Co. в виртуальном пространстве? // Germania-online.ru. Информационный портал о Германии. URL: www.germania-online.ru/publikacii/ip/ip-detail/datum/2011/02/25/vrag-v-nashei-seti (дата обращения 22.07.2011).