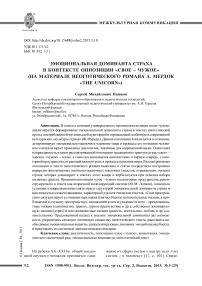Эмоциональная доминанта страха в контексте оппозиции «свое - чужое» (на материале неоготического романа А. Мердок «The Unicorn»)
Автор: Пашков Сергей Михайлович
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 5 (29), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье с позиций универсального противопоставления «свое-чужое» анализируется формирование эмоциональной доминанты страха в текстах неоготической прозы, востребованной читательской аудиторией и отражающей особенность современной культуры как «культуры страха» (Ф. Фуреди). Данная оппозиция локализуется в сознании, детерминирует эмоционально-оценочное членение мира в процессе его познания человеком и актуализирует принципы диалогизма, значимые для современной науки. Оценочная направленность членов рассматриваемой оппозиции традиционно трактуется как «свое» - хорошо, «чужое» - плохо, а сама она связывается лингвистами, в первую очередь, с категорией пространства, играющей важную роль в процессе познания мира. Рассматриваемая оппозиция в тексте неоготического романа выявлена в статье посредством построения иерархии оппозитивных эмотивно-оценочных текстовых смыслов, отражающих эмоцию страха, которая доминирует в текстах этого жанра и вербализуется при помощи набора языковых средств. Проекция оппозиции «свое - чужое» на категорию пространства, реконструируемого в тексте как вторичной моделирующей системе (Ю.М. Лотман), позволила установить корреляционные связи между структурой эмоциональной доминанты страха и цикличностью сюжетодвижения, характерной для неоготических текстов. «Свое пространство» актуализирует в сознании персонажа (квазисубъекта) положительные эмоции, а приближение к «чужому пространству», нахождение в нем и удаление от него - преддоминантные эмоции (одиночество, тревогу, дурное предчувствие и др.), собственно доминирующую эмоцию (страх) и постдоминантные эмоции (радость, ностальгию, любовь и др.) соответственно. Предложенный подход к анализу эмоциональной доминанты дал возможность упорядочить сложную эмотивную семантику неоготического текста, расставить необходимые эмоциональные акценты, репрезентирующие динамику эмоций квазисубъекта, и предложить их системное лингвистическое описание.
Диалогичность, оппозиция "свое-чужое", коннотация, эмоционально-оценочный ряд, эмоциональная доминанта, неоготический текст
Короткий адрес: https://sciup.org/14969932
IDR: 14969932 | УДК: 811.111’42 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2015.5.10
Текст научной статьи Эмоциональная доминанта страха в контексте оппозиции «свое - чужое» (на материале неоготического романа А. Мердок «The Unicorn»)
DOI:
На рубеже XX–XXI вв. общей тенден- жение из сферы систем к центру всех этих цией научного познания признается «дви- систем – к человеку» [17, c. 105]. Свиде- тельством актуализации принципов антропоцентризма в лингвистических исследованиях является разработка идей диалогизма и, в частности, использование при описании текста известной концепции диалогизма М.М. Бахтина (см., например, работы И.А. Щировой и З.Я. Тураевой: [21; 22]), согласно которой жизнь по природе диалогична, а диалогизм присущ не только философскому, но и научному, и художественному мышлению. В основе бахтинской концепции диалогичности лежит его понимание оппозиции «я–другой».
Сознание, – убежден М.М. Бахтин, – есть тогда, когда есть два сознания [3, c. 343]. Понимание личности возможно только благодаря диалогу, поскольку ви´дение «Я» и ви´де-ние «Другого» всегда различны. «Когда мы глядим друг на друга – два разных мира отражаются в зрачках наших глаз» [3, c. 104]. Недостаток того, что «Я» видит в «Другом», в «Я» самом тоже видит только «Другой». Это объясняется единственностью и незамести-мостью места «Я» в мире [3, c. 104]. Диалектика отношений «Я» и «Другого» порождает эстетическое событие [3, c. 102–103], позволяющее «осознать “самость” через “дру-гость”, то есть обрести истину в процессе не-прекращающегося диалога с миром и собой» [24, c. 172].
Одним из «существенных аспектов понятия “Другого”» является различение «своего» и «чужого» [2, c. 648]. Этот ракурс ви´де-ния «Другого» осмысляется М.М. Бахтиным следующим образом: «Момент противопоставления своего чужому. Теплота любви и холод отчуждения» [4, с. 381] (курсив М.М. Бахтина. – С. П.). Члены оппозиции «свое-чужое» традиционно наполняются смыслами, противоположными по своей оценочной направленности: «свое» – хорошо, «чужое» – плохо [18, c. 77]. Хотя в процессе познания данная оппозиция может проецироваться на различные явления, в первую очередь, она связана с ориентацией человека в пространстве [18, c. 76]. По мнению Ю.М. Лотмана, в основе внутренней организации элементов художественного текста как вторичной моделирующей системы лежит принцип бинарной семантической оппозиции и деление мира, в частности, на своих и чужих «почти всегда» получает пространственную реализацию [13, c. 227]. Эта связь оппозиции с категорией пространства, по-видимому, объясняется тем, что пространство играет важнейшую роль в процессе концептуализации мира. Как образно сформулировали эту идею М. Пюц и Р. Дирвен, «space is at the heart of all conceptualization» (цит. по: [26, c. 319]).
Разнообразные пространственные отношения, существующие в реальном мире, используются для «моделирования невидимых миров» [1, c. 368], миров идеальных, в частности эмоций. Так, Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев отмечают, что пространственная метафора оказывается «едва ли не самой распространенной метафорой для эмоций» и «возникновение эмоции часто метафорически уподобляется движению, перемещению в пространстве» [5, c. 277]. В пространственных терминах образно представлены все наиболее важные культурные концепты, включая концепты эмоций [8, c. 298].
Продуктивной является и экстраполяция оппозиции «свое – чужое» на пространство неоготического текста с целью изучения языковых средств формирования в нем ведущей эмоции, или эмоциональной доминанты (далее ЭД).
Неоготический роман, отражая особенности современной культуры как «культуры страха» (Ф. Фуреди), хотя и является модификацией готического текста [12, c. 636], характеризуется, как и готический роман, наличием циклической схемы сюжетодвижения: персонаж отправляется из «своего пространства» в «чужое пространство», пребывает в нем и возвращается из него [15, c. 293]. ЭД в неоготическом тексте выступает страх, а его художественное осмысление сквозь призму неоготического пространства признается одной из характерных черт готики / неоготики ( claustrophobic space ) [25, c. 45].
ЭД имеет структурную организацию и включает в себя пред- и постдоминантные эмоции, которые нагнетают и гасят собственно доминирующую эмоцию [20, c. 242]. «Свое пространство» персонажа в неоготическом тексте ассоциируется в квазисознании с безопасностью и не вызывает эмоции страха, в то время как «чужое пространство», напротив, внушает персонажу опасность и вызыва- ет эту эмоцию. Указанные корреляции и последовательность их языкового анализа с позиции формирования ЭД можно представить следующим образом:
-
1) анализ компонентов «своего пространства», ассоциирующихся в квазисознании с положительными эмоциями;
-
2) анализ языковых репрезентантов ЭД, маркирующих приближение к «чужому пространству», то есть преддоминантных эмоций;
-
3) анализ языковых репрезентантов ЭД, маркирующих «чужое пространство», то есть собственно доминирующей эмоции страха;
-
4) анализ языковых репрезентантов ЭД, маркирующих удаление от «чужого пространства», то есть постдоминантных эмоций.
Эмоции, приписываемые персонажу, который находится в «своем пространстве», не включены в структуру ЭД страха, поскольку, предшествуя или следуя за собственно доминирующей эмоцией страха, они не нагнетают и не гасят ее.
«Свое» и «чужое» пространства репрезентируются различными лексическими средствами с локальной семантикой и противоположной эмоционально-оценочной узуальной / окказиональной направленностью. Целесообразность выявления таких оппозитивных зависимостей в процессе анализа эмотивной семантики художественного текста во многом определяется сложной организацией художественного текста и изображенных в нем внутренних процессов [23, c. 189]. Подобное противопоставление может формироваться на разных основаниях, в том числе и на противопоставлении чувства иному чувству [23, c. 190].
Обратимся к материалу, иллюстрирующему вышеизложенное.
В неоготическом тексте «The Unicorn» протагонист Мариан Тейлор приезжает из небольшого городка в регионе Мидленд, где она счастливо жила с родителями, в таинственный замок Гейз, чтобы давать частные уроки Ханне Крен-Смит, которая находится здесь в заточении за измену мужу и попытку его убить. Управляющий Джералд Скоттоу и домоправительница Виолет Эверкрич, люди порочные и недобрые, охраняют ее. После трагической гибели Ханны Мариан покидает за- мок, который воспринимается ею как враждебное и опасное место. Оппозиция «свое– чужое» пространство маркируется в тексте топонимами Midland и Gaze. В сознании героини эти топонимы, согласно авторской интенции, наделяются противоположной эмоционально-оценочной окраской.
Рассмотрим четыре микроконтекста, иллюстрирующие корреляционные связи между структурой ЭД и циклическим сюже-тодвижением неоготического текста. В первом микроконтексте актуализируются компоненты «своего пространства», ассоциирующиеся в квазисознании героини с положительными эмоциями, во втором – языковые репрезентанты ЭД, маркирующие ее приближение к «чужому пространству»; в третьем – языковые репрезентанты ЭД, маркирующие «чужое пространство»; в четвертом – языковые репрезентанты ЭД, маркирующие удаление героини от «чужого пространства». Выбор микроконтекстов для анализа обусловлен хронологическим развитием текстовой ситуации.
-
(1) Marian came of timid parents who had moved quietly through life in a little Midland town where her father owned a grocer’s shop. Marian’s earlier memories were shop. Sometimes she felt as if she had been delivered in a cardboard box marked “This side up”. Certainly one had served as a cradle. She was an only child She was fond of her parents and not, as far as she knew, ashamed of them <...> (p. 28–29) 1.
В приведенном микроконтексте изображаемое ретроспективно «свое пространство» номинируется экспликационным словосочетанием little Midland town с локальной семантикой, которое, реализуя авторскую интенцию, характеризуется положительной эмоционально-оценочной окраской и указывает читателю на положительный характер эмоций героини, ее удовольствие и радость [10, c. 146, 167] 2. Правомерность такой интерпретации подтверждается многоступенчатым семантическим анализом экспликанта little . Приведенная ниже дефиниция этой лексической единицы (далее ЛЕ) фиксирует положительную сему удовольствия ( pleasingly , pleasure ).
– little (+) (1 ступень анализа) pleasingly small (M-W) (здесь и далее в словарных толкованиях курсив наш. – С. П. );
– pleasingly (+) (2 ступень анализа) good in a way that gives pleasure or enjoyment: attractive or appealing (M-W).
Положительная оценочная нагружен-ность «своего пространства» подтверждается и наречием quietly с положительной узуальной коннотацией, которая выявляется посредством многоступенчатого дефиниционно-го анализа. Ее соположенность с ЛЕ little обеспечивает формирование единого эмоционально-оценочного ряда, создает образ «своего пространства», где нет вражды и недовольства:
– quietly (+) without protesting, complaining, or fighting (LDCE);
– quiet (+) (1 ступень анализа) the quality or state of being quiet or calm (M-W);
– calm (+) (2 ступень анализа) a peaceful mental or emotional state (M-W).
Положительную эмоцию любви героини, ее чувства дружбы и уважения к родителям эксплицируют эмоциональные предикаты was fond ( of ) и not ashamed ( of ).
– fond : feeling or showing love or friendship (M-W);
– ( not ) ashamed : feeling shame or guilt (LDCE).
-
(2) But now that the bedraggled little train which had brought her from Greytown Junction had coughed away among the rocks, leaving her in this silence a spectacle for these men, she felt helpless and almost frightened. She had not expected this solitude. She had not expected this appalling landscape (p. 7).
В микроконтексте (2) изображается приближение Мариан Тейлор к «чужому пространству». На вокзале, с которого героине предстоит добираться до замка, перед ней открывается пейзаж; его устрашающий вид создается автором при помощи эпитета appalling (appalling landscape). Анализ словарной дефиниции прилагательного appalling позволяет выявить в его семантической структуре сему ‘отрицательная оценка’: appalling – very bad in a way that causes fear, shock, or disgust (M-W). Эпитет appalling, следовательно, можно признать средством импликации одной из преддоминантных эмоций страха героини – ее тревоги, рассматриваемой в психологии в качестве комбинации эмоций, в число которых входит страх [10, c. 325]. Включенные в тот же микроконтекст ЛЕ frightened, helpless и solitude маркируют и иные преддоминантные эмоции – ее одиночество и чувства беззащитности 3:
– solitude : the quality or state of being alone or remote from society (M-W);
– frightened : feeling afraid (LDCE);
– helpless : not protected : not able to defend yourself (M-W).
ЛЕ almost , модифицирующая значение ЛЕ frightened , указывает на то, что эмоциональное состояние героини приближается к страху. Ср. в (3): was very frightened . Различие между предложениями типа X feels frightened и X is frightened отмечает А. Веж-бицкая. «Физиологические факторы» (фразеология А. Вежбицкой) при страхе (изменение кровяного давления, температуры тела, сокращение мышц) более существенны для предложений с глаголом be [6, с. 343]. Так, тезаурус Роже фиксирует семантические связи ЛЕ almost с ЛЕ approaching (Roget, р. 27), а последняя дефинируется следующим образом:
– approaching ( approach ): if an event or a particular time approaches, or you approach it, it is coming nearer and will happen soon (LDCE).
-
(3) Marian was suddenly overcome by an appalling crippling panic. She was very frightened at the idea of arriving. But it was more than that. She feared the rocks and the cliffs and the grotesque dolmen and the ancient secret things. Her two companions seemed no longer reassuring but dreadfully alien and even sinister (p. 15).
В третьем микроконтексте изображаются окрестности «чужого пространства» и маркируется собственно доминирующая эмоция страха героини. Предметы «чужого пространства», обозначаемые существительными rocks, cliffs, dolmen и things с локальной семантикой, характеризуются отрицательной эмоционально-оценочной окраской. ЛЕ grotesque, включенная автором в описание дольмена, имеет сему ‘отрицательная оценка’, оценочная направленность которой распространяется на весь микроконтекст: grotesque – very strange or ugly in a way that is not normal or natural (M-W). ЛЕ grotesque и monstrous семантически коррелируют (Roget, р. 273), а ЛЕ monstrous имеет сему ‘устраше- ние’: monstrous – unnatural or ugly and frightening (LDCE). Импликацию доминантной эмоции в анализируемом примере можно связать с присутствием семы ‘ненормативность’ в обеих ЛЕ, а также семы ‘неизвестность’ в ЛЕ secret – known about by only a few people and kept hidden from others (LDCE), поскольку необычность и неизвестность трактуются как вероятные источники страха (см., например: [10, c. 299; 16, с. 37]). Наконец включение в упомянутый перечислительный ряд существительного dolmen также вызывает в сознании пугающие ассоциации. Ср.: «Все живое любит жизнь и отвращается от смерти. Это психобиологическая аксиома» [11, с. 419]:
– dolmen : a prehistoric monument of two or more upright stones supporting a horizontal stone slab found especially in Britain and France and thought to be a tomb (M-W).
Все эти элементы «чужого пространства» «овнешняют» (М.М. Бахтин) страх героини, а полисиндетонная связь ( and...and...and ) номинирующих их лексем создает иллюзию бесконечности «чужести». «Чужими» в восприятии Мариан становятся и работодатели ( companions ). Характеризующий их эпитет alien имеет отрицательную эмоционально-оценочную окраску. Семантика ЛЕ alien , в свою очередь, интенсифицируется ЛЕ dreadfully , что позволяет автору сформировать эмоциональную перспективу образа, превратить его в «зловещий» ( sinister ):
– dreadfully : extremely or very much (LDCE);
– sinister : having an evil appearance : looking likely to cause something bad, harmful, or dangerous to happen (M-W).
Языковая репрезентация собственно доминирующей эмоции страха реализуется семантическим повтором panic, frightened, feared. Сема страха в ЛЕ panic интенсифицирована, что подтверждается дефиницией данной ЛЕ (panic: a state or feeling of extreme fear that makes someone unable to act or think normally (M-W)). Синонимичный ряд, образуемый ЛЕ panic, frightened и feared, не обозначает повтора понятия; повторная номинация, как утверждает В.Г. Гак, может иметь своей целью выражение эмоциональной оценки и экспрессивных окрасок [7, с. 547]. Так, семантический повтор указанных ЛЕ позволяет автору выдержать повествование в нужном эмоциональном ключе, обеспечить правдоподобие страха героини, придать моделируемому внутреннему миру необходимую достоверность.
-
(4) “No bad news in your letter, I hope?”
“No, no”, said Marian, “good news. A friend of mine is engaged to be married. He’s going to marry a girl I was at school with. They’ve just been in Spain together-“
“Good news.” Alice’s face was wet with tears.
In silence Marian handed her handkerchief. Yes, she would go back to all that now, to the real world. She would dance at Geoffrey’s wedding” (p. 264).
В микроконтексте (4) изображается удаление персонажа от «чужого пространства», маркирующее постдоминантную эмоцию радости. Мариан намеревается покинуть замок и вернуться в реальный мир, номинируемый эк-спликационным словосочетанием real world с локальной семантикой и характеризующийся положительной эмоционально-оценочной окраской. Положительная направленность экспликан-та real подтверждается данными тезауруса Роже. Так, в словарной статье real отмечаются семантические отношения этой ЛЕ с ЛЕ honest-to-goodness, bona fide, sincere (Roget, р. 473). В толковом словаре приводятся следующие дефиниции этих трех ЛЕ:
– bona fide : real, true, and not intended to deceive anyone;
– sincere : a feeling, belief, or statement that is sincere is honest and true, and based on what you really feel and believe;
– honest-to-goodness : simple and good (LDCE).
Приведенные дефиниции фиксируют семы ‘истинность’, ‘простота’ и ‘честность’. Именно этих качеств не хватает героине в «чужом пространстве», которое она стремится покинуть. Глагол движения go back эксплицирует намерение героини удалиться от «чужого пространства», наречие now фиксирует незамедлительный характер осуществление этого намерения: now – immediately (LDCE), а вспомогательный глагол would указывает на уверенность в этом намерении. ЛЕ good в составе экспликационного словосочетания good news и dance, wedding имплицируют постдоминантные эмоции радости и веселья, которые входят в жесткий импликаци- онал (о термине см.: [14, c. 25]) ЛЕ good, dance и wedding. Этот вывод подтверждается многоступенчатым дефиниционным анализом ЛЕ good:
-
– good (1 ступень анализа) of a favorable character or tendency
; -
– favorable (2 ступень анализа) expressing approval: giving or providing what is desired (M-W).
Под влиянием ЛЕ good положительную коннотацию получают ЛЕ dance и wedding (ср. эмотивное наведение сем по В.И. Шаховскому).
Резюмируем вышеизложенное.
Оппозиция «свое – чужое» существует в сознании каждого человека и является важным элементом стратегии его мышления в процессе познания мира и себя в мире. Данная особенность мышления вызвана тем, что личность «все делит на я и не-я , на свое и чужое , и себя самое находит лишь в этом противоположении» [9, c. 45] (курсив В.В. Иванова. – С. П. ). Экстраполяция оппозиции «свое–чужое» на категорию пространства в неоготическом тексте позволила выявить корреляционные связи между цикличностью сю-жетодвижения и структурой ЭД и предложить системный лингвистический анализ ее формирования. Моделирование оппозитивных текстовых зависимостей в неоготическом тексте упрощает восприятие сложной семантической организации текста и дает возможность расставить необходимые эмоциональные акценты, репрезентирующие динамику эмоций персонажа, которые, в свою очередь, формируют ЭД в неоготическом тексте.
Теоретическая разработка ЭД актуальна для современной эмотиологии, в которой данное терминопонятие является одним из ключевых. Выявление эмоциональных доминант в художественных текстах позволит составить «библиотеку конфликтных ситуаций» (В.И. Ша-ховский), что актуально для современного социума. Методологический аспект категории эмо-тивности, одним из проявлений которой является ЭД, по справедливому замечанию В.И. Шаховского, «заключается в том, что она может служить ключом к анализу всех коммуникативных процессов» [19, с. 6] (курсив наш. – С. П. ). Таким образом, теория ЭД призвана объяснить все основополагающие взаимоотношения между «Я» и «Другим».
Список литературы Эмоциональная доминанта страха в контексте оппозиции «свое - чужое» (на материале неоготического романа А. Мердок «The Unicorn»)
- Арутюнова, Н. Д. Два этюда к «геометрии» Достоевского/Н. Д. Арутюнова//Логический анализ языка. Языки пространств. -М.: Языки русской культуры, 2000. -С. 368-384.
- Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека/Н. Д. Арутюнова. -М.: Языки русской культуры, 1999. -896 с.
- Бахтин, М. М. Собрание сочинений в 7 т./М. М. Бахтин. -М.: «Русские словари», «Языки славянской культуры», 2003. -Т. 5 -957 с.
- Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества/М. М. Бахтин. -М.: Искусство, 1986. -442 с.
- Булыгина, Т. В. Перемещение в пространстве как метафора эмоций/Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев//Логический анализ языка. Языки пространств. -М.: Языки русской культуры, 2000. -С. 277-288.
- Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание/А. Вежбицкая. -М.: Русские словари, 1996. -416 с.
- Гак, В. Г. Языковые преобразования/В. Г. Гак. -М.: Языки русской культуры, 1998. -768 с.
- Ермакова, О. П. Пространство метафоры в русском языке/О. П. Ермакова//Логический анализ языка. Языки пространств. -М.: Языки русской культуры, 2000. -С. 289-298.
- Иванов, В. В. Marginalia/В. В. Иванов//«Труды и дни». -М.: Мусагет, 1912. -№ 4-5. -С. 38-45.
- Изард, К. Э. Психология эмоций/К. Э. Изард. -СПб.: Питер, 2011. -461 с.
- Левицкий, С. А. Трагедия свободы: избранные произведения/С. А. Левицкий. -М.: Астрель, 2008. -992 с.
- Литературная энциклопедия терминов и понятий/Под ред. А. Н. Николюкина. -М.: НПК «Интелвак», 2001. -1596 с.
- Лотман, Ю. М. Об искусстве/Ю. М. Лотман. -СПб.: Искусство -СПБ, 1998. -704 с.
- Никитин, М. В. Лексическое значение слова (структура и комбинаторика)/М. В. Никитин. -М.: Высш. школа, 1983. -127 с.
- Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий/под ред. Н. Д. Тамарченко. -М.: Изд-во Кулагиной; Intrada, 2008. -358 c.
- Симонов, В. П. Что такое эмоция?/В. П. Симонов. -М.: Наука, 1966. -91 с.
- Тураева, З. Я. Лингвистика текста и категория модальности/З. Я. Тураева//Вопросы языкознания. -1994. -№ 3. -С. 105-114.
- Цивьян, Т. В. Модель мира и ее лингвистические основы/Т. В. Цивьян. -М.: КомКнига, 2006. -279 c.
- Шаховский, В. И. Голос эмоций в языковом круге homo sentiens/В. И. Шаховский. -М.: ЛИБРОКОМ, 2012. -144 с.
- Шаховский, В. И. Лингвистическая теория эмоций/В. И. Шаховский. -М.: Гнозис, 2008. -419 с.
- Щирова, И. А. Многомерность текста: понимание и интерпретация/И. А. Щирова, Е. А. Гончарова. -СПб.: ООО «Книжный Дом», 2007. -472 с.
- Щирова, И. А. Текст и интерпретация: взгляды, концепции, школы/И. А. Щирова, З. Я. Тураева. -СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. -156 с.
- Щирова, И. А. Текст сквозь призму сложного/И. А. Щирова. -СПб.: Политехника-сервис, 2013. -216 с.
- Щирова, И. А. Художественное моделирование когнитивных процессов в англоязычной психологической прозе XX века/И. А. Щирова. -СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000. -210 с.
- Routledge Companion to Gothic/ed. by C. Spooner, E. McEnvoy. -London: Routledge, 2007. -290 p.
- Zlatev, J. Spatial Semantics/J. Zlatev//The Oxford Handbook of Cognitive linguistics. -Oxford: Oxford University Press, 2007. -P. 318-350.
- LDCE -Longman Dictionary of Contemporary English. -Electronic text data. -Mode of access: http://www.ldoceonline.com/dictionary (date of access: 15.10.2015). -Title from screen.
- M-W -Merriam-Webster Dictionary. -Electronic text data. -Mode of access: http://www.merriam-webster.com (date of access: 15.10.2015). -Title from screen.
- oget -Roget’s Superthesaurus by Marc McCutcheon. -Cincinnati: Writer’s digest books, 2003. -667 р.