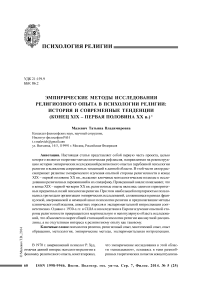Эмпирические методы исследования религиозного опыта в психологии религии: история и современные тенденции (конец XIX - первая половина XX в.)
Автор: Малевич Татьяна Владимировна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Психология религии
Статья в выпуске: 5 (25), 2014 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья представляет собой первую часть проекта, целью которого является теоретико-методологическая рефлексия, направленная на реконструкцию истории эмпирических исследований религиозного опыта в зарубежной психологии религии и выявление современных тенденций в данной области. В этой части автор рассматривает развитие эмпирического изучения опытной стороны религиозности в конце XIX - первой половине XX вв., выделяет ключевые методологические подходы к исследованию религиозных переживаний и их специфику. Проведенный анализ показывает, что в конце XIX - первой четверти XX вв. религиозные опыты являлись одним из приоритетных предметных полей психологии религии. При этом наибольшей популярностью пользовались три модели организации эмпирических исследований, сложившиеся в рамках французской, американской и немецкой школ психологии религии и предполагавшие методы клинического наблюдения, анкетных опросов и экспериментальной интроспекции соответственно. Однако с 1930-х гг. в США и впоследствии в Европе изучение опытной стороны религиозности превращается в маргинальную и непопулярную область исследований, что объясняется скорее общей стагнацией психологии религии как научной дисциплины, а не отсутствием интереса к религиозному опыту как таковому.
Психология религии, религиозный опыт, мистический опыт, опыт обращения, методология, эмпирические методы, экспериментальная интроспекция
Короткий адрес: https://sciup.org/14974675
IDR: 14974675 | УДК: 21:159.9
Текст научной статьи Эмпирические методы исследования религиозного опыта в психологии религии: история и современные тенденции (конец XIX - первая половина XX в.)
В 1970 г. американский психолог Р. Худ, отмечая давний интерес психологии религии к феномену религиозного опыта, констатировал,
что эмпирические исследования в этой области «запаздывают», оставаясь в тени разнообразных теоретических попыток концептуализи- ровать и классифицировать данное понятие [20, p. 285]. За последующие сорок с лишним лет ситуация изменилась кардинальным образом: свидетельство тому – множество опросников, шкал и лабораторных тестов, направленных на изучение религиозного опыта. Однако обилие дискуссий методологического характера позволяет заключить, что вопрос о способах исследования религиозных переживаний остается по-прежнему нерешенным.
Основной фактор, препятствующий эмпирическому (и теоретическому) изучению религиозного опыта – его индивидуальный характер, приводящий к разрыву между методологическими перспективами от первого и третьего лица и к неизбежности чреватых субъективностью интроспективных описаний 1. Кроме того, проблематична сама опе-рационализация понятия 2: мы сталкиваемся с попытками, с одной стороны, отделить «религиозное» от «духовного», «мистического», «аномального» и провести границу между «опытом» и «эмоциями», «состояниями / актами сознания» и т. д., с другой стороны – с поиском универсальных «критериев» или исчерпывающих классификаций религиозного опыта. Безусловно, ситуация осложняется тем, что понятие «религиозный опыт» является чрезвычайно широким: на практике мы имеем дело с «многообразием» религиозных переживаний, варьирующихся по содержанию, интенсивности, чувствительности к культурной специфике и т. п. В итоге эмпирические исследования оказываются сильно теоретически нагруженными, а обилие подходов и концепций в самой психологии религии приводит к не менее многочисленным трактовкам религиозного опыта и столь же разрозненным взглядам на возможности его изучения.
В конечном счете указанные проблемы поднимают извечный вопрос: «Можно ли измерить неизмеримое?». Попытки исключить «религиозный опыт» из предметной области психологии религии предпринимались неоднократно: яркий пример тому – советская традиция, видящая в разговорах о «религиозном опыте» «издержки» западной идеологии (см. [6, с. 150–154]). Тем не менее такие разговоры продолжаются, как в академической среде, так и в повседневной жизни, а значит простым «исключением» данную проблему не решить. Пока религиозные переживания влияют на жизнь людей, исследование опытного измерения религиозности не теряет своей актуальности и для психологов религии. Впрочем, тот всплеск интереса к этому измерению, который мы можем в последнее время наблюдать, есть тому прямое подтверждение.
Тем не менее в отечественной науке эмпирические исследования религиозного опыта пользуется значительно меньшим спросом, а попытки создать собственные опросники и шкалы являются скорее исключением (см., например: [1]). Также достаточно редко производятся анализ и рецепция теоретических моделей религиозного опыта, разработанных в зарубежной психологии религии (см., например: [2; 4]), помимо разве что психоаналитических трактовок, концепций У. Джеймса и Г. Оллпорта и различных вариаций так называемой «христианской психологии» 3.
В подобной ситуации весьма актуальной представляется выступающая целью настоящей статьи историческая и методологическая рефлексия, направленная на выявление ключевых этапов и векторов развития эмпирических исследований религиозного опыта, раскрытие их теоретико-методологического потенциала и определение современных тенденций в данной области. В этой части статьи, посвященной истории эмпирического изучения опытной стороны религиозности в конце XIX – первой половине XX в., мы рассмотрим основные школы, сложившиеся в психологии религии указанного периода, обозначим характерные для них подходы и методы, направленные на изучение религиозного опыта, и критику, которой они подвергались.
***
Религиозные переживания оказались в фокусе интереса психологии религии с самого начала ее становления как самостоятельной дисциплины – нередко ее называли «наукой о религиозном опыте» [34, p. 11]. Тем не менее уже тогда опытная сторона религиозности стала дискуссионным вопросом: «голод по фактам» [23, s. 46–49] разделил психологов религии на сторонников различных по своему характеру методов сбора и анализа материала – от лабораторных тестов и анкет- ных опросов с последующей статистической обработкой данных до претендующих на не меньшую научную строгость экспериментальных интроспективных техник. При всем многообразии существовавших в конце XIX – первой половине XX вв. подходов особого внимания в контексте настоящей статьи заслуживают три из них, разработанные и популяризированные в рамках трех «школ» психологии религии – американской, немецкой и французской, и определенным образом связанные с тремя методологическими подходами в психологии вообще – так называемыми «Гальто-новской моделью», «Лейпцигской моделью» и «клинической экспериментальной моделью» эмпирических исследований [24]. Ниже мы рассмотрим ключевые черты основных представителей данных подходов.
Анкетные исследования и статистический анализ
Общепризнанными «пионерами» в области «эмпирической психологии религиозного опыта» [11, p. 13] стали представители так называемой «Кларкской школы религиозной психологии» [33, p. 436; подробнее см.: 44, p. 290–298] – группы ученых, сформировавшейся в конце XIX в. вокруг первого президента Университета Кларка, одного из основателей американской психологии религии Г.С. Холла (1844–1924). Но если Холл и пытался в свое время провести исследования опытов обращения и разновидностей религиозного страха методом интервьюирования [18, p. 205; 19, p. 228–232], то первенство здесь все же принадлежит его «ученикам» – Э.Д. Старбаку (1866–1947) и Дж. Г. Леубе (1868–1946) 4, параллельно и независимо друг от друга, начавшим использовать анкетные опросы, но в конечном счете пришедшим к разным методологическим программам.
Э.Д. Старбак приступил к «чисто эмпирическому» [39, p. xii] изучению религиозных переживаний, а именно опытов обращения, еще в Гарвардском университете, где он в 1893 г. с позволения – пусть и без особого энтузиазма – У. Джеймса [см.: 21, p. vii] запустил свою первую анкету. Собранные Старбаком данные легли в основу двух объемных статей, опубликованных в “The American Journal of Psychology” в январе и октябре 1987 г. соответственно [41; 42] и вошедших впоследствии в его знаменитую работу «Психология религии» [39]. Старбак следующим образом описывал цель своих изысканий: «Главный основополагающий принцип состоял в том, что исследование должно иметь дело в первую очередь с непосредственным религиозным опытом индивидов, не столько с их теориями о религии, сколько с их действительными опытами» [40, p. 222–223]. Еще одной характерной чертой его подхода стали акцент на «типичных случаях» и «индуктивный» метод [42, p. 268], позволившие ему в полной мере использовать статистический анализ полученных данных. Впоследствии интерес Старбака распространился и на другие разновидности религиозных опытов, в частности, на мистические переживания [38] и опыты божественного присутствия [см.: 40, p. 235–237].
Если внимание Старбака занимала в первую очередь «репрезентативная выборка» религиозных переживаний, то его коллегу, Дж. Леубу 5, также интересовавшегося «фактами непосредственного религиозного опыта» [26, p. 196], привлекало «исключительное», а не «типичное»: он, как и У. Джеймс 6, полагал, что «интенсивные психические феномены, благодаря самой своей выразительности, обнаруживают то, что остается неясным в менее интенсивных и более долговременных состояниях» [28, p. 312]. Эта установка обусловила и выбранный метод: несмотря на то, что Леуба неоднократно упоминает о своих анкетных исследованиях, использует он собранные с их помощью данные достаточно редко 7, проявляя со временем все меньший интерес к эмпирике и фокусируясь на исторических источниках – примером тому является его классический труд о мистицизме [29].
Анкетный метод нашел активного сторонника скорее в лице еще одного «пионера» американской психологии религии, Дж. А. Коу (1862–1951), стремившегося выявить «средние показатели и тенденции в религиозной жизни» [11, p. 13–14]. Однако главная его заслуга состоит в том, что он стал, по-видимому, первым, кто попытался совместить анкетные опросы, субъективность которых подчеркивал [11, p. 14–15] с лабораторными исследованиями. Так, Коу использовал гипноз, чтобы вы- явить некоторые психофизиологические особенности, в частности степень внушаемости испытуемых, и определить их взаимосвязь с различными религиозными состояниями (см.: [11, p. 141–143, 164–204]). Впрочем, его вышеупомянутые современники также прибегали к экспериментальным методикам: классическим примером стал эксперимент Леубы с индукцией «ощущения присутствия» [29, p. 282–285], а Старбак, вероятно, оказался одним из первых, разработавших дихотомическую шкалу для оценки «мистической установки» субъектов и подвергший их разнообразным лабораторным тестам [38, p. 88–90] 8.
Старбаку, Леубе и Коу удалось популяризировать анкетный метод и количественные исследования религиозных опытов: в 1910– 1920–х гг. анкетные опросы и статистические подсчеты стали отличительной чертой американской психологии религии (см., например: [10]). Безусловно, не все разделяли энтузиазм в их отношении. В числе недостатков указывались неполнота и субъективность собранного материала, обусловленные либо его интроспективной природой, либо «непрофессионализмом» респондентов, нерепрезентатив-ность выборки, опасность включения вопросов суггестивного характера (см.: [12, p. 40– 43; 32, p. 266–270]). Впрочем, основоположники и сторонники указанных методов осознавали данные проблемы и указывали на границы их применения (см.: [28, p. 438–439]). Настороженное и зачастую враждебное отношение к «американским» методам было свойственно континентальной психологии религии, представители которой или констатировали их полную несостоятельность (см.: [36, S. 24– 37]), или же предлагали подкреплять лабораторными исследованиями – от клинических испытаний до экспериментальной интроспекции [см.: 23, S. 52–53, 73–74; 32, p. 270–274].
Религиозный опыт в лаборатории: экспериментальная интроспекция
Экспериментальная интроспекция, или «чистое наблюдение», отличала немецкоязычную психологию религии, став в конечном счете характерным признаком сформировавшейся в 1910-х гг. под влиянием лютеранского теолога и психолога К. Гиргензона (1875–1925)
«Дерптской школы» 9 (совр. Тарту), объединявшей ряд географически разбросанных – от Прибалтики и Германии до Дании и Норвегии – ученых и институций (см.: [30, S. 258– 259]). Ознаменовала же появление нового метода вышедшая в 1914 г. в первом номере журнала Archiv für Religionspsychologie статья В. Штэлина (1883–1975) [43], некогда бывшего ассистентом основоположника немецкой психологии религии В. Вундта, но адаптировавшего метод систематической экспериментальной интроспекции Вюрцбургской школы психологии для исследований религиозных переживаний (см.: [45, p. 132]) 10.
В общих чертах метод Штэлина сводился к следующим моментам: сначала «испытуемым» в качестве стимульного материала предъявляли короткие отрывки из произведений религиозного характера (от работ религиозных философов до проповедей мистиков и религиозной поэзии), после чего они рассказывали об испытанных в процессе чтения переживаниях (не всегда религиозного характера 11) – либо в свободной форме, либо в форме полуструктурированного интервью [43, S. 118–131]. Такая методика предъявляла особые требования к испытуемым, к экспериментатору и к организации эксперимента: например, у испытуемых должны были быть способности к самонаблюдению, предварительная подготовка в области интроспективных техник и доверительные отношения с экспериментатором [43, s. 121–125].
Цель подобного подхода состояла в устранении неизбежного в противном случае методологического разрыва между исследователем и изучаемой им реальностью [15, S. 6–7]. Кроме того, экспериментальная интроспекция позволяла проводить компаративный анализ опытов современников и исторических описаний религиозных переживаний. Примером такового стала, в частности, начатая К. Гиргензоном и завоевавшая популярность линия исследований – сравнение мистических опытов, представленных в классической религиозной литературе, и «околомис-тических» состояний сознания, описанных в собранных в ходе экспериментов протоколах 12. Впоследствии ученик Гиргензона, В. Грюн (1887–1961), включил мистические опыты в континуум состояний сознания, пред- ложив так называемую «Таблицу ступеней мистического погружения», основанную на феноменологической связи между «я» мистика и объектом его переживания [17, S. 69] 13. В послевоенные годы эта линия продолжала развиваться К. Гинсом, пытавшимся совместить «микроскопическое», то есть экспериментальное, и макроскопическое, то есть неэкспериментальное исследование мистики и провести дальнейшую дифференциацию ступеней мистического погружения [14].
Конечно, подобная методология не могла не вызывать вопросов – с самого начала экспериментальная интроспекция сталкивалась с жесткой критикой, которая, если говорить современным языком, сводилась к сомнениям в «экологической валидности» эксперимента и к обвинениям в ненаучности и неточности интроспективных техник, их сложности и ограниченности потенциального применения, а также в нерепрезентативности и малочисленности выборки (см., например: [23, S. 55–63; также см.: 45, p. 145–147]). В конечном счете экспериментальная интроспекция в различных своих вариациях утратила популярность – как под влиянием исторических обстоятельств, так и в связи с изменением методологического климата: в настоящее время число ее сторонников в основном ограничивается немногочисленными представителями феноменологической психологии религии и так называемой нейрофеноменологии.
Клинические исследования: психопатология религиозного опыта
Еще одно популярное направление было представлено в основном французской школой психологии религии, находившейся на грани клинических психиатрических исследований. Можно сказать, что данное направление прочно оформилось уже к концу XIX в.: об этом свидетельствует резкая критика У. Джеймсом «медицинского материализма» [3, c. 20–30] – его крайней формы, использующей так называемый «патологический метод» [31, p. 4].
Безусловно, степень акцента на патологических и психофизиологических аспектах религиозных переживаний существенно варьировалась у различных представителей подобного подхода, однако мы не будем специ- ально останавливаться ни на их теориях и наблюдениях, ни на критике их концепций и методологии – эта тема чрезвычайно интересна, но она увела бы нас в сторону дискуссий о религиозном и патологическом и сместила бы фокус с психологии религии на психиатрию. Отметим лишь следующие характерные черты данных исследований. Во-первых, это акцент на патологических и экстремальных формах религиозного опыта, главным образом – на экстатических состояниях и состояниях одержимости и медиумического транса (см.: 22, [p. 469–509; 25; 32]). Во-вторых, интерес к генезису религиозных переживаний и их воздействию на психофизиологическое состояние субъектов. В-третьих, опора на анализ клинических случаев, в первую очередь, посредством медицинского наблюдения (см.: [32, p. 277–282]), а также обращение к «личным документам» и биографическим источникам – дневникам, мемуарам, исторической литературе и т. д. Наконец, в-четвертых, активное использование экспериментальных техник (в основном – гипноза) для индукции религиозных и околоре-лигиозных переживаний (см.: [22]).
«Взлет и падение» эмпирической психологии религии
Как отмечают многие авторы, с конца 1920–х гг. эмпирические исследования религиозного опыта – сначала в Америке, а впоследствии и в Европе – начинают стремительно терять свою популярность. Так, например, А. Кронбах в обзоре литературы за 1926– 1928 гг. говорит, что слышны только «имитаторы и любители поцитировать», и уподобляет психологию религии алхимии [13; ср.: 30, S. 259– 261; 40, p. 250–253]. По-видимому, непосредственной причиной подобной ситуации, получившей с легкой руки Б. Бейт-Халлами название феномена «взлета и падения» психологии религии [9], стало отсутствие интереса в психологии не столько к религиозным переживаниям, сколько к религии в целом – как под воздействием исторических факторов, так и в связи с изменением методологических предпочтений, вызванного в том числе распространением бихевиоризма и психоанализа и «теоло-гизацией» психологии религии (см.: [там же]).
Безусловно, метафора «взлета и падения» может быть ошибочной во многих отношениях (см.: [46]) – пессимистичные оценки психологии религии действительно звучали и до этого. Так, обзорная статья Дж.Б. Пратта за 1908 г. показывает, что особого «взлета» действительно не было: «Наши книжные полки и журналы загружены работами по «религиозной психологии», большая часть из которых на поверку оказывается не более психологической, чем анатомической или географической» [33, p. 435]. Тем не менее эта метафора довольно точно описывает траекторию развития исследования религиозного опыта: в 1930–1950 гг. работы, посвященные эмпирическому изучению опытной стороны религии, являлись скорее исключением.
***
Итак, мы рассмотрели основные направления эмпирических исследований религиозных переживаний в конце XIX – первой половине XX века. Можно сказать, что с момента становления психологии религии как самостоятельной дисциплины вплоть до конца первой четверти XX в. происходил активный поиск методов изучения религиозного опыта, среди которых наибольшим спросом пользовались анкетные опросы, анализ клинических случаев и различные формы экспериментальной интроспекции, ставшие отличительными (но не исключительными) чертами американской, французской и немецкой школ психологии религии соответственно. Тем не менее эпоха активного интереса к опытной стороне религиозности сменилась в конце 1920-х гг. периодом стагнации, продолжавшимся вплоть до середины XX века. Данная стагнация объясняется индифферентным отношением к психологии религии в целом и укладывается в рамки метафоры «взлета и падения» Б. Бейт-Халлами.
Дальнейшее развитие эмпирических исследований религиозных переживаний во второй половине XX – начале XXI в. и выводы, резюмирующие современные тенденции и проблемы в данной области, будут представлены во второй части нашей статьи.
Список литературы Эмпирические методы исследования религиозного опыта в психологии религии: история и современные тенденции (конец XIX - первая половина XX в.)
- Буланова, И. С. Аппликация внутренних компонентов религиозности в религиозном опыте верующих/И. С. Буланова//Вестник ТвГУ. Серия Педагогика и психология. -2013. -№ 4. -С. 123-128.
- Буланова, И. С. Классификация типов религиозного опыта/И. С. Буланова, А. Ю. Чернов//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11, Естественные науки. -2011. -№ 2 (2). -С. 82-87.
- Джеймс, У. Многообразие религиозного опыта/У. Джеймс. -М.: Наука, 1993. -432 с.
- Малевич, Т. В. Теории мистического опыта: историография и перспективы/Т. В. Малевич. -М.: ИФРАН, 2014. -175 с.
- Минин, П. Мистицизм и его природа/П. Минин. -К.: Пролог, 2003. -148 с.
- Угринович, Д. М. Психология религии/Д. М. Угринович. -М.: Политиздат, 1986. -352 с.
- Allport, G. W. The Use of Personal Documents in Psychological Science/G. W. Allport. -N. Y.: Social Science Research Council, 1942. -210 p.
- Behn, S. Ueber das religiöse Genie/S. Behn//Archiv für Religionspsychologie. -1914. -Bd. 1 (1). -S. 45-67.
- Beit-Hallahmi, B. Psychology of Religion 1880-1930: The Rise and Fall of a Psychological Movement/B. Beit-Hallahmi//Journal of the History of the Behavioral Sciences. -1974. -Vol. 10. -P. 84-90.
- Clark, E. T. The Psychology of Religious Awakening/E. T. Clark. -N. Y.: Macmillan, 1929. -170 p.
- Coe, G. A. The Spiritual Life Studies in the Science of Religion/G. A. Coe. -N. Y.: Eaton & Mains, 1900. -280 p.
- Conklin, E. S. The Psychology of Religious Adjustment/E. S. Conklin. -N. Y.: Macmillan, 1929. -360 p.
- Cronbach, A. The Psychology of Religion: A Bibliographical Survey/A. Cronbach//The Psychological Bulletin. -1928. -Vol. 25 (12). -P. 701-719.
- Gins, K. Experimentell untersuchte Mystik -fragwurdig?/K. Gins//Archiv für Religionspsychologie. -1967. -Bd. 9 (1). -S. 213-248.
- Girgensohn, Kereligionspsychologische Untersuchung auf experimenteller Grundlage/K. Girgensohn. -Leipzig: S. Hirzel, 1921. -712 S.
- Glock, C. Y. Religion and Society in Tension/C. Y. Glock, R. Stark. -Chicago: Rand McNally & Co., 1965. -316 p.
- Gruehn, W. Religionspsychologie/W. Gruehn. -Breslau: F. Hirt, 1926. -159 S.
- Hall, G. S. The Moral and Religious Training of Children and Adolescents/G. S. Hall//The Pedagogical Seminary. -1891. -Vol. 1 (2). -P. 196-210.
- Hall, G. S. A Study of Fears/G. S. Hall//The American Journal of Psychology. -1897. -Vol. 8 (2). -P. 228-232.
- Hood, R. W. Religious Orientation and the Report of Religious Experience/R. W. Hood//Journal for the Scientific Study of Religion. -1970. -Vol. 9. -P. 285-291.
- James, W. Preface/W. James//The Psychology of Religion: An Empirical Study of the Growth of Religious Consciousness. L.: The Walter Scott Publishing Co., 1911. Р. vii-x.
- Janet, P. Les obsessions et la psychasthénie/P. Janet. -T. II. -P.: Alcan, 1903. -541 p.
- Koepp, W. Einfuhrung in das Studium der Religionspsychologie/W. Koepp. -Tubingen: J. C. B. Mohr, 1920. -104 S.
- Lamiell, J. T. Rethinking the Role of Quantitative Methods in Psychology/J. T. Lamiell//Rethinking Methods in Psychology. -L.: SAGE Publications, 1995. -P. 143-161.
- Leroy, E.-B. Interprétation Psychologique des «Visions Intellectuelles» chez les Mystiques Chrétiens/E. B. Leroy//Revue de l'histoire des religions. -1907. -Vol. 55. -P. 1-50.
- Leuba, J. H. Introduction to a Psychological Study of Religion/J. H. Leuba//The Monist. -1901. -Vol. 11(2). -P. 195-225.
- Leuba, J. H. The Making of a Psychologist of Religion/J. H. Leuba//Religion in Transition. -N. Y.: Macmillan Co., 1937. P. 173-200.
- Leuba, J. H. A Study in the Psychology of Religious Phenomena/J. H. Leuba//The American Journal of Psychology. -1896. -Vol. 7 (3). -P. 309-385.
- Leuba, J. H. The Psychology of Religious Mysticism/J. H. Leuba. -L.: Kegan Paul, Trench & Co. Ltd., 1925. -336 p.
- Lorenzsonn, H. Die Dorpater religionspsychologische Schule/H. Lorenzsonn//Archiv für Religionspsychologie. -1936. -Bd. 10 (1). -S. 256-270.
- Murisier, E. Les maladies du sentiment religieux/E. Murisier. -Paris: F. Alcan, 1903. -176 p.
- Pinard, H. Les muthodes de la psychologie religieuse/H. Pinard//Revue nuo-scolastique de philosophie. -1923. -№ 99. -P. 263-293.
- Pratt, J. B. The Psychology of Religion/J. B. Pratt//The Harvard Theological Review. -1908. -Vol. 1 (4). -P. 435-454.
- Sanctis, S. de. Religious Conversion, a Bio-Psychological Study/S. de Sanctis. -N. Y.: Harcourt, Brace & Co., 1927. -336 p.
- Schlüter, J. Religionspsychologische Biographienforschung/J. Schlüter//Archiv für Religionspsychologie. -1914. -Bd. 1 (1). -S. 202-210.
- Schneider, C. Studien zur Mannigfaltigkeit des religiösen Erlebens/C. Schneider//Archiv für Religionspsychologie. -1929. -Bd. 4 (1). -S. 19-42.
- Sinclair, R. D. A Comparative Study of Those who Report the Experience of the Divine Presence and Those who Do Not/R. D. Sinclair. -Iowa: University of Iowa, 1928. -63 p.
- Starbuck, E. D. An Empirical Study of Mysticism/E. D. Starbuck//Proceedings of the Sixth International Congress of Philosophy. -N.Y.: Longmans, Green and Co., 1927. -P. 87-94.
- Starbuck, E. D. The Psychology of Religion: An Empirical Study of the Growth of Religious Consciousness/E. D. Starbuck. -L.: The Walter Scott Publishing Co., 1911. -423 p.
- Starbuck, E. D. Religion's Use of Me/E. D. Starbuck//Religion in Transition. -N.Y.: Macmillan Co., 1937. -P. 201-256.
- Starbuck, E. D. Some Aspects of Religious Growth/E. D. Starbuck//The American Journal of Psychology. -1897. -Vol. 9 (1). -P. 70-124.
- Starbuck, E. D. A Study of Conversion/E. D. Starbuck//The American Journal of Psychology. -1897. -Vol. 8 (2). -P. 268-308.
- Stählin, W. Experimentelle Untersuchungen über Sprachpsychologie und Religionspsychologie/W. Stählin//Archiv für Religionspsychologie. -1914. -Bd. 1 (1). -S. 117-194.
- Vande Kemp, H. G. Stanley Hall and the Clark School of Religious Psychology/H. Vande Kemp//American Psychologist. -1992. -Vol. 47 (2). -P. 290-298.
- Wulff, D. M. Experimental Introspection and Religious Experience: The Dorpat School of Religious Psychology/D. M. Wulff//Journal of the History of the Behavioral Sciences. -1985. -Vol. 21. -P. 131-150.
- Wulff, D. M. Rethinking the Rise and Fall of the Psychology of Religion/D. M. Wulff//Religion in the Making: The Emergence of the Sciences of Religion. -Leiden: Brill, 1998. -P. 181-202.