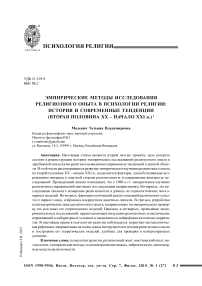Эмпирические методы исследования религиозного опыта в психологии религии: история и современные тенденции (вторая половина XX - начало XXI в.)
Автор: Малевич Татьяна Владимировна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Психология религии
Статья в выпуске: 1 (27), 2015 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья является второй частью проекта, цель которого состоит в реконструкции истории эмпирических исследований религиозного опыта в зарубежной психологии религии и выявлении современных тенденций в данной области. В этой части рассматривается развитие эмпирического изучения религиозного опыта во второй половине XX - начале XXI в., выделяются факторы, способствовавшие возрождению интереса к опытной стороне религиозности, и современные векторы ее исследований. Проведенный анализ показывает, что с 1960-х гг. эмпирическое изучение религиозных переживаний протекает по следующим направлениям. Во-первых, это исследование опытного измерения религиозности в рамках ее социологических многомерных моделей. Во-вторых, феноменологический анализ описаний религиозного опыта от первого лица, собранных посредством анкетных опросов. В-третьих, разработка психометрических шкал религиозного опыта, направленных на эмпирическую проверку тех или иных его теоретических моделей. Наконец, в-четвертых, проведение экспериментальных исследований, предполагающих индукцию религиозных и мистических переживаний в лабораторных условиях и выявление их нейрофизиологических коррелятов. В настоящее время в психологии религии наблюдается теоретико-методологическая рефлексия, направленная на поиск новых инструментов изучения религиозного опыта и построение его теоретических моделей, удобных для проверки в контролируемых условиях.
Психология религии, религиозный опыт, мистический опыт, методология, эмпирические методы, психометрические шкалы, нейротеология, многомерные модели религиозности
Короткий адрес: https://sciup.org/14974702
IDR: 14974702 | УДК: 21:159.9
Текст научной статьи Эмпирические методы исследования религиозного опыта в психологии религии: история и современные тенденции (вторая половина XX - начало XXI в.)
В первой части настоящей статьи [3] мы рассмотрели эволюцию эмпирических исследований религиозного опыта в конце XIX – первой половине XX в., выделив два этапа в их развитии. Напомним, что изначально изучение религиозных переживаний считалось одной из ключевых предметных областей психологии религии. Однако уже в конце 1920-х гг. эмпирические исследования религиозного опыта стремительно теряют популярность на фоне общего упадка психологии религии как научной дисциплины. С 1950-х гг. наблюдается своего рода «возрождение» психологии религии, но интерес к опытной стороне религиозности пробуждается только в 1960-е годы.
В этой части нашей статьи мы рассмотрим развитие эмпирического изучения религиозных переживаний во второй половине XX – начале XXI в., выявим ключевые факторы, повлиявшие на становление тех или иных методологических подходов к их исследованию, а также определим современные тенденции в данной области.
Религиозный опыт как измерение религиозности: социологические опросы
Одним из факторов, спровоцировавшим возобновление эмпирических исследований религиозного опыта, стало появление в социологии религии в 1960-х гг. многомерных моделей религиозности. Прототипической здесь стала модель американского социолога Ч. Глока 2, выделившего пять «центральных» измерений религиозности: ритуалистическое, идеологическое, интеллектуальное, результирующее и, наконец, опытное (см.: [19, p. 20–32]). Последнее измерение, по мнению Глока, фиксировало не только экстремальные разновидности религиозного опыта, в конечном счете он указал на четыре формы «религиозных чувств», с учетом которых и разработал индексы для их эмпирической оценки: 1) беспокойство как потребность в «основанной на трансцендентном идеологии»; 2) познание, то есть способность постижения божественного; 3) доверие – ощущение, будто жизнь находится каким-то образом в руках божественной силы и этой силе можно довериться; 4) чувство «страха» [ibid., p. 31–32].
Впоследствии Глок развивал свою модель в соавторстве с Р. Старком, создавшим классическую «таксономию религиозного опыта» (см.: [19, p. 39–66]) и сместившим акцент с его индивидуальной природы на социальный контекст. Первая задача, которую Старк возлагал на эмпирические исследования религиозных переживаний, носила концептуальный характер и заключалась в выделении их ключевых подтипов на основании разновидностей предполагаемого в религиозном опыте «контакта со сверхъестественной силой» [ibid., p. 40–41]. В итоге Старк выявил четыре подтипа, варьирующиеся по степени «интимности» такого социального взаимодействия: 1) человеческий агент только замечает присутствие божественного агента; 2) человеческий агент и божественный агент обоюдно замечают присутствие друг друга; 3) осознание обоюдного присутствия сменяется аффективным отношением, подобным любви или дружбе; 4) человеческий агент воспринимает себя в качестве доверенного лица божественного агента или его «содея-теля» [ibid., p. 42–43]. Более того, Старк обнаружил тенденцию, подтверждающую, с его точки зрения, одномерность религиозного опыта как феномена: чем более «интимные» опыты человек испытывает, тем чаще он испытывает менее «интимные» его разновидности [ibid., p. 60, 155–161]. В конечном счете эмпирическая проверка такого иерархического порядка стала одним из значимых направлений исследований религиозного опыта (см., например: [13]).
К сожалению, мы не имеем возможности рассмотреть прочие исследования опытного измерения религиозности в контексте ее многомерных моделей 3, однако отметим свойственные им общие тенденции. Во-первых, это активное проведение опросов, развивающих концепцию Ч. Глока и Р. Старка, но использующих главным образом вопросы закрытого типа. Во-вторых, дальнейшая разработка разнообразных индексов и шкал для оценки опытного измерения (например, таких как «смысл жизни», «чувство защищенности», «“единение” с божественным» и т. д.) и попытки установить их социологические корреляты (см., например: [14]). Тем не менее многомерные шкалы нередко получали и продол- жают получать критические оценки: в частности, их противники указывают на отсутствие между измерениями независимых отношений, концептуальную и семантическую путаницу, в том числе относительно категорий опытного измерения, и т. д. (см.: [4, c. 277–280]).
Феноменология религиозного опыта: открытые вопросы и контент-анализ
Возобновление исследований религиозных переживаний с помощью анкетных опросов, содержащих открытые вопросы (см. таблицу), было спровоцировано любительским интересом со стороны английской писательницы М. Ласки (1915–1988) (см.: [34]). Материал для анализа Ласки собирала на протяжении 3 лет, интервьюируя субъектов (главным образом людей из ее социального окружения), испытавших экстатические, или мистические, опыты. На вопрос «Знакомо ли Вам ощущение трансцендентного экстаза?» положительно ответили 60 респондентов из 63 [ibid., p. 9]. На основании контент-анализа собранного материала, дополненного 49 описаниями экстатических состояний из религиозной и художественной литературы, Ласки попыталась выявить определяющие характеристики и типы экстатических переживаний и установить их «триггеры» и «антитриггеры» (см.: [ibid., p. 5–56]).
Работа Ласки хоть не отличалась профессионализмом, но вновь пробудила интерес к анкетным исследованиям религиозных переживаний, показав их распространенность и «нормальность». В частности, именно она оказала значительное влияние на положительную трактовку А. Маслоу (1908–1970) мистических опытов. Маслоу включил их в спектр «пиковых» переживаний, играющих ключевую роль в «самоактуализации» личности [36, p. 19] и также ставших предметом эмпирического анализа (см.: [45]).
Кроме того, анкета Ласки, наряду с опросником Глока и Старка, легла в основу ряда исследований, проведенных в 1960–1970-е годы. Например, полагаясь на эти опросники, американские ученые К. Бэк и Л. Бурк попытались доказать возможность «научного», эмпирического и статистического, изучения религиозных опытов. В частности, они показа- ли, что «религиозная» природа опыта определяется не его качественной спецификой, а социальным контекстом и используемыми респондентами референтами (см.: [8; 11]). Еще одним примером, опирающимся уже на анкету Ласки и модель пиковых переживаний Маслоу, стал анализ «паранормальных» опытов, проведенный Э. Грили (1928–2013), которому удалось выделить факторы мистических и экстатических переживаний (в частности, в детско-родительских отношениях) и обнаружить сильные положительные корреляции между мистическими опытами и уровнем психологического благополучия (см.: [21]).
Пожалуй, наиболее масштабная попытка дифференцировать религиозные переживания на основании описаний от первого лица – это многолетние исследования британского зоолога А. Харди (1896–1985). За 50 лет изучения «человеческой экологии» [23, p. 2] он смог собрать более 3 000 описаний и провести их классификацию, выделив в общей сложности 92 категории [ibid., p. 23–24]. Результатом его деятельности стало создание в 1969 г. в Оксфорде «Научно-исследовательского отдела по изучению религиозного опыта» – до сих пор функционирующего подразделения (но под названием «Центр исследований религиозного опыта» и при Университете Уэльса в Лампетере), направленного на «изучение – настолько рациональное и научное, насколько это возможно – современных описаний религиозных и духовных опытов и публикацию обнаруженных результатов» и содержащего в своем архиве порядка 6 000 описаний [6]. Еще одним известным британским зоологом, связавшим свою деятельность с этой институцией, стал Д. Хэй, стремящийся выявить корреляции между психологическим здоровьем и религиозными переживаниями и провести их классификацию (см.: [24]).
Опуская другие примеры анкетных исследований, отметим следующие их общие черты: 1) поиск баланса между «эмическими» описаниями религиозного опыта и его «этическими» определениями; 2) контент-анализ собранного материала и попытки выделить ключевые дескрипторы религиозных переживаний; 3) поиск факторов, способствующих возникновению религиозного опыта, и корреляционный анализ, направленный на выявление взаимосвя- зи между религиозным опытом и показателями психологического здоровья; 4) создание разнообразных классификаций религиозного опыта на основании описаний от первого лица;
-
5) выявление процентного распространения религиозных опытов среди населения.
Безусловно, опора на интроспективные данные, характерная для этой линии исследо-
Таблица
Примеры вопросов, предполагающих описание религиозного опыта от первого лица
|
Автор(ы) |
Вопрос |
Определение в вопросе |
Определение автора(ов) |
|
Ч. Глок и Р. Старк |
Просьба описать «чувства, возможно испытанные вами, которые вы могли бы назвать религиозными» [19, p. 41] |
Эмическое |
Опытное измерение – «все те чувства, восприятия и ощущения, которые, с точки зрения субъекта, их испытывающего, или с точки зрения некоторой религиозной группы или сообщества, предполагают некий контакт, каким бы слабым он ни был, с божественной сущностью, то есть с Богом, с предельной реальностью или трансцендентным авторитетом» [19, p. 20] |
|
М. Ласки |
«Знакомо ли Вам ощущение трансцендентного экстаза?» [16, p. 9] / «Испытывали ли Вы когда-нибудь чувство неземного экстаза?» [34, p. 12] |
Эмическое |
Экстатические опыты – «опыты, которые обычно бывают радостными, кратковременными, неожиданными, редкими, значимыми и необычными до такой степени, что часто кажется, будто бы они происходят от сверхъестественного источника» [34, p. 5, 43] |
|
Л. Бурк |
«Могли бы вы сказать, что когда-либо испытывали “религиозный или мистический опыт”, то есть момент внезапного религиозного озарения или пробуждения?» [11, p. 154] |
Этическое |
«Экстатический или трансцендентный опыт» – «расширение сознания или выход на новый уровень сознания. Это состояние, в котором человек временно теряет свою идентификацию в качестве отдельной индивидуальной силы и сливается с внешней сущностью или силой, которая по сути охватывает то, что он определяет как вселенную как таковую» [11, p. 154] |
|
Э. Грили |
«Испытывали ли вы когда-либо ощущение, будто вы были очень близки к могущественной духовной силе, которая, как вам казалось, возвышала вас над самим собой?» [21] |
Этическое |
«Паранормальные» опыты – «определенный набор феноменов, которыми обычно интересуются парапсихологи и исследователи мистицизма» [21, p. 22] |
|
Центр исследований религиозного опыта (А. Харди, Д. Хэй и Э. Мориси) |
«Испытывали ли вы когда-либо духовный или религиозный опыт или чувствовали ли вы присутствие или силу, независимо от того, называете ли вы ее Богом или нет, которая отличалась от вашей повседневной жизни?» [6; 24, p. 255] |
Этическое |
– |
ваний, вновь приводит к ряду проблем, вызванных, в частности, зависимостью собранного материала от лингвистических способностей интервьюируемых и от самой постановки вопросов. Кроме того, в подобных опросах респонденты зачастую описывают только одно из пережитых ими состояний, а проводимые впоследствии классификации религиозного опыта напрямую обусловлены теоретическими предпочтениями исследователей [31, p. 343].
Психометрические шкалы религиозного и мистического опыта
Факторами, также способствующими эмпирическим исследованиям, выступили новые теоретические модели религиозных переживаний и активные методологические дискуссии между представителями двух противоположных подходов – эссенциализма, предполагающего наличие общего феноменологического «ядра» религиозного или по крайней мере мистического опыта, и конструктивизма, утверждающего абсолютную детерминированность религиозных переживаний социокультурным контекстом. Результатом стало создание ряда психометрических шкал, направленных на эмпирическую проверку этих теоретических моделей.
Пожалуй, наибольшую известность получили две шкалы, разработанные в 1970-х гг. американским психологом Р. Худом: Шкала эпизодов религиозного опыта и Шкала мистицизма. Первая из них рассматривалась как инструмент для «адекватного операционального измерения интенсивности описываемого религиозного опыта» [29, p. 286] и состояла из 15 пунктов – описаний от первого лица, взятых из «Многообразия религиозного опыта» У. Джеймса. Степень соответствия этих описаний своим субъективным переживаниям респонденты должны были оценить по пятибалльной (от 1 – «у меня определенно не было такого опыта» – до 5 – «у меня был опыт, практически идентичный этому») шкале Лайкерта [ibid., p. 287]. Впоследствии Шкала эпизодов в адаптации Дж. Роузгранта 4 прочно вошла в инструментарий психологических исследований религиозности и нередко использовалась, в частности, самим Худом для установ- ления корреляций между склонностью переживать религиозный опыт и типами религиозной ориентации (см.: [27; 29]) и для выявления влияния нормативных ожиданий на воспроизводство религиозных опытов (см.: [27]). Тем не менее на практике эта шкала не смогла подтвердить свою универсальность: созданная на основе источников, выбранных У. Джеймсом, она отражала его интерес к «наиболее ярко выраженным» случаям религиозных переживаний и сохраняла следы северо-американского протестантизма (см.: [25, p. 268–269; 31, p. 363–365].
Еще более популярным инструментом стала вторая предложенная Худом шкала – так называемая Шкала мистицизма, построенная на концептуальной модели мистического опыта У. Стэйса, проводившего различие между собственно мистическим опытом и накладываемой на него культурно-специфичной интерпретацией. Стэйс выделил универсальное «ядро» мистических переживаний и следующие его «критерии»: «чувство объективной реальности», «блаженство, покой», «чувство святого, сакрального или божественного», «парадоксальность», «невыразимость». При этом, с точки зрения Стэйса, для элементарной, «экстравертной», формы мистического опыта характерно восприятие единства явлений внешнего мира, в то время как его «завершенная», «интровертная», форма предполагает ощущение отсутствия пространства и времени и опыт недифференцированного единства «чистого сознания» [43, p. 131–132]. Шкала мистицизма, разработанная с целью эмпирического обоснования «тезиса общего ядра», состояла из 32 вопросов, операциона-лизировавших эти «критерии» (см.: [30]). По мнению Худа, результаты, полученные с ее помощью, подтвердили гипотезу Стэйса: факторный анализ показал наличие сначала двух, а впоследствии трех факторов – «интровертного опыта», «экстравертного опыта» и «религиозной интерпретации» (см.: [12; 30]).
Эта шкала действительно стала универсальным инструментом исследования мистических переживаний: ее валидность удалось подтвердить на разных выборках, успешными оказались и попытки адаптации к другим религиозным контекстам (см.: [18; 25; 38]). Кроме того, она нередко используется для установления кор- реляций с различными психометрическими показателями, например с типами религиозной ориентации (см.: [30]) и уровнем самоактуализации личности (см.: [26]). Тем не менее, как и многие другие инструменты 5, Шкала мистицизма оказывается заложницей лежащей в ее основании теоретической модели, то есть гипотез «общего ядра» и «чистого сознания», а результаты, полученные с ее помощью, – следствием порочного круга (см.: [10, p. 217–218]).
Примерами психометрических исследований в рамках альтернативной эссенциализму парадигмы являются опросы, проведенные Б. Спилкой: они фокусируются на изучении роли ожиданий на содержание и оценку религиозных переживаний. Опираясь на атрибуционную модель религиозного опыта, Спилка и его коллеги в целом подтвердили гипотезу, согласно которой люди, пережившие религиозный мистический опыт, атрибутируют своему доопытному жизненному стилю негативные качества и положительно оценивают сам опыт и послеопытный жизненный стиль (см.: [42]). Кроме того, дальнейшие исследования показали значимые соответствия между ожиданиями в отношении религиозный переживаний и их феноменологическим содержанием – другими словами, «люди испытывают именно то, что они хотят испытать» [44, p. 96].
Суммировать опыт применения психометрии в области исследования религиозных переживаний можно следующим образом. Во-первых, психометрические шкалы зачастую опираются на эссенциалистские либо конструктивистские модели и направлены на их эмпирическую проверку. Во-вторых, измерения проводятся в основном посредством одномерного шкалирования, в первую очередь с помощью методики Ренсиса Лайкерта. Наконец, особой популярностью пользуются методы факторного и корреляционного анализа полученных данных с целью выявления феноменологического содержания, структуры, типов и психосоциального контекста религиозных и мистических опытов.
Экспериментальные исследования: нейрофизиология религиозного опыта
Главным препятствием на пути экспериментальных исследований религиозных пере- живаний оставалась (и, видимо, остается) проблема их индукции в лабораторных условиях. В период расцвета «психоделической революции» в США и Европе одним из ключевых средств вызова религиозных опытов стали наркотические вещества. Можно сказать, что популярность подобных исследований также спровоцировал любительский интерес: в середине 1950-х гг. английский писатель О. Хаксли рассказал об опытах, испытанных им после сеансов приема мескалина [5]. В 1962 г. американские ученые У. Панке и Т. Лири провели так называемый «Эксперимент Страстной Пятницы», по их словам окончательно подтвердивший способность псилоцибина индуцировать мистические состояния, а значит, и возможность изучать религиозный опыт в лаборатории (см.: [40]). Вскоре психоделические препараты стали считаться «химическим ключом» [1, c. 14] к религиозным переживаниям: и если У. Панке и У. Ричардз предлагали принимать ЛСД для исследования мистических опытов в лабораторных условиях [40, p. 193, 197], то Т. Лири, Р. Мецнер и Р. Олперт составили руководство по проведению «психоделических сессий» с применением ЛСД, мескалина и псилоцибина [1, c. 149–172].
Более социально приемлемым способом индукции религиозных переживаний стали медитативные техники и электростимуляция. Так, еще в 1960–1970-е гг. американские нейрофизиологи Э. Гельгорн и У. Кили провели ряд экспериментов с использованием ЭЭГ, выделив две разновидности «йогического транса» («экстаз») и «медитативное состояние»: если для «экстаза» характерно доминирование эр-готропной, или симпатической, нервной системы, то медитация сопровождается изменением в трофотропную, или парасимпатическую, сторону (см.: [2]). Данная модель сразу вызвала критику: ее создателей обвиняли в опоре на спорный эрготропно-трофотропный конструкт, в неточности эксперимента и в редукции медитации к абстрактному статичному состоянию [там же].
Тем не менее интерес к подобным экспериментам привел к появлению так называемой нейротеологии, одной из ключевых задач которой стала разработка нейрофизиологических моделей религиозного опыта. Наиболее репрезентативными примерами таких моделей яв- ляются гипотеза «мистического мозга» американских ученых Э. Ньюберга и Ю. д’Акили и гипотеза «височно-долевых транзиентов» канадского психофизиолога М. Персингера, настаивающего на сопряженности религиозных переживаний с электрическими колебаниями в височной доле головного мозга (см.: [2]). Несмотря на популярность нейротеологии, ее часто обвиняют в спекулятивности, культурном универсализме, инструментальном подходе и нарушении экологической валидности [там же].
Более того, в конце 1970-х гг. на Западе началась острая дискуссия о самой возможности экспериментальных методов в психологии религии. В частности, Д. Бэтсон, указывая на проблематичность эксперимента в данной области, вызванную как этическими, так и практическими соображениями, предложил «рабочий компромисс» – использование «квазиэкспериментальных техник», пусть и не удовлетворяющих критериям собственно эксперимента, но максимально возможно к ним приближающихся и выполняющих их главную функцию – эмпирическую проверку тех или иных теорий [9, p. 414–416]. Примером такого квазиэксперимента стала индукция мистических опытов методом сенсорной депривации (см.: [28]).
Не имея возможности подробнее рассмотреть прочие экспериментальные работы, отметим, что они до сих пор отличаются интересом к феноменологическому содержанию религиозных, главным образом мистических, опытов и к мозговой активности, с ними сопряженной. Кроме того, несмотря на активное использование современных лабораторных методов и техник, результаты этих исследований зачастую носят спекулятивный характер, а главной проблемой, препятствующей развитию экспериментального изучения религиозного опыта, остается его индукция в лаборатории.
Начало XXI в.: современные тенденции
Сейчас психология религии может похвастаться обилием эмпирических – как качественных, так и количественных, как экспериментальных, так и квазиэксперименталь-ных, как кроссекционных, так и лонгитюдных – исследований религиозных переживаний. Во-первых, продолжается адаптация к новым религиозным и культурным контекстам уже ставших «классическими» методик (см., например: [18; 38]). Во-вторых, проводится активный поиск новых инструментов для проверки существующих моделей религиозного опыта: иллюстрацией могут служить исследования, направленные на выявление различий между феноменологическим содержанием мистических переживаний и субъективным отношением к ним (см.: [15]). Кроме того, особой популярностью пользуется экспериментальный подход к изучению религиозных переживаний (в первую очередь опытов ощущения присутствия и медититативных и мистических состояний) с их индукцией в контролируемых условиях посредством медитативных техник, гипноза, наркотических веществ и электростимуляции и с помощью различных способов сбора данных – от интроспективных описаний до методов нейровизуализации (см., например: [16; 37]).
В настоящее время исследователи религиозного опыта вновь обращаются к теоретико-методологической рефлексии – на фоне общих дискуссий о статусе психологии религии, о ее методах и предмете. В частности, продолжается начатое в 1980-е гг. переосмысление роли в психологии вообще и в психологии религии в частности традиционной «парадигмы измерения» с ее опорой на анкетные опросы, психометрические шкалы и статистическую обработку данных (см.: [21; 33]). В конечном счете психологи религии все более склоняются к «смешанным» методам исследования, предполагающим, например, сочетание количественных и качественных инструментов, в частности психометрических шкал, анкетных опросов и полуструктурированных и феноменологически ориентированных интервью (см., например: [32]).
Дискуссии продолжаются и в области экспериментального изучения религиозных переживаний, в частности, в связи с развитием нейропсихологического и нейрофизиологического методологического инструментария и его активного внедрения в исследования различных разновидностей религиозного опыта (см., например: [7]). Кроме того, возникают новые подходы, позволяющие в том числе свести к минимуму нарушения экологической валидности проводимых экспериментов, и новые теоретические модели религиозного опыта (или по крайней мере некоторых его типов), пригодные для проверки в лабораторных условиях. Показательным примером в данном случае могут быть пилотные исследования мистических переживаний, проведенные группой ученых из Ор-хусского университета, опирающихся на когнитивных подход и использующих смешанные методы с целью «перцептивных манипуляций» – усиления ожиданий испытуемых по отношению к феноменологическому содержанию переживаемых ими опытов в условиях сенсорной депривации (см.: [39]).
***
Итак, мы проследили ход развития эмпирических исследований религиозного опыта в западной психологии религии с конца XIX в. по настоящее время. В целом можно выделить следующие его этапы, характерные для них методологические векторы и тенденции.
-
1. В конце XIX – первой четверти XX в. религиозные переживания, в первую очередь опыты обращения и мистические опыты, являлись одним из приоритетных предметных полей психологии религии. Происходил активный поиск релевантных методов сбора и анализа материала, при этом наиболее востребованными оказались три модели эмпирических исследований, предполагавшие опору на 1) клинические наблюдения и «патологический» подход, 2) анкетные опросы и статистическую обработку данных и 3) лабораторную индукцию религиозных переживаний и экспериментальную интроспекцию.
-
2. В 1930–1950-е гг. эмпирические исследования религиозного опыта как в США, так затем и в Европе становятся исключением из правила, что объясняется скорее стагнацией психологии религии как научной дисциплины, а не отсутствием интереса к опытной стороне религиозности как таковой.
-
3. С 1950–1960-х гг. начинается возрождение эмпирической психологии религии и, как следствие, эмпирических исследований религиозных переживаний. Среди факторов, спо-
- собствующих изучению религиозного опыта, стоит упомянуть следующие. Во-первых, это разработка и эмпирическое обоснование социологических моделей многомерной религиозности. Во-вторых, пробуждение любительского интереса к экстатическим переживаниям, приведшее к анкетным опросам, рассчитанным на сбор описаний от первого лица с последующим анализом феноменологических характеристик религиозных переживаний. В-третьих, появление новых теоретических моделей религиозного опыта, повлекших за собой разработку психометрических методик с целью доказательства или опровержения этих моделей. Наконец, в-четвертых, психоделическая революция и развитие нейрофизиологических методов исследования, позволившие проводить эксперименты с индукцией религиозных опытов в контролируемых условиях.
-
4. На современном этапе наблюдается активная методологическая рефлексия, направленная на поиск новых средств изучения религиозных переживаний. С одной стороны, происходит совершенствование имеющегося инструментария, выражающееся в адаптации к новым религиозным контекстам уже разработанных шкал и во внедрении высокотехнологичных методик в лабораторные исследования религиозного опыта. С другой стороны, слышны призывы к использованию смешанных методов, предполагающих сочетание количественных и качественных измерений, и производится привлечение новых моделей религиозного опыта, поддающихся проверке в экспериментальных условиях.
Безусловно, говорить об окончательном решении проблемы эмпирического изучения религиозного опыта еще рано: вполне вероятно, что «волшебной пилюли» здесь не существует. Все из рассмотренных методов имеют свои недостатки. Так, анкетные опросы не позволяют изучать религиозный опыт в его непосредственном контексте и предоставляют нам лишь воспоминания о нем, интроспективные техники опасны субъективизмом, психометрические шкалы выступают заложниками тех теоретических моделей, на которых они сами основываются, эксперименты приводят к нарушениям экологической валидности и поднимают этические вопросы и т. д., а потому современ- ный акцент на использовании смешанной методологии представляется оправданным и действительно перспективным. Религиозные переживания были и остаются существенным элементом жизненного мира человека и, следовательно, нуждаются в систематическом теоретическом и эмпирическом изучении. В этом смысле опыт, накопленный западной психологией религии, может оказаться чрезвычайно полезным для отечественных исследователей.
Список литературы Эмпирические методы исследования религиозного опыта в психологии религии: история и современные тенденции (вторая половина XX - начало XXI в.)
- Лири, Т. Психоделический опыт: Руководство на основе «Тибетской книги мертвых»/Т. Лири, Р. Метцнер, Р. Олперт. -Львов: Инициатива, 2003. -224 с.
- Малевич, Т. В. Нейротеология: теории религии и наука о мозге/Т. В. Малевич//Религиоведческие исследования. -2012. -№ 1/2. -С. 62-83.
- Малевич, Т. В. Эмпирические методы исследования религиозного опыта в психологии религии: история и современные тенденции (конец XIX -первая половина XX в.)/Т. В. Малевич//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7, Философия. Социология и социальные технологии. -2014. -№ 5 (25). -С. 60-69.
- Пруцкова, Е. Операционализация понятия «религиозность» в эмпирических исследованиях/Е. Пруцкова//Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. -2012. -№ 2/30. -С. 268-293.
- Хаксли, О. Двери восприятия. Рай и Ад/О. Хаксли. -М.: АСТ: Астрель, 2010. -216 с.
- Alister Hardy Religious Experience Research Centre. -Electronic text data. -Mode of access: http://www.uwtsd.ac.uk/library/alister-hardy-religiousexperience-research-centre/(date of access:: 20.10.2014). -Title from screen.
- Azari, N. P. From Brain Imaging Religious Experience to Explaining Religion: A Critique/N. P. Azari, M. Slors//Archiv für Religionspsychologie. -2007. -Vol. 29. -P. 67-85. -DOI: DOI: 10.1163/008467207X188630
- Back, K. W. Can Feelings Be Enumerated?/K. W. Back, L. B. Bourque//Behavioral Science. -1970. -Vol. 15. -P. 487-496. -DOI: DOI: 10.1002/bs.3830150603
- Batson, C. D. Experimentation in Psychology of Religion: An Impossible Dream/C. D. Batson//Journal for the Scientific Study of Religion. -1977. -Vol. 16/4. -P. 413-418. -DOI: DOI: 10.2307/1386228
- Belzen, J. A. Studying the Specificity of Spirituality: Lesson from the Psychology of Religion/J. A. Belzen//Mental Health, Religion, and Culture. -2009. -Vol. 12/3. -P. 205-222. -DOI: DOI: 10.1080/13674670802456606
- Bourque, L. B. Social Correlates of Transcendental Experiences/L. B. Bourque//Sociology of Religion. -1969. -Vol. 30/3. -P. 151-163. -DOI: DOI: 10.2307/3710269
- Caird, D. The Structure of Hood's Mysticism Scale: A Factor-Analytic Study/D. Caird//Journal for the Scientific Study of Religion. -1988. -Vol. 27/1. -P. 122-127. -DOI: DOI: 10.2307/1387407
- Currie, R. Intimacy and Saliency: Dimensions for Ordering Religious Experiences/R. Currie, L. F. Klug, C. R. McCombs//Review of Religious Research. -1982. -Vol. 24/1. -P. 19-32. -DOI: DOI: 10.2307/3510979
- DeJong, G. F. Dimensions of Religiosity Reconsidered: Evidence from a Cross-Cultural Study/G. F. DeJong, J. E. Faulkner, R. H. Warland//Social Forces. -1976. -Vol. 54/4. -P. 866-889. -DOI: DOI: 10.2307/2576180
- Edwards, A. C. Construction and Validation of a Scale to Assess Attitudes to Mysticism: The Need for a New Scale for Research in the Psychology of Religion/A. C. Edwards, M. J. Lowis//Spirituality and Health International. -2008. -Vol. 9/1. -P. 16-31. -DOI: DOI: 10.1002/shi.330
- Factor Analysis of the Mystical Experience: A Study of Experiences Occasioned by the Hallucinogen Psilocybin/K. A. MacLean //Journal for the Scientific Study of Religion. -2012. -Vol. 51/4. -P. 721-737. -DOI: DOI: 10.1111/j.1468-5906.2012.01685.x
- Francis, L. J. The Francis-Louden Mystical Orientation Scale (MOS): A Study Among Roman Catholic Priests/L. J. Francis, S. H. Louden//Research in the Social Scientific Study of Religion. -2000. -Vol. 11. -P. 99-116.
- Francis-Vincent, A. A Comparative Study of Mystical Experience Among Christian, Muslim, and Hindu Students in Tamil Nadu, India/A. A. Francis-Vincent, C. A. M. Hermans, C. Sterkens//Journal for the Scientific Study of Religion. -2010. -Vol. 49/2. -P. 264-277. -DOI: DOI: 10.1111/j.1468-5906.2010.01508.x
- Glock, C. Y. Religion and Society in Tension/C. Y. Glock, R. Stark. -Chicago: Rand McNally & Co., 1965. -316 p.
- Gorsuch, R. L. Measurement: The Boon and Bane of Investigating Religion/R. L. Gorsuch//American Psychologist. -1984. -Vol. 39/3. -P. 228-236. -DOI: DOI: 10.1037/0003-066X.39.3.228
- Greeley, A. M. The Sociology of the Paranormal: A Reconnaissance/A. M. Greeley. -L.: Sage, 1975. -88 p.
- Happold, F. C. Mysticism: A Study and an Anthology/F. C. Happold. -Harmondsworth: Penguin Books, 1963. -416 p.
- Hardy, A. The Spiritual Nature of Man: A Study of Contemporary Religious Experience/A. Hardy. -Oxford: Clarendon Press, 1979. -162 p.
- Hay, D. Reports of Ecstatic, Paranormal, or Religious Experience in Great Britain and the United States: A Comparison of Trends/D. Hay, A. Morisy//Journal for the Scientific Study of Religion. -1978. -Vol. 17/3. -P. 255-268. -DOI: DOI: 10.2307/1386320
- Holm, N. G. Mysticism and Intense Experiences/N. G. Holm//Journal for the Scientific Study of Religion. -1982. -Vol. 21/3. -P. 268-276. -DOI: DOI: 10.2307/1385891
- Hood, R. W. Differential Triggering of Mystical Experience as a Function of Self Actualization/R. W. Hood//Review of Religious Research. -1977. -Vol. 18/3. -P. 264-270. -DOI: DOI: 10.2307/3510214
- Hood, R. W. Normative and Motivational Determinants of Reported Religious Experience in Two Baptist Samples/R. W. Hood//Review of Religious Research. -1972. -Vol. 13/3. -P. 192-196. -DOI: DOI: 10.2307/3510782
- Hood, R. W. Quasi-Experimental Elicitation of the Differential Report of Religious Experience among Intrinsic and Indiscriminately Pro-Religious Types/R. W. Hood, R. J. Morris, P. J. Watson//Journal for the Scientific Study of Religion. -1990. -Vol. 29/2. -P. 164-172. -DOI: DOI: 10.2307/1387425
- Hood, R. W. Religious Orientation and the Report of Religious Experience/R. W. Hood//Journal for the Scientific Study of Religion. -1970. -Vol. 9. -P. 285-291. -DOI: DOI: 10.2307/1384573
- Hood, R. W. The Construction and Preliminary Validation of a Measure of Reported Mystical Experience/R. W. Hood//Journal for the Scientific Study of Religion. -1975. -Vol. 14/1. -P. 29-41. -DOI: DOI: 10.2307/1384454
- Hood, R. W. The Psychology of Religion: An Empirical Approach/R. W. Hood, P. C. Hill, B. Spilka. -N. Y.: The Guilford Press, 2009. -636 p.
- Kohls, N. Measuring the Unmeasurable by Ticking Boxes and Opening Pandora's Box? Mixed Methods Research as a Useful Tool for Investigating Exceptional and Spiritual Experiences/N. Kohls, A. Hack, H. Walach//Archive for the Psychology of Religion. -2008. -Vol. 30. -P. 155-187. -DOI: DOI: 10.1163/157361208X317123
- Lamiell, J. T. Rethinking the Role of Quantitative Methods in Psychology/J. T. Lamiell//Rethinking Methods in Psychology/ed. by J. A. Smith, R. Harré, L. Van Langenhove. -L.: SAGE Publications, 1995. -P. 143-161.
- Laski, M. Ecstasy: A Study of Some Secular and Religious Experiences/M. Laski. -L.: Cresset press, 1961. -544 p.
- Lenski, G. The Religious Factor: A Sociological Study of Religion's Impact on Politics, Economics, and Family Life/G. Lenski. -Garden City: Doubleday, 1963. -414 p.
- Maslow, A. H. Religions, Values, and Peak-Experiences/A. H. Maslow. -Columbus: Ohio State University Press, 1964. -123 p.
- McNamara, P. The Neuroscience of Religious Experience/P. McNamara. -N. Y.: Cambridge University Press, 2009. -301 p.
- Mystical Experience Among Tibetan Buddhists: The Common Core Thesis Revisited/Z. Chen //Journal for the Scientific Study of Religion. -2011. -Vol. 50/2. -P. 328-338. -DOI: DOI: 10.1111/j.1468-5906.2011.01570.x
- Mystical Experience in the Lab/M. Andersen //Method and Theory in the Study of Religion. -2014. -Vol. 26. -P. 217-245. -DOI: DOI: 10.1163/15700682-12341323
- Pahnke, W. N. Implications of LSD and Experimental Mysticism/W. N. Pahnke, W. A. Richards//Journal of Religion and Health. -1966. -Vol. 5. -Р. 175-208. -DOI: DOI: 10.1007/BF01532646
- Rosegrant, J. The Impact of Set and Setting on Religious Experience in Nature/J. Rosegrant//Journal for the Scientific Study of Religion. -1976. -Vol. 15/4. -P. 301-310. -DOI: DOI: 10.2307/1385633
- Spilka, B. The Structure of Religious Mystical Experience in Relation to Pre-and Postexperience Lifestyles/B. Spilka, G. A. Brown, S. A. Cassidy//The International Journal for the Psychology of Religion. -1992. -Vol. 2/4. -P. 241-257. -DOI: DOI: 10.1207/s15327582ijpr0204_4
- Stace, W. T. Mysticism and Philosophy/W. T. Stace. -L.: Macmillan, 1960. -349 p.
- The Content of Religious Experience: The Roles of Expectancy and Desirability/B. Spilka //The International Journal for the Psychology of Religion. -1996. -Vol. 6/2. -P. 95-105. -DOI: DOI: 10.1207/s15327582ijpr0602_3
- Wuthnow, R. Peak Experience: Some Empirical Tests/R. Wuthnow//Journal of Humanistic Psychology. -1978. -Vol. 18/3. -P. 59-75. -DOI: DOI: 10.1177/002216787801800307