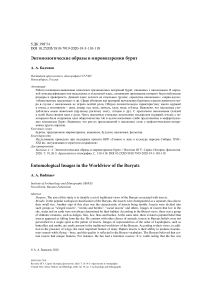Энтомологические образы в мировоззрении бурят
Автор: Бадмаев Андрей Андреевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Евразии
Статья в выпуске: 3 т.19, 2020 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена выявлению комплекса традиционных воззрений бурят, связанных с насекомыми. В народной зооклассификации они выделялись в отдельный класс, основными признаками которого были небольшие размеры и проворность. Данный класс делился на отдельные группы: «крылатые насекомые»; «черви-жуки»; «общественные насекомые» и др. Сфера обитания как критерий вычленения бурятами классов животного мира в случае с насекомыми не играла особой роли. Общую положительную характеристику имели муравей и пчела, а негативную - овод, комар, оса, моль, мотыль, клоп, вошь и блоха. Выяснено, что насекомые уподоблялись иным животным (крупному рогатому скоту, птицам и др.). С крылатыми насекомыми (пчелой и осой) была связана идея о душе. Часть насекомых считалась носителями плодородия (муравей, пчела); с некоторыми была сопряжена идея оборотничества. Но в целом насекомые слабо представлены в мифоритуальных комплексах бурят. Выявлено, что ряд их представлений о насекомых схож с мифологическими воззрениями других народов.
Буряты, традиционное мировоззрение, шаманизм, буддизм, насекомые, фольклор
Короткий адрес: https://sciup.org/147220405
IDR: 147220405 | УДК: 398’54 | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-3-110-118
Текст научной статьи Энтомологические образы в мировоззрении бурят
В мифологическом сознании разных народов образы насекомых распространялись на представления о космосе, природных явлениях, демонологии, болезнях; они проникали в обрядность, язык и т. д. Например, у славян пчелы ассоциировались со звездами, бабочки и божьи коровки – с небом; по их представлениям, кусающие насекомые и домашние паразиты имели демоническую природу, служили источниками болезней [Гура, 1997]. Изучение образов насекомых позволяет расширить знания о традиционном мировоззрении, являющемся одной из основных этнических характеристик любого народа.
В мифолого-религиозных представлениях бурят важное место занимали образы животных. Среди зооморфных персонажей выделялись насекомые – беспозвоночные членистоногие животные, являющиеся самым многочисленным зоологическим классом. Актуальность изучения воззрений о насекомых диктуется включением их образов в ряд сфер традиционной культуры. Поскольку энтомологические образы в этнографии бурят еще не становились объектом специальных изысканий, целью данного исследования является выявление комплекса традиционных воззрений бурят, связанных с насекомыми.
Источниками для работы послужили литературные данные (этнографические и лингвистические труды, фольклорные произведения) и полевые материалы автора. Отдельно следует выделить этнографические труды М. Н. Хангалова, опирающиеся на полевые сборы конца XIX в. и посвященные верованиям и обрядности у разных территориальных групп предбай-кальских бурят [1958]. Основным лингвистическим источником стал бурятско-русский словарь «Буряад-ород толи» [2010], в котором приводятся диалектные названия насекомых, а также различные пословицы и фразеологизмы, посвященные им. Интересными представляются сведения о бурятских антропонимах, собранные А. Г. Митрошкиной [1987]. В работе использованы также бурятские фольклорные произведения разных жанров (эпика, сказки, пословицы, загадки, поверья и т. п.), собранные и опубликованные авторами конца XIX – XX в.: Ш. Л. Базаровым [1902], Е. В. Баранниковой, С. С. Бардахановой, В. Ш. Гунгаровым [Бурятские волшебные сказки, 1993], Н. С. Болдоновым [1949], Ц. Ж. Жамцарано [2001], Г. Н. Потаниным [1883], М. Н. Хангаловым [1958; 1959; 1960], М. П. Хомоновым [Айдурай мэргэн, 1979] и др. Определенный интерес представляют полевые материалы автора, собранные в 2018 г. в Селенгинском районе Республики Бурятия.
В исследовании используется структурно-семиотический метод, согласно которому устанавливаются символы, сопряженные с насекомыми. Теоретическую базу работы составляют труды таких отечественных исследователей, как А. В. Гура [1997] и И. Ю. Винокурова [2007].
Общая характеристика
Насекомые ( хорхой шабхай ) выделялись в отдельный класс прежде всего из-за своих небольших размеров. В народной зооклассификации бурят они обозначаются еще одним термином – шумуул , являющимся однокоренным слову шумууhан ‘быстрый, проворный’ [Буря-ад-ород толи…, 2010. С. 622]. Это указывает на один из важных признаков представителей данного класса – проворность.
Насекомые подразделялись на группы: далита шумуулнууд (‘крылатые насекомые’); хор-хой сохонууд (‘черви-жуки’); олоороо байрлалаг шумуулнууд (‘общественные насекомые’). Понятна достаточная условность такого деления, учитывая, что некоторые насекомые в течение жизни могут быть отнесены к разным группам и даже классам народной зооклассификации. Например, личинка мясной мухи воспринималась как змееобразное, а взрослая особь – как крылатое насекомое. При этом буряты нередко были знакомы с жизненным циклом таких животных, на что указывает следующая пословица: Ниидэхэ юумэнhээ мулхихэ юумэн турэбэ «Родилась ползоногая от летающей» (гусеница от бабочки) [Болдонов, 1949. С. 124, 125].
Бурятская терминология учитывает и различия в способе питания насекомых: шуhа hоро-дог , хадхадаг шумуулнууд (‘сосущие, жалящие насекомые’); мэрэдэг шумуулнууд (‘грызущие насекомые’).
Согласно народным воззрениям, представителям этого класса присущи разные виды рождения: ухэн тёрёл ( оохэн тyрэл ) (‘рождение из жира’ – личинки мясных мух); ногон тёрёл или ногоон тyрэл (‘рождение из травы’ – гнус, кобылка и др.); шоро тёрёл или шорой тyрэл (‘рождение из земли’ – муравьи) [Хангалов, 1959. С. 219].
Сфера обитания как критерий вычленения бурятами классов животного мира в случае с насекомыми не играла особой роли. Образы представителей данного класса, которые обитают и в небе, и в воде, и на земле, не всегда определяются приписываемыми традиционным мировоззрением качествами этих природных сред.
В бурятском языке содержатся имена, омонимичные названиям насекомых, в частности Буургана от буургана (‘комар’), Зyгэй от зyгы (‘пчела’) [Митрошкина, 1987. С. 83]. К их числу можно отнести также имя героя сказки «Бохон-хобун» или «Бооhэн-хyбyyн» (‘вошь-парень’). Очевидно, такие имена имели охранительный характер, защищая от посягательств нечистой силы.
В контексте рассматриваемой темы следует различать позиции буддизма (в XIX в. укоренившегося в массе бурят Забайкалья, части бурят других субрегионов Юго-Восточной Сибири) и шаманизма. Первый, признавая возможность перерождения души в разных формах жизни, особо призывал своих адептов бережно относиться к насекомым: «Не лишай жизни разные существа, даже такие мелкие, как вша в гнезде. Иначе сократятся твои добродетели и долголетие даже в настоящей жизни» [Галшиев, 2012. С. 107]. Для бурятского шаманизма в меньшей степени была характерна такая экологичность, что накладывало отпечаток на поведение его последователей.
Энтомологические образы в мифологии, фольклоре и языке бурят
Часть насекомых буряты считали связанными с Нижним миром. Полагали, что насекомыми заселены четыре из девяти разновидностей тама (ада); по-другому, было семь адов, включая бооhэнэй тама (‘вшивый ад’), сохын тама (‘жучий ад’), шоргоолжон тама (‘му- равьиный ад’), ад маленьких вшей; жучий ад [Хангалов, 1959. С. 281]. В космогоническом мифе демиург отдает чёрту Шолмо (по Ц. Ж. Жамцарано, именуемому Архан [Жамцарано, 2001. С. 84]) за оказанную помощь в сотворении земной суши - столько земли, сколько поместится под воткнутым колышком. Но из образовавшейся ямы вылезли на белый свет разные гады (черви, жуки, змеи и др.) [Сказания бурят..., 1890. С. 70-71]; по Ц. Ж. Жамцарано это были гнус, мухи и др. вредоносные насекомые - «юЬу юЬуной» [2001. С. 84]. Добавим, что аналогичный мифический сюжет зафиксирован у других монгольских народов [Потанин, 1883. С. 223]. Гнус, мухи, вши, блохи и жуки относились к хтоническим существам.
В фольклоре бурят указывается и на иное происхождение гнуса (комаров, мошек, слепней) и т. д. В героическом эпосе «Гэсэр» создателями перечисленных выше двукрылых насекомых названы дьявол Гал Нурман и его помощники - «девятьсот желто-сине-черных демонов (чертей)» [Гэсэр, 1986. С. 74]. Последние возникли из шеи поверженного главы восточных небожителей Атай Улаана, чье тело было низвергнуто на землю (в этом сюжете, кстати, можно видеть идею происхождения земной нечисти от падения с небес, отмечаемую, например, у вепсов [Винокурова, 2007. С. 32]. Отличительными чертами поведения таких демонов являются ползание и жужжание - качества, присущие ими созданным существам:
Как черви, ползают,
Как мухи, жужжат,
Свободой пользуясь,
Людям вредят
[Гэсэр, 1986. С. 76].
Образы представителей отряда чешуекрылых (бабочки, мотылька, моли) почти не запечатлены в традиционном мировоззрении бурят. Хуйр , хибэ ( н ) (‘моль’) определенно являлась мифологическим персонажем с отрицательным значением. Этот домашний вредитель, по поверью предбайкальских бурят, был женой татарина; супруги из-за своей скупости были обращены в клопа и моль [Хангалов, 1960. С. 378-379]. Мотыль, судя по его бурятским названиям - ноён эрбээхэй (‘начальник-бабочка’), удаган эрбээхэй (‘шаманка-бабочка’), тоже не воспринимался положительно.
В бурятском языке существуют разные номинации двукрылых насекомых. Это батагана-ан , аляаhан (‘муха’), хара аляаhан (‘комнатная муха’), боргооhон , буургана , бyргyyhан (‘комар’), бошхо , мухар бошхо , жэжэ боргооhон , илааhан (‘мошка’), хууханша илааhан (‘мелкая мошка’), хэдэгэнээ ( н ), hоно , гуур (‘овод’), хусэр гэнэй (‘личинка овода’).
Помимо наличия крыльев, важнейшим признаком многих из них является способность издавать в полете однообразные звуки (жужжать). Данное их качество нашло отражение в бурятской лексике: дунгинэмэ ‘жужжащий (комар, муха, пчела)’; жиияха (о летящем шмеле), хииганаа ( н ) ‘жужжание мух’. Проиллюстрировать сказанное можно загадкой о пчелке, в которой передаются издаваемые этим насекомым звуки: Бур бур дуутай боро торгон дэ-гэлтэй, хор хор дуутай хара торгон дэгэлтэй «Бур-бур поет и в бурую шелковую шубу одет, хор-хор поет и в черную шелковую шубу одет» [Материалы для изучения..., 1911. С. 113].
В эпических произведениях герои нередко оборачивались в указанных выше насекомых: муху [Сказания бурят…, 1890. С. 27]; комара [Айдурай мэргэн, 1979. С. 115]; овода [Сказки бурят..., 1997. С. 27]. Овод и комар имеют в фольклорном материале ярко выраженные отрицательные характеристики. Примером тому является сказочный персонаж - огромный овод, узнавший по поручению владыки подземного мира, что человеческая кровь слаще всего на свете [Бурятские народные сказки..., 2000. С. 91-93] (похожий сюжет был записан Г. Н. Потаниным [1883. С. 183] у дербетов Монголии, только там место овода занимала оса). Гиперболизация как литературный прием также используется применительно к образу комара: в эпосе «Гэсэр» напавшие на младенца Гэсэра комары размером «с откормленную лошадь» [1986. С. 97].
Вероятно, буряты уподобляли овода утке, по крайней мере представляется не случайным обозначение их одним словом hоно (‘овод, чирок-свистунок, селезень, утка’ [Буряад-ород толи..., 2010. С. 560]. Добавим, что в бурятской лексике встречаются и другие примеры, когда насекомое и птица имеют общее название: например, шиигануур (‘навозный жук, жук-носорог, пищуха’) [Там же. С. 613].
Буряты особо выделяли комара как кровососущее насекомое, придавая ему образные черты врача-хирурга: Нудакаа мэдэхэгуй аад, хануураша («Хоть и не ведает, где сосуды, но ланцетом пользуется сполна»). Это его качество подчеркивается и в такой загадке:
Эмшэ бэшэ аад хануурша,
Номшо бэшэ аад ямбаша
[ОньЬон угэнууд..., 1956. С. 24].
(Не является лекарем, а кровопускатель,
Не богослов, а почитаемый)
(пер. наш. - А. Б .)
Относительно боокэн (‘вша’) интересна пословица, в которой предвестником появления этого кровососущего паразита назван ворон, по народным воззрениям, наделенный отрицательными качествами; при этом оба животных связываются с наступлением ненастья:
Боохойн урда хирээ,
Бороогой урда калхин
[ОньЬон угэнууд..., 1956. С. 13].
(Ворон появляется перед вошью,
Ветер предшествует дождю)
(пер. наш. - А. Б .)
Целый ряд бурятских загадок передает негативную коннотацию образа вши: Бошхи дээрэ хошки, хошки дээрэ ой, ой соо шоно («На бочке - кочка, на кочке - лес, в лесу - волк») [Материалы для изучения..., 1911. С. 111]; Ой соо гахай («В лесу свинья», т. е. вошь в волосах) [Сборник монголо-бурятской народной поэзии, 1910. С. 122]. Дело в том, что образы волка и свиньи имели у бурят преимущественно отрицательные характеристики.
Наряду с вошью вред людям причиняла булуудха (‘блоха’), которая, как буряты полагали, была создана чертом Маратом (Шолмосом) для терзания человека [Жамцарано, 2001. С. 108]. Ее отождествляли с ракообразной дафнией - существом, связанным с водной средой: она иносказательно обозначалась как уканай булуудха (‘водяная блоха’). Такая ассоциация видится не случайной и базируется, скорее всего, на представлении о ней как образе с отрицательной коннотацией.
О шоргоолзон (‘муравей’) как домашнем покровителе позволяет говорить бытовавшее у предбайкальских бурят представление, согласно которому благополучной является юрта с венцом из дерева, где раньше располагалось муравьиное гнездо. Положительно оценивали и ситуацию, когда под фундаментом жилища селились муравьи [Хангалов, 1960. С. 75].
По мифологическим воззрениям, у муравьев существует иерархия. Считали, что к числу шести мифических царей животного мира принадлежал муравьиный царь Широ-темен-шургалжин-хан (в героическом эпосе «Айдурай мэргэн» он назван «Муравьиный Богдо-хан» [1979. С. 81]). Ниже его, как полагали, был Билтагар-шургальжан, возглавляющий отдельный муравейник [Хангалов, 1960. С. 220].
Муравьев сравнивали с домашним скотом, что находит параллели в других культурах (например, у славян [Гура, 1997. С. 512] и вепсов [Винокурова, 2007. С. 19]). В частности, это выразилось в бурятском названии крупных видов муравьев (красного лесного и черного) - ухэр шоргоолзон (‘корова-муравей’). Такое суждение прослеживается и в фольклорном тексте:
Когда дальше поехала,
Стада и табуны,
Хана Эжи Мунку,
Подобно муравьям в муравейнике,
Кишмя кишели
[Айдурай мэргэн, 1979. С. 88].
Поскольку у бурят рогатый скот и лошади соотносились с плодородием, то и муравей, вероятно, также нес данную символику.
Бурят восхищала физическая сила муравья, что отразилось в следующей загадке: Хара бо-лобошье хара шэршуу бэшэ, эбэртэй болобошье сар бэшэ, азарга хултэй болобошье туруу-гуй («Черен, но не шелк, с рогами, но не бык, с ногами жеребца, но без копыт» [Болдо-нов, 1949. С. 122-123]. То же отношение к насекомому обнаруживается и в благопожелании бурят:
Шураг адли олон боложо,
Шургалжан адли хуштэй болооройт!
(Как бусинки, многочисленными станьте,
Как муравьи, сильными станьте!) [Фольклор..., 1999. С. 123]
С этим насекомым ассоциировалось обладание тонкой талией: Шоргоолзон адли («Как муравей» - перехват в талии). О данном признаке муравья говорится и в такой загадке: Хaдahaa хальтаршагуй, харбаа haa оногдошогуй, дундуураа тahaрхaй баатар («Богатырь - в середине тоненький, с горы не скатывается, стреляешь в него - не попадаешь» [Болдонов, 1949. С. 120-121].
В народной медицине известно острое гнойно-некротическое воспаление шоргоолзон хадьха (букв. «муравьиный чирей, карбункул»). Вероятно, такое название было дано на почве представления о том, что причиной заболевания является муравьиный укус.
Из числа иных общественных насекомых известны зугы (‘пчела’), шаргал зугы (‘желтая пчелка’), зугын сар (‘рабочая пчелка’); газар зугы (‘шмель, земляная пчела’), хубуун зугы (‘трутень’), шара зугы , хорото шара , хэдэгэнээ ( н ) (‘оса’); шара хэдэгэнэ (‘желтый шмель’). Можно предположить, что у бурят образ пчелы соответствовал женскому началу. Подтверждение этому находим в следующей загадке:
Шаралдайские девушки в желто-пестрых платьях,
Харганайские девушки в темно-пестрых платьях
[Там же. С. 122-123].
Хорошей приметой было устройство пчелами гнезда в срубной юрте или в одежде [Хан-галов, 1960. С. 74]. Следует отметить, что пчела входила в ограниченный круг животных (ласточка, муравей), чье обитание в бурятском жилище считалось благоприятным для жизни семьи. О положительной коннотации данного насекомого также свидетельствует его восприятие в образе буддийского монаха: Далан долоон шугуйда Дандар ламайин hуухнaийн haн-жаатай («В семидесяти семи рощах с висящим местом, где восседает Дандар лама» - пчелиное дупло) [Жамцарано, 2001. С. 254-255]. В загадке обыгрывается внешнее сходство желтой тоги ламы с основным цветом волос тела пчелы, а монотонное чтение молитв - с гулом, исходящим из пчелиного дупла.
Подобно муравьям, пчелы также отождествлялись с домашним скотом: «У пестрой коровы - вкусное молоко, но острые рога» [Базаров, 1902. С. 24].
Пчела - одно из насекомых (у М. Н. Хангалова есть упоминание еще о жуке, называемом тархалжин , которого нам не удалось идентифицировать [Хангалов, 1958. С. 326]), образ которого нашел отражение в шаманской обрядности бурят. Ее изображение известно в наскальных рисунках в священных для шаманистов местах, а также на онгонах Ухин-хат и Зурактан [Там же. С. 326]. Пчела рассматривалась как дух-помощник шамана в его мистических путешествиях.
Определенным антиподом пчеле являлась оса, которую сближали с нечистыми существами - в бурятском фольклоре известен образ представителя нечистой силы шара хэдэгэнэ (‘исполинская желтая оса’). Когда в жилище или хозяйственных постройках обнаруживалось осиное гнездо, от него старались поскорее избавиться, унося подальше со двора (ПМА: В. Н. Рыгзынова).
Отдельно коснемся вопроса о мотиве души в образе насекомого в бурятской традиции. М. Н. Хангалов первым обратил внимание на то, что у монгольских народов душа воплощалась в пчеле, в отличие от славян, у которых она представлялась в образе бабочки [Хангалов, 1958. С. 394–395]. Кроме того, у бурят имело место противопоставление насекомого-души, демонологических персонажей и людей. В сказке «Тысхэ Бисхэ – сын старика и старухи» душа кровожадного чудовища мангадхая являет собой рой ос, спрятанный в рогах барана [Бурятские волшебные сказки, 1993. С. 159]. Очевидно, боязнью погубить чью-либо душу был продиктован запрет у бурят убивать пчел и ос.
Заключение
В мифоритуальной практике бурят насекомые, в отличие от других классов животных, были представлены мало. Анализ мифологических представлений этноса позволяет вычленить лишь узкий круг персонажей, которым отдавалось предпочтение. Остальные (гнус, домашние паразиты, муха, жук и др.) по большей части имели хтоническое происхождение. Бабочка, моль, мотыль, пчела, оса, овод и др., согласно трехчастной шаманской картине мира, связывались с Верхним и Средним мирами. Обратим внимание, что в отличие от других классов животных буряты не персонифицировали единого духа-покровителя у насекомых.
Энтомологические образы в ряде случаев наделялись полисемантизмом. Положительной коннотацией обладали муравей и пчела (их позитивные характеристики были связаны с тем, что они считались домашними покровителями и наделялись символикой плодородия), отрицательной – овод, комар, оса, моль, мотыль, клоп, вошь и блоха. Следует также констатировать, что хтоническое происхождение муравья не определяло его конечную коннотацию, а мотив души связывался с противоположными образами пчелы и осы. С насекомыми соотносилась и идея оборотничества. Было характерно уподобление насекомых другим представителям животного мира. Сопоставление выделенной у бурят галереи таких персонажей с известными в этнографической литературе энтомологическими рядами других народов [Гура, 1997. С. 416–526; Винокурова, 2007. С. 30] обнаруживает, что ее основу составляют универсальные и типологические образы. Это объясняется имевшимися в глубоком прошлом межкультурными контактами. Вместе с тем такой вывод не умаляет своеобразия и оригинальности бурятского комплекса представлений о насекомых.
Сказания бурят, записанные разными собирателями // Зап. ВСОИРГО. 1890. Т. 1, вып. 2. 160 с.
Сказки бурят Монголии. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1997. 122 с.
Фольклор Курумчинской долины. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1999. 136 с.
Хангалов М. Н. Собр. соч. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1958. Т. 1. 551 с.; 1959. Т. 2. 444 с.; 1960. Т. 3. 421 с.
Буряад-ород толи. Бурятско-русский словарь: В 2 т. Улан-Удэ: Изд-во «Республиканская типография», 2010. Т. 2: О–Я. 708 с.
Оньhон yгэнууд, таабаринууд. Улан-Удэ: Бурят-монголой номой хэблэл, 1956. 40 с. (на бурят. яз.)
Полевые материалы автора
Рыгзынова В. Н., 1947 г. р., г. Гусиноозерск (Республика Бурятия). Дата записи – август 2018 г.
Zhamtsarano Ts. Zh. Putevye dnevniki 1903–1907 gg. [Travel Diaries 1903–1907]. Ulan-Ude, BSTS SB RAS Publ., 2001, 382 p. (in Russ.)
Author’s Field Materials
Rygzynova V. N., born in 1947, Gusinoozersk (Republic of Buryatia). Recorded Date – August 2018.
Материал поступил в редколлегию Received 12.01.2020
Список литературы Энтомологические образы в мировоззрении бурят
- Айдурай мэргэн. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1979. 127 с.
- Базаров Ш. Л. Двести загадок агинских бурят // Тр. КОПОИРГО. 1902. Т. 5, вып. 1. С. 22-34.
- Болдонов Н. С. Загадки бурят-монголов: Из старинного сборника Харбасарова // Сборник трудов по филологии. Улан-Удэ: Бурмонгиз, 1949. С. 120-125.
- Бурятские волшебные сказки // Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: Наука, 1993. Т. 5. 341 с.
- Бурятские народные сказки: О животных. Бытовые // Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: Наука, 2000. Т. 20. 304 с.