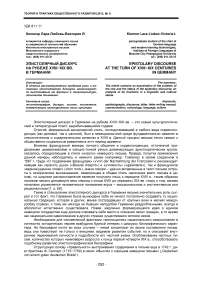Эпистолярный дискурс на рубеже XVIII-XIX вв. в Германии
Автор: Кленнэр лара-любовь-виктория Й.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 1, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема роли и положения эпистолярного дискурса, анализируются выполняемые им функции в лингвокультурологическом понимании.
Эпистолография, дискурс, письмо, письмовник, коммуникация, культурология, язык, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14933757
IDR: 14933757 | УДК: 811.11
Текст научной статьи Эпистолярный дискурс на рубеже XVIII-XIX вв. в Германии
Эпистолярный дискурс в Германии на рубеже XVIII-XIX вв. – это новый культурологический и литературный пласт, вырабатывавшийся годами.
Строгий, формальный канцелярский стиль, господствовавший в любого вида корреспонденции (как деловой, так и частной), был в немецкоязычной среде фундаментально изменен в стилистическом и содержательном аспектах в XVIII в. Данный процесс весьма тесно связан с общественно-социальным развитием в этот период времени.
Влияние французской манеры личного общения и корреспонденции, отточенной придворными церемониалами и изящно-тонкой речью доминирующих аристократических кругов, оказалось определяющим в стиле «нового» немецкого письма. Правда, попытки привнесения данной манеры наблюдались и немного ранее (например, Томасиус в своем созданном в 1687 г. труде «О подражании французам» («Von der Nachahmung der Franzosen») рекомендует немцам как «красоту духа» («Beaute d'esprit») и «учтивость» («galanterie»), так и французское «верное/удачное слово» («bon mot»), иначе говоря – удачно вставленные в текст письма остроты и сатирические высказывания, изменяющие в общем стиль написания всего письма в целом), но широкое распространение явление получило лишь к середине XVIII в., таким образом положив начало длящемуся весь период с конца XVIII до середины XIX вв. спору о том, какими началами управляется человеческое понимание вкуса – эмоциональным и инстинктивным или рациональным [1, s. 69].
Также в становлении эпистолярного дискурса в Германии весьма значительную роль сыграл и тот факт, что Германия была вынуждена себе из ничего постепенно создавать ту национальную традицию, которая в других, менее пострадавших от крупных воин и мелких междоусобиц странах, к тому же никогда не бывших наподобие Германии раздробленными, всегда и абсолютно естественно существовала. Новая, медленно формирующаяся идея о едином немецком государстве еще должна отвоевать себе место в сознании своих граждан, в то время как национальное самосознание в других странах существовало испокон веков.
Необходимое для человеческой фантазии «воплощение» национального самосознания в личностях исторических героев возбудила бурный интерес к дискурсу биографического характера. Но биография почти во всех случаях – некий концентрат из жизни составителя писем, ведь она повествует не только о внешнем, видимом развитии событий, но и описывает внутренние переживания личности и подробности его частной жизни. Опубликование частных писем, количество которых неимоверно возросло к концу первой четверти XIX в., способствовало подобному развитию эпистолографической биографики.
Структурную основу «правильного» выстраивания содержания в письме еще в 1742 г. дает Кристиан Ф. Геллерт (1715-1769) в своих «Мыслях о хорошем немецком письме» („Gedanken von einem guten deutschen Briefe“).
Итак, письмо конца XVIII - начала XIX в. – это публичное достояние, достояние общественности. Этот статус, занимаемый эпистолярным дискурсом на рубеже веков, ставит остро вопрос об аутентичности предоставляемого широкому кругу читателей материала. «Аутентичность-фикция» (Authentizität als Fiktion) – так формулирует одной фразой проблематику немецкая ученая-лингвист Анетт Антон. Иначе говоря, эпистолярный дискурс на рубеже веков переживает настоящий кризис аутентичности. Так, Марлис Герхардт пытается даже объяснить и оправдать умышленное редактирование Карлом Августом Варнхаген ван Энзе писем его жены Рахэль Варнхаген: «Варнхаген наслаждается известностью своей жены.., он собирает ее эпистолярное наследие еще при ее жизни, он переписывает ее письма на чистовик и не боится редактировать или вычеркивать те пассажи, которые не соответствуют его картине мира» [2, s. 28].
Не иначе поступает г-жа Каролина фон Вольцоген, свояченица великого Фридриха Шиллера, вычеркивая и исправляя письма поэта, однако не на переписанном чистовике, а в оригинале. Единственным различием является лишь то, что для нее играет роль не собственная картина мира, а та «картина характера» („Charakterbild“), которую она хотела создать для Ф. Шиллера. Таким образом г-жа ф. Вольцоген смогла создать культовую личность, которой буквально поклонялся весь литературный мир Германии вплоть до начала ХХ в., причем значимость Шиллера, по мнению общественности того времени, многократно превышала даже значимость Й.В. фон Гёте.
Эпистолярный дискурс, по мнению А. Антон, – это «средство PR-технологии» конца XVIII -начала XIX в. Является ли подобная характеристика статуса эпистолярного дискурса исчерпывающей для данного временного отрезка?
Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к «отредактированным» оригиналам, воссоздать всю картину переписки. После этого открывается второй пласт и вторая функция эпистолярного дискурса, которая могла существовать именно и только в данную эпоху: эписто-лография как заменитель реальности, письмо вместо не осуществимого настоящего или будущего, «ein Ersatz für ein nicht-lebbares Leben» [3, s. 120].
И правда, если рассмотреть переписку Ф. Шиллера с сестрами Ленгефельд (младшая, Шарлотта, впоследствии становится его женой, старшая, Каролина – его биографом) и кроме того переписку Й.Г. Гердера с его женой Каролиной Флаксланд, которая также является ярким примером проблематики «аутентичность-фикция», мы видим два аспекта «замены»: в случае Шиллера это невозможность/неосуществимость «описываемой» жизни в будущем, в случае Гердера – в настоящем.
Эпистолярный дискурс как «иная, невозможная, неосуществимая жизнь» - вот одно из основных его предназначений на рубеже ХVIII-XIX вв. И данная функция замены, по мнению исследователей эпистолярного наследия Ф. Шиллера, именно этим великим немецким поэтом признается и позиционируется как самая главная [4, s. 287].
Выкристаллизовываются две ведущие идеи о письме, господствующие в рассматриваемый период времени:
-
1) письмо как поле взаимодействия литературы и реальности,
-
2) письмо как воплощение синтеза идеального и настоящего. Вследствие этого в начале XIX в. входит в норму написание так называемых «писем-двойников», которые также подразделяются на 2 категории: те, в которых адресат, обозначенный на бумаге, не совпадает с реальным адресатом (письмо родителям, содержание которого в большей степени предназначено дочери/сыну); и те, которые относятся к «сугубо частным» (содержание которых, несмотря на принятое публичное прочтение писем, предназначено исключительно и только для глаз адресата). Именно эти «сугубо частные» письма вступают как фикция на место реальности. Они вовсе не являются некими планами на будущее или эскизами жизненного пути, они скорее становятся ритуальными действами. Суррогат проживаемой жизни – письмо – считается «более ценным чем все остальное» („mehr werth als alles übrige“, письмо Ф. Шиллера К. Вольцоген от 1 сентября 1789 г.).
Но где грань между «обычным», как правило представляемым всеобщему обозрению письмом и тем, что играет роль фикции реальной жизни? К несчастью, в данном вопросе г-н Геллерт, предопределяя четкую структуру письма, сослужил плохую службу. Современный читатель, ориентируясь на форму письма Геллерта, воспринимает не только структуру, но и содержание письма как выдержанное и связное внутри себя, не видя «купюр», сделанных после написания/получения письма посторонними лицами, не замечая «литературность» или «фикциональность» самого содержания при сохранении формы, и принимая за аутентичность поэтическую мысль.
Ни один другой вид дискурса кроме эпистолярного не предоставляет составителю в начале ХIХ в. настолько многочисленные возможности для игры слов, лжи и лицемерия, иначе говоря – для поэтизации, литературизации и фикционализации. Поэтому эпистолярный дис- курс, даже читаемый как документ, никогда не может претендовать на полную аутентичность. Именно она является исключительно функцией текста, и становится, таким образом, средством и маской той самой фикции.
Ссылки:
Список литературы Эпистолярный дискурс на рубеже XVIII-XIX вв. в Германии
- Nikisch R.M.G. Die Stilprinzipien in den deutschen Briefstellern des 17. und 18. Jahrhunderts/R.M.G. Nikisch. Gottingen, 1969.
- Gerhardt, M. Jeder Wunsch wird Frivolitat genannt/M. Gerhardt. DTV Deutscher Taschenbuch, 1993.
- Anton A. Authentizitat als Fiktion/A. Anton. Stuttgart, Weimar, Metzler-Verlag, 1995.
- Wiese Benno von Friedrich Schiller/B. v. Wiese. Stuttgart, 1988