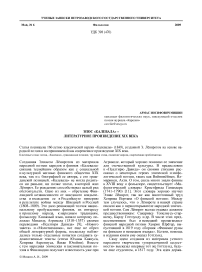Эпос «Калевала» - литературное произведение XIX века
Автор: Мишин Армас Иосифович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 6 (100), 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена 160-летию классической версии «Калевалы» (1849), созданной Э. Лённротом на основе народной поэзии и воспринимаемой как современное произведение XIX века.
Поэма, "калевала", единение народа, современная проблематика, гражданская позиция, трудовая этика
Короткий адрес: https://sciup.org/14749581
IDR: 14749581 | УДК: 398
Текст научной статьи Эпос «Калевала» - литературное произведение XIX века
Созданная Элиасом Лённротом из материала народной поэзии карелов и финнов «Калевала» связана теснейшим образом как с социальной и культурной жизнью финского общества ХIХ века, так и с биографией ее автора, с его гражданской позицией. «Калевала» не могла родиться ни раньше, ни позже эпохи, в которой жил Лённрот. Ее рождению способствовал целый ряд обстоятельств. Одно из них – обретение Финляндией независимости от шведского владычества и вхождение ее в Российскую империю в результате войны между Швецией и Россией (1808–1809). Это дало решающий толчок национальному пробуждению финнов, их интересу к прошлому народа, к народным традициям, фольклору. Книжный язык, начало которому положил Микаэль Агрикола (1510–1557) своими переводами «Псалтиря Давида» [9], «Нового завета» и «Молитвенника», все еще не обрел общей литературной формы, поскольку наблюдались только отдельные попытки создавать художественные тексты (стихи Юханы Каянуса, Хенрика Акрениуса, Яакко Ютейни). Вместе с тем народная эпическая и заклинательная поэзия в Финляндии получает известность уже при
Агриколе, который хорошо понимал ее значение для отечественной культуры. В предисловии к «Псалтирю Давида» он своими стихами рассказал о некоторых героях эпической и мифологической поэзии, таких как Вяйнямёйнен, Ил-маринен, Ахти. О том, сколь много знали финны к XVIII веку о фольклоре, свидетельствует «Мифологический словарь» Кристфрида Ганандера (1741–1790) [11]. Этот словарь хорошо изучил Элиас Лённрот, так же как многотомный труд Хенрика Портана «О финской поэзии». Между тем случалось, что о Лённроте в нашей стране писали как о первооткрывателе народной эпической поэзии. Сам Лённрот всегда отдавал должное предшественникам: Сакариасу Топелиусу-стар-шему, Карлу Готтлунду и др. В числе этих предшественников был и немецкий пропагандист финской народной поэзии Хенрик Шрётер, выпустивший в 1819 году сборник «Финские руны на финском и немецком языках». Кстати, помощь в издании книги ему оказал Готтлунд.
Саму идею создания из материала устного народного творчества «упорядоченной целостности» высказал впервые тот же Готтлунд, будучи еще студентом, в 1817 году. Эта идея держа-
лась на предположении, что давным-давно такое единое народное произведение существовало, но оно рассыпалось. Следовало всего лишь собрать его осколки и соединить их. Через семь лет мечту о некоем Аристаркусе, который мог бы создать из разрозненного материала «кое-что» (несомненно, подобное гомеровским поэмам), высказал Карле Кеккман. Время шло, но таких Аристаркусов не появлялось, хотя и песен уже было собрано немало и даже вышли фольклорные сборники К. Готтлунда (1818, 1821) и С. То-пелиуса (1822–1831) [14].
Интересно, что Элиас Лённрот, работавший над «Калевалой», часто мучился сомнениями, справится ли он с этим делом, имеет ли право на него. Размышлял он и над тем, кто бы мог быть на его месте. К гипотетическим авторам он относил автора «Мифологического словаря» К. Ганандера, священника по профессии, лингвиста и фольклориста, этнографа и талантливого поэта. В своих собственных стихах Ганан-дер пользовался метрикой народного стиха. Имея под рукой немалый материал народных песен, он даже интересовался теорией немецкого ученого Фридриха Вольфа о природе гомеровских поэм. Почему же Ганандер не взялся за эту работу? Лённрот пришел к выводу, что во второй половине XVIII века материала все-таки еще было недостаточно для большого эпического произведения. Имелась, я думаю, и еще одна причина, даже более важная: национальное пробуждение финнов было еще впереди. Именно на его волне могло родиться такое произведение, как «Калевала». Называет Лённрот имя и второго потенциального творца эпоса – Сакариаса Топе-лиуса-старшего. И сам же напоминает: «Ранняя смерть унесла Топелиуса. Возможно, со временем он и отдался бы этой работе».
Элиас Лённрот родился и жил в нужное время, но главное, у него был поэтический талант. И вся его предыдущая, «докалеваловская» жизнь, начиная с самого детства, увязывается с главным делом – созданием «Калевалы».
Деревня Самматти, родина Элиаса Лённрота, располагается на юго-западе Финляндии на берегу озера Валкъярви. Крестьянская изба, где он родился, стоит на самой круче над озером. Поэтому вид с берега открывается необыкновенно живописный: кроме озера Валкъярви видны и другие озера: Хаариярви, Роукоярви, Лайтаяр-ви, Хейлампи и Кирмунен. Аарне Анттила, биограф Лённрота, все это описал в своей двухтомной книге «Элиас Лённрот. Жизнь и деятельность» (1931). Процитирую несколько строк из этой книги, значимых для нас: «В двухстах метрах от берега возвышается холмистый и лесистый остров, который с давних времен считается пограничным, бесспорным для трех деревень» [10]. Когда смотришь с высокой кручи на синюю даль озера Валкъярви, на этот холмистый остров, невольно вспоминаешь строки из лённро-товской «Калевалы»:
Вот поднялся Вяйнямёйнен, Стал на твердь двумя ногами Там на острове средь моря, Там на суше без деревьев1.
Нетрудно представить мальчика Элиаса, страстного любителя чтения, сидящего на высоком дереве, где он по утрам читал книги, чтобы не надоедать матери по части завтрака и отвлечь себя от чувства голода, и улетавшего воображением в далекое прошлое, когда человек еще только осваивал моря и земли. На берегах Валкъярви произрастает самая разнообразная древесная и кутарниковая растительность, например дубы. Вспомним «Калевалу». Вяйня-мёйнен, поднявшись на безлесый остров, размышляет, кто ему засеет землю. Он поручает эту работу Сампсе Пеллервойнену:
Сампса сеет, засевает
Все поляны, все болота,
Засевает все лощины, Каменистые долины.
На горах сосняк посеял,
На холмах посеял ельник,
Вересняк на суходоле,
Поросль юную в ложбинах.
Для берез отвел долины,
Для ольхи сухие почвы,
Для черемухи низины,
Для ракит сырые земли,
Для рябин места святые,
Почву рыхлую для ивы,
Твердую для можжевела,
Для дубравы берег речки.
Все названные здесь деревья и кустарники есть в Самматти. Элиас Лённрот, создавая «Калевалу» из разнородного фольклорного материала, несомненно, возвращался в свое детство, в родные края, столь похожие на то, что он находил в народных строчках. Память и поэтическая интуиция надиктовывали ему эту информацию, и эпизоды, в которых косвенно представали картины природы, значительно расширялись по сравнению с тем, что имелось в стихах народных.
Впечатления и переживания детства, мечты о полетах отразились в эпизоде, в котором Лён-нрот показывает, как простоватый и легковерный кузнец Илмаринен взбирается на сосну, «чтоб достать с макушки месяц, взять Медведицу с вершины», а Вяйнямёйнен заклятиями отправляет его по воздушному пути вместе с вихрем в Похьелу. Другой эпизод касается Ловхи, у которой украли сампо. Она, превратившись в орла, преследует похитителей. Этот полет имеет почти биографическую основу. Дядя Лённро-та по отцу, Кустаа Хейкки, был изобретательным и увлекающимся человеком. Он сделал себе крылья из веток можжевела и березы, поднялся на крышу сарая и, расправив «крылья», попробовал полететь. Разумеется, полет продлился недолго. Он рухнул на землю. Разве данный эпизод не напоминает о том, как Ловхи «делает борта крылами, руль – своим хвостом огромным… Крылья птицей распластала, ввысь большим орлом взлетела»? Детские мечты нашли воплощение и в полетах пчелки по заданию матери Лем-минкяйнена за медом в «погреба Бога» для возвращения к жизни сына.
Лённрот, совершивший в поисках народных песен одиннадцать путешествий по Финляндии и Северо-Западу России (нынешним территориям Карелии, Мурманской, Архангельской и Ленинградской областей), тосковал по родине, по Самматти. Для Лённрота «каждый камень родного края – это неиссякаемый золотой прииск, и, наоборот, знаменитые золотые прииски Перу рядом с ними кажутся голыми скалами» (см. об этом: [7]). Когда Ловхи предлагает Вяйнямёйнену вольготную жизнь в Похьеле, он отвечает:
Впрок нейдет еда чужая
Даже в доме хлебосольном.
Муж в краю родимом лучше,
Выше он в родимом доме.
Если б дал мне милосердный,
Коль дозволил бы создатель
Поскорей домой вернуться,
В край родимый возвратиться!
Лучше на земле родимой
Из-под лаптя пить водицу,
Чем в земле чужой, немилой
Мед из чаши золоченой!
Почти все строчки этого эпизода – пословицы, они сочинены Лённротом с использованием элементов народных пословиц. Но как же они уместны в этом «патриотическом» фрагменте! Чувства, выраженные в этом эпизоде, совпадают с чувствами Лённрота, написавшего в Керети в 1837 году стихотворение в свободной форме:
Когда я вижу встающее солнце,
Я думаю всегда:
О, если бы я видел его сияние
В своем доме.
Когда я вижу
Семизвездье или другие звезды,
Их я тоже с большей радостью лицезрел бы
У себя дома.
В истории взаимоотношений мифической Калевалы и столь же мифической Похьелы, во многом придуманных Лённротом, также выражено понимание своей и чужой земли, и в этом смысле Калевала – это родина самого Лённрота, более теплая, более солнечная. В миниатюре она представлена в реальной родине создателя «Калевалы» – Самматти, где есть и горы, и озера (а их в округе 29), и «безымянный остров», и даже гора по имени Сампо (Самповаара). Кстати, склон этой горы служит природным ам- фитеатром в дни празднований юбилея «Калевалы». Здесь умещается до 500 и более зрителей.
Лённрот с малых лет наблюдал жизнь и труды крестьянина. Сам ловил рыбу, ставил силки на птиц. Он и железо ковать умел, и лыжи мастерить. Ему был знаком труд плотника и столяра. Отцу Лённрот помогал в портняжном деле. В молодости он сделал несколько кантеле. Играл на них, а когда ходил с отцом по деревням в качестве портного, играл и на флейте. Поэтому, создавая эпизоды о том, как Вяйнямёйнен делает кантеле и играет на нем, как, шагая по борови-нам, трубит в рожок Куллерво, Лённрот излагал и свои впечатления из детских и юношеских лет.
Можно говорить и о том, что какие-то черты близких Лённроту людей есть в калевальских персонажах. Отец Элиаса Фредрик Юхана, портной, зубоскал, рифмоплет и большой любитель выпить, нередко сам становился зачинщиком драк и ссор. В старости он любил похвастать тем, что один загонял в угол девять мужчин. Разве он не напоминает нам забияку и неунывающего весельчака Лемминкяйнена? В женских образах «Калевалы» (Айно и мать Лемминкяйнена) есть черты матери Лённрота – Улрики Валберг, симпатичной, статной, работящей, любящей своих семерых детей женщины.
В роду Лённрота были свои поэты. Юмористические стихи сочинял дед Матти Мустапяя. Дар сочинителя перешел от него к отцу Лённро-та. Чувство юмора, кажется, вообще было родовой чертой. Не будь у Лённрота чувства юмора, вряд ли ему далось бы передать с таким мастерством комическую ситуацию, возникшую в связи с желанием Лемминкяйнена попеть во время возвращения героев из Похьелы с похищенным сампо:
Напевать, несчастный, начал,
Куковать, нескладный, взялся Голосом своим скрипучим, Глоткою своей шершавой.
Пел беспечный Лемминкяйнен,
Надрывался Кавкомьели,
Рот дрожал, тряслась бородка, Содрогался подбородок.
Пенье слышалось далёко,
Разносился крик над морем,
До шести летел селений,
За семью звучал морями.
От пения Лемминкяйнена вздрагивает журавль. Он своим криком «поднял на ноги всю Похью». Такого развернутого в юмористическом духе события в народной поэзии нет. У Архиппы Перттунена эпизод с журавлем вообще не связан с пением Лемминкяйнена. Просто муравей «брызнул» на ногу журавлю, отчего тот вскрикнул и разбудил Похьелу. Над героями Калевалы Лённрот иронизирует неоднократно. В другой раз Лемминкяйнен оконфузился, когда Вяйня- мёйнен просит его провести мечом под лодкой, чтобы умертвить щуку, на хребте которой застряла их лодка. Лемминкяйнен выполнил задание:
По воде клинком ударил,
Под челном провел железом,
С шумом на воду свалился,
С плеском плюхнулся на волны.
Тут кователь Илмаринен
Мужу в волосы вцепился, Вытащил его из моря…
Иронизирует Лённрот и над самим Вяйня-мёйненом. Вспомните стенания мужа у чужого берега: «Он и плачет, и стенает, бороденка потрепалась, волосы свалялись в космы».
Страсть Элиаса Лённрота к путешествиям также усилила описания походов «калевальцев» в Похьелу, в утробу Випунена, удлиняла отдельные эпизоды и т. д. В одной из дневниковых записей он и себя уподобляет Вяйнямёйнену, идущему к Випунену «по концам иголок женских».
Все, чем занимался Элиас Лённрот в юношеские годы, также оказало влияние на его будущую деятельность. В университете города Турку, куда он поступил 1822 году, Лённрот изучал филологию, увлекался языками: латинским, древнееврейским, греческим, русским, что давало ему широкие возможности в знакомстве с произведениями мировой литературы и фольклора, с мировыми эпосами. Русский язык он освоил «вполне удовлетворительно». Читал стихотворные и прозаические тексты. Перевел на шведский язык стихотворение Николая Карамзина «Гавань». Перевод, выполненный и опубликованный в 1824 году, обнаруживал в нем истинного поэта. Рифмы, метрика, звукопись – все в переводе свидетельствует о профессиональном уровне Лённрота. Столь же профессиональными были его переводы с финского языка на шведский народных песен, которые он собирал.
Еще более расширились познания Лённрота, когда он получал второе высшее образование, медицинское. Однако с поэзией и фольклором он не расставался. Учась медицине в Хельсинки, он посещал студенческий кружок «Субботние вечера», где читались и обсуждались знаменитые, ставшие популярными в то время «Песни Оссиана» английского поэта Джеймса Макферсона. Именно в эти годы Лённрот с увлечением читает гомеровские поэмы «Илиада» и «Одиссея».
В летние месяцы, еще учась в Турку, Лён-нрот начал собирать народные песни и даже на основе нескольких вариантов баллады «Гибель Эллины» делает свой вариант этой легенды. Вплотную народной поэзией он занялся под началом преподавателя истории Рейнгольда фон Беккера, который в 1820 году опубликовал сводный эпос о Вяйнямёйнене в форме пересказа и стихотворных фрагментов. 14 февраля 1827 года Элиас Лённрот защитил магистерскую диссертацию «Вяйнямёйнен, божество древних финнов». Для этого он изучил все те сборники народных песен, которые ранее издавались, и все, что вообще писалось о народной поэзии. Лённрот собственноручно скопировал книгу немецкого фольклориста Х. Р. фон Шрётера «Финские руны» (1819). Словом, Лённрот мог продолжить в дальнейшем чисто научную деятельность. Никто лучше него не разбирался в народной поэзии, как свидетельствовали современники. Кроме того, его всегда увлекала история, и не только Финляндии, России, но и всего человечества. Лённрот, будущий автор словаря «Флора Финляндии», с юности увлечен цветами и травами, а в старости заведет на своей родине ботанический сад. Лённрота рано начали интересовать языковые проблемы. Он – будущий автор большого «Финско-шведского словаря», который можно поставить рядом с четырехтомным «Словарем живого великорусского языка» В. Даля. Но, не оставляя ни одного своего увлечения, Лённрот отдастся делу, которое обессмертит его имя во всем мире. И все то, чем увлекался Лённрот в юности, отразится, как в фокусе, в великой «Калевале».
Неиссякающая в течение нескольких лет юношеская страсть к путешествиям принесла ему в 1828 году первый материал, который он использует по-своему. В апреле этого года Лён-нрот пройдет по Южной Финляндии и Прила-дожью. Это счастье для науки, что он вел дневниковые записи и писал друзьям о своем путешествии. Он дал точное название этим записям и письмам: «Путник, или Воспоминания о пешем путешествии по Хяме, Саво и Карелии». Книгой они вышли в 1902 году. Лённротовский дневник еще раз убеждает в том, что за ним стоит талантливый писатель и поэт, тонкий наблюдатель, человек с добрым чувством юмора. Знаменательно, что уже на первых страницах дневника предстает имя Гомера, к тому же в неожиданном ракурсе: «Я… не доверяю никаким снам и оставляю на совести старика Гомера его суждения о них. Гомер, говаривавший, что и “сны от Бога”, несомненно, ошибался. Нет никакого божественного провидения в том, что престарелая тетушка из-за своих беспокойных снов предрекает беды какому-нибудь путнику или иному христианину» [8]. Такие имена, как Макферсон, Гомер, не оставляют сомнения в том, что Лён-нрот уже в эти годы помышляет о миссии более важной для него, чем просто сбор песен и их издание. Вот еще одно свидетельство в пользу данной мысли. В Мянтухарью Лённрот пишет в дневнике: «Довольно часто, чуть ли не каждый день, стою, окруженный большой толпой слушателей и поклонников. Не могу отрицать, это меня радует и удовлетворяет мое самолюбие. В такие минуты я всегда представляю себя Орфеем, или, если говорить “поотечественней”, новым Вяйнямёйненом» [8]. Напоминаем, что Вяйнямёйнен не только играет на кантеле, но и поет песни, а значит, и сочиняет их.
Рунопевцем, от которого Лённрот в течение двух дней запишет 2000 строк народных песен (более, чем от любого другого певца до этого), был Юхана Кайнулайнен (Финляндия, приход Кесялахти). Вместе с записями песен от некоторых других рунопевцев они составят достаточный материал для первого лённротовского сборника «Кантеле» из пяти тетрадей, четыре из них были напечатаны в 1829–1831 годах. В сборнике уже представлены главные эпические и мифологические персонажи будущей «Калевалы»: Вяй-нямёйнен, Илмаринен, Лемминкяйнен, Ловхи, Тапио, Миеликки и другие. По сравнению с К. Готтлундом и С. Топелиусом, Лённрот обращался с народной поэзией более свободно. Он использовал не только фрагменты и строки своих записей, но и строки из сборников своих предшественников. В дальнейшем, работая над «Калевалой», он будет переносить в нее из своего первого сборника строки и группы строк почти без изменений. Любопытно, что Лённрот в предисловии ко второй тетради «Кантеле» в 1829 году писал, что «песни сотни лет пелись», а потом «рассыпались». Здесь явно проглядывает предположение о том, что у финского народа когда-то была большая поэма, которая со временем распалась на отдельные фрагменты-песни. Тут же он выразил пожелание, чтобы их «кто-то собрал», поскольку «через какое-то время это сделать уже будет поздно. Они, возможно, наилучшим образом рассказали бы, как люди жили и какие обычаи имели в давние времена» [13]. Идея «составления» из фольклорного материала повествования о том, «как люди жили и какие обычаи имели», вдохновляла Лённрота на все новые и новые путешествия. Кое-что он понял и о секретах народного сочинительства. Народные певцы хорошо усвоили строки-клише, которые каждый из певцов мог поставить в то место песенного сюжета, где клише его больше устраивало.
Когда Лённрот расплачивался с рунопевцем за пение, Кайнулайнен пошутил: «Пожалуй, с этого дня я начну ковать руны». На вопрос, может ли он «сочинять настоящие руны», певец ответил стихами, явно своими:
Сотнями слагали песни, Сочиняли их и раньше, В час, когда дитя качали, В пастухах, когда ходили, Складывали вечерами.
С такого рода импровизацией Лённрот столкнется не раз. Многие свои довольно длинные письма друзьям он и сам напишет стихами в народном духе. Это ему, конечно же, пригодится, когда он начнет работать над своей эпической поэмой. Лённрот имел феноменальную память и часто в дороге мог наизусть повторять то, что ему пели, а уж песенные клише он знал не хуже рунопевцев и цитировал их в собственных текстах в любой подходящий момент. Встречи с новыми певцами давали ему не только новые бесценные материалы, но и учили пользоваться всеми приемами песенного сложения. Поэтому вполне понятны его слова о себе в отношении к «Калевале», высказанные позднее, 1849 году, в шведоязычной газете «Литтератюрбладет»: «Сами вышли в рунопевцы, заклинателями стали». И, конечно же, больше всего он получил от таких рунопевцев, как Архиппа Перттунен, Он-трей Малинен, Ваассила Киелевяйнен, Мартиска Карьялайнен, Юрки Кеттунен, Соава Трохки-майнен, Матели Куйвалатар. Последняя более известна своими лирическими песнями, составившими сборник песен «Кантелетар». Впрочем, те строки, которые Лённрот отбирал для своей «Калевалы», были ему спеты и совсем неизвестными и плохо помнившими песни руно-певцами, в том числе и детьми. В дело шло все, что так или иначе двигало сюжет, добавляло красок к деяниям героев, вносило образность в рождающийся текст.
Подлинным поэтическим даром и прекрасным чувством меры обладал Архиппа Пертту-нен. Его песни сюжетно стройны и закончены. Лённрот записал от него 4100 песенных строк. Все же ни одной его конкретной песни даже в обработанном виде в лённротовской «Калевале», вопреки расхожему мнению, не найти. Песня о сампо вошла группами строк в разные места «Калевалы», но эти группы строк встречаются и у других рунопевцев. Строя сюжет отдельных глав «Калевалы», Лённрот брал материал от многих певцов.
Создаваемая Лённротом «Калевала» прошла, по крайней мере, пять стадий, каждая из которых получила свое конкретное воплощение в виде поэм, какие бы при этом названия он им ни давал [2; 150–164]. Сначала родился цикл поэм: «Лемминкяйнен», «Вяйнямёйнен», «Песни свадебных гостей» (1833). Потом появился «Свод песен о Вяйнямёйнене» (получивший в науке название «Перво-Калевала», 1834). Эти три поэмы стали основой так называемой «Старой “Калевалы”» (1835), получившей известность в Европе. «Калевала», выросшая почти вдвое, своего рода хрестоматийная «Калевала», вышла в 1849 году, после четырнадцатилетней паузы, новых путешествий и размышлений Лён-нрота. Последняя, пятая, «Калевала», забытая незаслуженно, сокращенная и доработанная, предназначенная для молодежи, увидела свет в 1862 году. Впрочем, были забыты и все другие «Калевалы» во имя так называемой «Новой “Калевалы”» 1849 года, считающейся окончательной. Она стала всемирно известной и переведена уже на шесть десятков языков. Все пять лённро-товских «Калевал», переведенных на русский язык Эйно Киуру и автором этой статьи, изданы в Карелии [3], [4], [5], [6], [7]. Данные издания интересны и как самостоятельные произведения, созданные Лённротом из материала народной поэзии разных жанров, и как ступени к окон- чательной версии эпической поэмы. Сравнивая их, читатель может многое узнать о тайнах рождения «Калевалы» на письменном столе Лён-нрота, а также об отличии народных эпических песен от авторского произведения ХIХ века.
Читая все «Калевалы» в порядке их создания, убеждаешься в том, как Элиас Лённрот все больше обретает творческую свободу. Позволял ему это делать сам объем материала, который был у него под рукой. Здесь и собственные записи, и записи его современников и учеников, и фольклорные издания прошлых лет. По свидетельству Вяйно Кауконена, главного исследователя лённротовского творчества, к моменту создания «Калевалы» 1835 года песенных строк, из которых Лённрот отбирал нужные ему, было 40 000. В 1849 году их было уже 130 000. Стоит обратить внимание на слова Лённрота о том, что этого материала «хватило бы на семь “Калевал”» и что «все они были бы разными». Эти слова развенчивают когда-то существовавшую теорию о рассыпавшейся со временем народной поэме. Какой из них? Те, кто и сегодня отождествляют «Калевалу» и народную поэзию, должны задуматься над признанием Лённрота. Он осуществил лишь одну возможность претворения народного материала в поэму. Следовательно, никаких народных поэм, равнозначных лённротовским, не существовало. Никаких народных песен, из которых можно было бы, обработав их, «составить» «Калевалу», не было в наличии.
Обретая творческую свободу, Лённрот все теснее увязывает песенный материал, зафиксировавший «историю» прошлого народной жизни, с проблемами века. Особого прорыва в настоящее в поэмах «Лемминкяйнен», «Вяйнямёй-нен», «Песни свадебного народа» не наблюдается. В них он всего лишь переписчик фольклора, правда, уже пользующийся большей свободой в передаче народных сюжетов. А вот некоторые события «Перво-Калевалы» уже протекают на фоне живой или более близкой эпохи. Движение времени, неизбежный переход от старого к новому (от язычества к христианству) изображается в шестнадцатой главе «Перво-Калевалы».
В десятой главе история раба Куллерво получает более развернутое описание, чем в народной поэзии, поскольку акцент ставится на социальном конфликте. Финляндия, вошедшая в Российскую империю, не знала крепостнической системы. Но песни, которые были собраны в Российской Карелии, отразившие отношения помещиков и батраков в России, обращали взгляды Лённрота на финляндскую действительность, на неравенство в отношениях господ и крестьянства.
Лённрот как журналист заострял внимание на этих отечественных проблемах в своих многочисленных статьях. Насколько они важны для Лённрота, говорит количество строк о Куллерво: в «Перво-Калевале» – 122, в девятнадцатой главе «Калевалы» 1835 года – 534, в классической версии 1849 года – 2200. Дело не только в том, что у Лённрота накопилось много песенного материала, собранного в Финляндии, в Российской Карелии и в Ингерманландии (нынешняя Ленинградская область). Главный толчок для написания эпизодов о Куллерво – сама общественная и политическая жизнь Финляндии. В Лённроте просыпался гражданин.
Для создания полноценного образа и более напряженного социального конфликта он извлекает строки из песен, не имеющих никакого отношения к Куллерво. Это прежде всего варианты песен о Туйретуйненне, совершающем кровосмесительную связь с сестрой, и песни о сыне богача Рийко, который неудачно сватается к бедной девушке и кончает жизнь самоубийством. Если в версии «Перво-Калевалы» и «Калевалы» 1835 года отсутствовала тема вражды двух братьев Калерво и Унтамо, то в последней версии она становится ведущей. Записанная фольклористом Рейнхолмом в Лембалово (Ингерманландия) в 1847 году, песня пригодилась Лённро-ту при работе над версией «Калевалы» 1849 года. Вот эти строки, давшие толчок развитию драматических событий, участником которых становится Куллерво и в результате которых гибнет:
Унтамо поставил сети,
Калева собрал всю рыбу.
Калева овес посеял там, за Унтамо подворьем.
Унтамойнена овечки
Калевы овес пожрали.
Унтамо войну затеял, Калевы народ сгубил.
Данный эпизод расширится за счет строк, взятых из других вариантов:
Унтамо забросил сети
В воды Калервы однажды.
Калерва проверил сети –
Рыбу в свой упрятал короб.
Унтамойнен, муж проворный.
Обозлился, прогневился,
Двинул пальцы грозным войском,
На войну ладони поднял,
Начал ссору из-за рыбы,
Из-за окуньков паршивых.
Нет сомнения, что здесь отражена трагическая ситуация, возникшая в отношениях библейских братьев Авеля и Каина. Казалось бы, вполне достаточно, чтобы начать повествование о новом персонаже «Калевалы»: вражда Унтамо и Калервы порождает месть Куллерво, сына Ка-лервы. Лённроту этого недостаточно. Не хватает иносказательной предыстории, опирающейся на более значимые причины конфликта. В дело идут строки, взятые из песен, записанных в разных местах в Финляндии:
Мать цыплят взрастила стаю, Лебедей косяк вскормила, Подняла цыплят на прясло, Лебедей свела на реку.
Налетел орел – рассыпал…
Орел в данном случае воспринимается как символ войны. Это тем более важно подчеркнуть, что далее упоминаются Россия и Карелия (пусть и не реальная), куда попадают три брата. Финский читатель непременно свяжет их судьбы с недавно прошедшей войной между Россией и Швецией. Как видите, конкретная и близкая история находит в «Калевале» отражение по воле ее создателя.
В песнях-главах о Куллерво [7; 93–104] в «Калевале» наиболее зримо выражена позиция Лённрота-гражданина. В своих статьях, публикуемых в газетах, он ратует за единство финского общества, расколотого не только по языковым, но и социальным причинам. Существовали бедные и богатые. Интеллигенция не всегда понимала проблемы народа, в основе своей крестьянского, непросвещенного. Наблюдал Лён-нрот и картины пьянства в низах и верхах, и безразличного отношения к труду. Понятие трудовой этики далеко не всегда реализовывалось в работе. Во всем этом Лённрот видел причины отсталости общества, бедности на финской земле. Пугали Элиаса Лённрота революционные события в Европе в 1830 и 1848 годах, хотя он всегда сочувствовал трудовому народу и даже играл на кантеле мотив Марсельезы. Судьба Куллерво должна была быть предупреждением всем, от кого зависела судьба общества и государства. Жестокость одних порождала слепую месть других. Эпизоды бессмысленного труда-возмездия Куллерво никогда в народной поэзии не достигали столь подробных описаний. Обладавший небывалой физической силой раб Куллерво, например:
Сбил ограду без проходов, Без ворот забор поставил.
От земли до неба поднял,
До небесных туч воздвигнул:
Через верх не перелезешь,
Сквозь дыру не проберешься.
Такому труду раба Лённрот в «Калевале» противопоставил труды Вяйнямёйнена, делающего лодку, и Илмаринена, выковывающего сампо, орла и грабли для матери Лемминкяйне-на. Описанию выковывания сампо в народной поззии уделяется лишь несколько строк. У Ваас-силы Киелевяйнена (деревня Вуоннинен) была всего лишь одна строка: «Сампо выковал кова-тель». Архиппа Перттунен спел Лённроту семь строчек, из них две посвящены укрощению девы, о самом процессе выковывания сампо в песне «короля рунопевцев» имеется только три строки:
Тот кователь Илморинен День-деньской готовит сампо, Ночью деву укрощает.
Вот кователь Илморинен Смастерил уже и сампо, Расписал узором крышку, Укротить не смог девицу.
Как видите, процесс труда не отражен. Более того, констатация того факта, что мастер не укротил деву, умаляет его труд. Укрощение девы, очевидно, было гораздо важнее для кователя.
Лённрот-поэт рассказал о работе Илмарине-на в десятой главе «Калевалы», посвятив ей 135 строк и тем самым создав подлинный гимн труду. В этом гимне и строчки нет об укрощении девы. Материал для изображения этой вдохновенной и фантастической работы Лённрот извлек из песен о выковывании Золотой девы, распространенных в Приладожье, на Карельском перешейке, в Ингерманландии, по обе стороны российско-финляндской границы. Самое удивительное, что он использовал в тридцать седьмой главе «Калевалы» и сюжет о Золотой деве, показав так же, как и в главе о выковывании сампо, стадии самой работы, однако предметы, которые выходят из горнила, он выбирает разные. В первом случае это лук, лодка, нетель, сампо. Во втором – овца, жеребенок, дева. Подчеркивая бесполезность во втором случае дорогостоящей работы мастера, Лённрот изменяет строки-клише о работе невольников. Если при ковке сампо «рабы вовсю меха качают, пламя сильно раздувают», то, выковывая деву, даже рабы «трудятся неважно, батраки качают скверно». Сам Илмаринен изрекает: «Вот красавица была бы, если б говорить умела».
Гражданской позицией Лённрота диктуются и его отношения к женским образам. Они формируются в прямой зависимости от его размышлений о положении женщины в финском обществе. Лённрот был одним из первых защитников прав женщины в Финляндии. Хотя мужское начало (патриархат) в «калевальском» мире и берет верх, Лённрот привносит в него идеи равноправия. Мужскому насилию противодействуют Айно, Кюлликки, вторая дочь Ловхи, Марьятта. Героические деяния Вяйнямёйнена, Илмаринена, Лемминкяйнена бледнеют рядом с подвигом матери Лемминкяйнена, возвращающей к жизни своего сына. Айно (образ, во многом придуманный Лённротом) отказывается выходить замуж за старца. Марьятта, родившая «короля Карелии» от бруснички, как ее ни поносили отец и мать, выносила и воспитала свое дитя.
Самый многозначный и яркий женский образ в «Калевале» – хозяйка Похьелы Ловхи. Именно ей приходится выносить бесчисленные несправедливости со стороны калевальцев: убивают ее мужа, губят двух ее дочерей, похищают сампо – предмет, который принадлежит ей по праву. Ее месть гораздо более оправданна, чем слепая месть Куллерво, который беспощаден даже к своим родителям. Сам Лённрот о Ловхи говорил с пониманием: она защищает свой род точно так же, как это делают мужи Калевалы.
В «Калевале» немало мест нравоучительного характера. Это тоже связано с тем, что создатель «Калевалы» много писал о задачах просвещения и воспитания. В просвещении он видел будущее общества, на него ориентировал интеллигенцию и народ. Свои основные просветительские идеи в виде заповедей народной нравственности он вкладывал в уста матерей Куллерво, Леммин-кяйнена, самого Вяйнямёйнена. Узнав о гибели Куллерво, Вяйнямёйнен сказал:
Никогда, народ грядущий,
Не давай детей родимых
Глупому на попеченье, Чужаку на воспитанье!
Лённрот был врачом. Неутомимый просветитель, он напечатал множество популярных статей и брошюр по вопросам медицины, в том числе лечения травами, которые он усердно собирал, и позднее издал справочник «Флора Финляндии». В 1830–1833 годах он был в самом центре борьбы с эпидемиями холеры и дизентерии. В 1833 году сам заболел брюшным тифом. Слух прошел даже о его смерти. За эту мужественную работу он получил от царя Николая I бриллиантовое кольцо.
Страницы, посвященные насланным Ловхи на Калевалу болезням и их излечению, именно поэтому столь подробны и впечатляющи, что стоит за ними врачебная практика Лённрота. Ему хорошо были известны недуги, которые нарожала и которым давала просторечные имена Ловиатар:
Колотьем один был назван,
Коликой другой был прозван,
Третий наречен ломотой,
Костогрызом стал четвертый,
Пятый назван был коростой,
Чирием шестой объявлен,
Окрещен седьмой холерой,
Стал восьмой чумою страшной.
Лишь один пока не назван.
Названия болезней Лённрот отбирал из разных заклинаний, выстраивал их в этот окончательный ряд, отличающийся от того, что было в версии «Калевалы» 1835 года.
Объединяет все пятьдесят песен-глав «Калевалы» не только разработанный Элиасом Лён-нротом общий сюжет, где названы причины тех или иных походов и деяний героев (в народных песнях этого нет), но и ненавязчивый образ повествователя, рассказчика:
Мной желанье овладело,
Мне на ум явилась дума,
Не начать ли песнопенье.
О том, что этот рассказчик в конечном счете – сам Лённрот, становится ясно по заключительной главе. С одной стороны, он предстает в образе народного певца, а с другой – в ряде строк проглядывают его «биография» и его ощущения. Версию «Калевалы» 1835 года резко критиковал К. Готтлунд за отход от народной поэзии. А Д. Эвропеус еще не вышедшую в свет классическую версию 1849 года ругал за то, что «новая “Калевала”» ломает «нормы красоты и нравственности» «к великой досаде любителей отечества» [12]. Поэтому Лённрот и говорит:
Их теперь совсем немало,
Много злых людей на свете,
Кто меня корит нещадно,
Кто меня бранит жестоко.
Одновременно Лённрот гордится тем, что он «певцам лыжню оставил».
«Калевала» вся нацелена в будущее. Это не эпос, составленный из народных песен, доработанных составителем, как думают многие, а лироэпическая поэма, созданная поэтом ХIХ века Элиасом Лённротом из разножанрового, в разное время собранного песенного материала. Цель создания поэмы – заглянуть не только в прошлое финского народа, но и в его завтрашний день.
Финская литература Финляндии только начиналась. «Калевала», впитавшая в себя все лучшее из народной поэзии карелов и финнов, стала первым крупным художественным произведением, в котором воссоздана мифологическая история финского народа и вместе с тем подняты острые проблемы современности. Пронизанная горячей любовью к родному отечеству, она вдохновила писателей на создание романов, пьес, поэм на финском языке. С годами «Калевала» Элиаса Лённрота становилась произведением-образцом для нарождающихся литератур других народов.
Список литературы Эпос «Калевала» - литературное произведение XIX века
- Калевала (сокращенный вариант 1862 г.). Петрозаводск: Скандинавия, 2006.
- Киуру Э.С., Мишин А.И. Фольклорные истоки «Калевалы». Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. 248 с.
- Лённрот Э. Калевала. Эпическая поэма на основе древних карельских финских народных песен/Пер. с финн. Э. Киуру, А. Мишина. Петрозаводск: Карелия, 1998. 583 с.
- Лённрот Э. «Кантеле Вяйнямёйнена» («Перво-Калевала»). Эпическая поэма на основе карельских и финских народных песен/Пер. с финн. Э. Киуру, А. Мишина. Петрозаводск: Verso, 2004.
- Лённрот Э. Калевала, 1835/Пер. с финн. А. Мишина и Э. Киуру. Петрозаводск: Verso, 2006.
- Лённрот Э. Наброски к «Калевале» («Лемминкяйнен» «Вяйнямёйнен», «Песни свадебных гостей»)/Пер. с финн. Э. Киуру, А. Мишина. Петрозаводск: Скандинавия, 2007.
- Мишин А.И.Путешествие в «Калевалу». Петрозаводск: Карелия, 1988. 167 с.
- Путешествие Элиаса Лённрота. Путевые заметки, дневники, письма. 1828-1842. Петрозаводск: Карелия, 1985. 320 с.
- Agr i co la M. Davidin Psaltir. Stockholmi, 1551.
- Anttila A. Elias Lönnrot. Elämä ja toiminta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1. osa 1931. 2. osa 1935.
- Ganander C. Mythologia fennica. SKS. Gummerus Oy: n kirjapainossa. Yyväskylä, 1964.
- Evropeus D.E. Suurmies vai kummajanen. KS. Helsinki, 1984.
- Lönnrot E. Kantele. Toinen. 2. osa. 1829.
- Suomen kansalliskirjallisuus. Käsikirjoituksissa ja julkaisuissa 1544-1930. II. 80. Helsingssä; Otava, 1935.