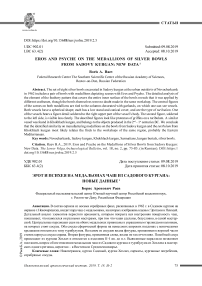Эрот и психея на медальонах чаш из Садового кургана: новые данные
Автор: Раев Борис Аронович
Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.18, 2019 года.
Бесплатный доступ
В состав сервиза из восьми серебряных фиал, раскопанных в 1962 г. в Садовом кургане на окраине г. Новочеркасска, входит пара чаш с медальонами, на которых изображены сцены с Эротами и Психеей. Детальный анализ элементов перистого орнамента, которым покрыта вся внутренняя поверхность чаш, показывает, что наносился он разными мастерами, при том что чаши сделаны, безусловно, в одной мастерской. Центральные персонажи сцен на обоих медальонах привязаны к украшенным гирляндами колоннам, на которых стоят сосуды. Оба сосуда сферической формы на невысоких широких поддонах с коническими крышками относятся к типу турибулумов. На одном из сосудов видна фигурка, припаянная к верхней части стенок корпуса сосуда справа. Вторая фигурка, припаянная слева, видна не так отчетливо. Подобный сосуд происходит из кургана Хохлач и относится к изделиям II-I вв. до н.э. Выявленные параллели позволяют поставить вопрос об изготовлении медальонов чаш из Садового кургана и турибулума из Хохлача в мастерских одного региона, вероятно - в Восточном Средиземноморье.
Новочеркасск, курган садовый, курган хохлач, сарматы, курганные погребения, серебряные сосуды
Короткий адрес: https://sciup.org/149130868
IDR: 149130868 | УДК: 902.01 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2019.2.5
Текст научной статьи Эрот и психея на медальонах чаш из Садового кургана: новые данные
СТАТЬИ
DOI:
Цитирование. Раев Б. А., 2019. Эрот и Психея на медальонах чаш из Садового кургана: новые данные // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 75–85. DOI:
В 1962 г. на окраине г. Новочеркасска отрядом Кобяковской экспедиции ЛОИА, которым руководил Л.С. Клейн, был раскопан Садовый курган с богатым погребением сарматского времени. В числе поминальных даров умершему находились восемь серебряных фиал, близких по технике изготовления и художественному оформлению и таким образом составляющих своеобразный сервиз. Чаши неоднократно экспонировались на выставках, публиковались в каталогах и проспектах музейных экспозиций, медальоны воспроизводились на почтовых открытках и пр. Тем не менее за прошедшие более чем 50 лет не появилось специальных работ, посвященных этим сосудам, если не считать краткого обзора, сделанного автором этой заметки, в котором были отмечены особенности оформления фиал, позволившие разделить их на две группы [Raev, 1986], и небольшой статьи, посвященной общему анализу сюжетов изображений на медальонах [Fless et al., 1998]. Обе работы к 2007 г., когда М.Ю. Трейстером был опубликован небольшой раздел коллективной монографии, посвященный посуде из драгоценных металлов, в том числе подробному описанию и анализу чаш из Садового кургана [Мордвинцева, Трейстер, 2007, с. 32–36], изрядно устарели.
Анализ техники и индивидуальных особенностей орнаментации фиал, сопоставленный с изображениями на медальонах, позволил М.Ю. Трейстеру выделить четыре группы, изготовленные, по его мнению, в одной мастерской разными мастерами [Мордвинце-ва, Трейстер, 2007, с. 33–34] или в нескольких территориально связанных центрах Малой Азии, Сирии или Египта [Мордвинцева, Трей-стер 2007, с. 35–36]. Не имея оснований сомневаться в выводе автора, хочу отметить, что три фиалы с медальонами, на которых изображены Нереиды на гиппокампах (группа 1 по М.Ю. Трейстеру), в любом случае служили образцом, по которому изготовлены пять остальных чаш. Точные размеры площади центральной части дна этих последних, не занятой перистым орнаментом, могли стать дополнительным аргументом в пользу такого вывода, если бы совпали с размерами на трех чашах с Нереидами. Из описания процесса раскопок известно, что в результате механического воздействия землеройной техники медальоны «большей частью отделились от чаш» [Клейн, 1963, с. 145], но к сожалению, изображений внутренней поверхности чаш без медальонов не удалось найти ни в архиве автора раскопок 2, ни в архивах ИИМК и РОМК.
Обратимся теперь к двум парным чашам, на медальонах которых изображены Эроты и Психея (группа 3 по М.Ю. Трейстеру). Описывая орнамент на внутренней поверхности этих чаш, а также чаш с медальонами, на которых изображены сцены с Нереидами на гиппокампах, М.Ю. Трейстер отметил отличия в очертаниях перьев, с частью которых согласиться трудно. Прежде всего, общие очертания перьев не «несколько отличны», а отличны существенно: на чашах группы 3 внешняя граница опахала имеет форму широкого овала, стержень пера в верхней части заострен, в нижней сильно расширяется, приобретая форму треугольника, а на чашах группы 1 короткая (верхняя) сторона овала слабо заострена, стержень пера в верхней части заострен, но в нижней расширяется очень слабо, а не показан «параллельными насечками», как отметил автор [Мордвинцева, Трейстер 2007, с. 34]. Различия в деталях оформления всех восьми чаш потребуют отдельной работы, здесь же я хочу остановиться только на различиях в орнаментации чаш с Эротами и Психеей.
Перистый орнамент на чаше с привязанным к столбу Эротом 3 и на чаше с привязанной к столбу Психеей 4 существенно различается между собой (рис. 1, 1а , 1б ; 1, 2а , 2б ). Эти отличия отражены в таблице.
Отмеченные различия в деталях позволяют говорить об изготовлении чаш разными мастерами, во всяком случае – применительно к орнаментации внутренней поверхности сосудов. В орнаментации чаши «а» ошибки есть, но они редки и незначительны, в отдельных случаях подправлены. Орнаментация чаши «б» отличается небрежным и грубым исполнением. Орнаментировалась чаша, скорее всего, неопытным мастером, или, что менее вероятно, небрежность оформления связана со срочным исполнением заказа на ее изготовление.
Различия в перистом орнаменте на паре чаш с медальонами, на которых изображены Эроты и Психея
|
Чаша «а» КП 2543 (рис. 1, 1а , 2а ) |
Чаша «б» КП 2544 (рис. 1, 1б , 2б ) |
|
1. Перья одинаковой ширины, верхний край правильной полукруглой формы |
1. Перья разной ширины, верхний край некоторых не симметричен относительно центральной оси |
|
2. Опахала симметричны относительно стержня пера |
2. Опахала не симметричны относительно стержня пера |
|
3. Внешний контур опахала показан ровной непрерывной линией, проведенной в один прием. В некоторых местах она расширяется (подправлены неровности в месте соединения линий?) |
3. Внешний контур опахала показан неровной линией, проведенной в несколько приемов (чаще в два), причем конец и начало смещены относительно друг друга, и этот дефект не подправлен |
|
4. Стержни перьев симметричны относительно центральной оси пера, исключения единичны |
4. Стержни не симметричны, курватура линий, образующих стержень, различна, они часто проведены в два, а то и в три приема |
|
5. Бородки опахала более или менее одинаковые, сделаны под одним углом на равном расстоянии друг от друга и не выходят за линии внешнего контура и стержня опахала |
5. Бородки опахала неровные, проведены на разном расстоянии друг от друга и под разными углами. Часто состоят из нескольких коротких штрихов, которые смещены, концы их не совпадают. Бородки часто выходят за линию внешнего контура пера и стержня опахала |
Обратимся к медальонам. Общее композиционное решение сцен обоих медальонов аналогично (рис. 2, 1 , 3, 1 ), наиболее полно они описаны в статье Ф. Флесс с соавторами [Fless et al., 1998, S. 159–160]. Насколько мне известно, только в этой работе при описании сцен авторы отметили как один из элементов, составляющих центр композиции обоих медальонов, колонну, к которой привязан герой: в одном случае Эрот, в другом – Психея, и, что особенно важно, они впервые в описании медальонов упомянули сосуды, стоящие на колоннах [Fless et al., 1998, S. 160].
При увеличении, позволяющем увидеть отдельные элементы колонн, заметно, что они идентичны. База одной из них закрыта фигурой Психеи (рис. 3,2), база второй имеет классическую форму невысокого усеченного конуса (рис. 2,2). Стволы обеих колонн в верхней части украшены гирляндами, завершены они капителями одной формы, устройство которой четко проработано на медальоне «б». Видно, что капитель представляет собой классический вариант, состоящий из нижней круглой подушечки (эхины) и лежащей на ней квадратной плиты (абаки). Как и должно быть у классической капители, абака немного выступает за пределы эхины, что хорошо видно на правой стороне капители (рис. 3,2). На капители колонны медальона «а» граница между ее элементами проработана слабо, справа заметна небольшая вы- емка, которой отделены верхняя и нижняя части (рис. 2,2).
Сосуды, которые установлены на колоннах, однотипны. Тщательная проработка деталей позволяет определить их как ту-рибулумы – ритуальные сосуды на невысоких поддонах с туловом сферической формы, к верхней части стенок которых припаяны фигурки грифонов, и, как правило, коническими крышками. Наши сосуды имеют скорее сферические крышки, завершающиеся круглой «кнопкой». При этом в некоторых деталях сосуды отличны. Так, сосуд на медальоне «а» имеет дополнительную припаянную (?) к верхней части стенки фигурку, хорошо видную справа. Аналогичная фигурка слева проработана слабей и почти не читается (рис. 2, 2 ). Сосуд на медальоне «б» таких фигурок как будто не имеет, но на его сферической крышке хорошо видны каннелюры (рис. 3, 2 ).
Турибулум – ритуальный сосуд, существовавший в греко-римском мире с эпохи архаики до императорского времени. Местом хранения таких сосудов были храмы, отчего на многочисленных изображениях, как отмечает Аня Саковски, они размещаются на столбах, стенах или иных элементах архитектурного декора. В римское время, когда возрождается мода на подобные сосуды, они иногда становились частью надгробий [Sakowski, 1998, S. 73, 79–80].
Любопытно, что находка серебряного турибулума была сделана за сто лет до раскопок Садового кургана – в кургане Хохлач, располагавшемся в том же городе в 2,2 км к востоку от Садового кургана [Засецкая, 2011, с. 222, 224–226]. Сейчас сосуд не имеет поддона (рис. 4), но, судя по описанию, во время находки у него была «низкая расширенная подножка» [Борисяк, 1864, с. 258, № 22], позже, вероятно, припаянная к серебряному аску из этого же кургана (ср.: [Засецкая, 2011, с. 222–223]).
Неверная датировка турибулума из Хохлача, которая в 1978 г. была предложена автором настоящей статьи на основании сопоставления его с керамическими котлами V– III вв. до н.э. из Этрурии, а затем повторялась в нескольких работах [Раев, 1978, c. 89–90; cр.: Raev, 1986, p. 15], была исправлена М.Ю. Трей-стером. Он использовал для коррекции моих неверных дат работы, опубликованные после 1990 года [Treister, 2004, p. 452]. Так, ссылаясь на наблюдение Р. Петровски, отметившего, что даже на самых ранних фресках в Помпеях изображены турибулумы не сферической, а приплюснутой формы, автор, выстраивая свою линию типологического развития, относит сосуд из Хохлача ко II – началу I в. до н.э. [Treister, 2004, p. 452].
Тенденцию к изменению формы турибу-лума от сферической к уплощенной, скорее напоминающей чашу, иногда даже не очень глубокую, отмечала А. Саковски, проследившая по изображениям эволюцию сосудов с протомами грифонов (Grifenkessel) от архаики до императорского времени [Sakowski, 1998, S. 78]. В качестве эталонных для выделенных ею форм Grifenkessel, относящихся к эллинистическому и римскому времени, были выбраны турибулумы из Хохлача и Махдии [Petrovszky, 1994, S. 673–674, Abb. 1, Typ. 10, Abb. 12, S. 693, Nr. 36–37, Abb. 50–51]. Первый назван исходной формой более ранних сосудов типа «b», второй – более позднего типа «с» [Sakowski, 1998, S. 78, Anm. 147, S. 79, Anm. 148]. Таким образом, А. Саковски впервые были обозначены хронологические различия между этими сосудами, отмеченные М.Ю. Трейстером [Treister, 2004, p. 452] 5.
Что касается времени существования турибулумов сферической формы, то, учиты- вая их не утилитарное назначение, вряд ли можно исключить их доживание до середины I в. н.э., и авторы росписей в Помпеях вполне могли такие сосуды видеть. В типологии бронзовой посуды, изображенной на фресках, где по большей части представлены сосуды вотивные и ритуальные [Riz, 1990, S. 24], сферической формы турибулумы выделены в тип В1 [Riz, 1990, S. 14. Räuchgefäß: B1]. Отмечу, что полусферические сосуды типа В1 изображены не только на фресках 60–50 гг. I в. до н.э., что отмечено М.Ю. Трейстером [Treister, 2004, S. 452], но и на наиболее поздних фресках от 50-х до 70–79 гг. I в. н.э. [Riz, 1990, Kat. Nr. 200, Taf. 55,4, Kat. Nr. 201, Taf. 55,5, Kat. Nr. 203, Taf. 56,1, Kat. Nr. 206, Taf. 56,5].
Возвращаясь к серебряным чашам из Садового кургана, на медальонах которых изображены колонны с турибулами, и сосуду из кургана Хохлач, могу предположить, что изготовлены они в мастерских одного региона. Была ли это Аттика, как предположил Р. Петровски, говоря о месте изготовления курильницы из Махдии [Petrovsky, 1996, S. 328, 336], или мастерские Малой Азии, Сирии или Египта, как считал М.Ю. Трейстер, определивший место изготовления чаш из Садового кургана [Мордвинцева, Трейстер, 2007, с. 35], – сказать трудно. Второе представляется мне наиболее вероятным, а будущие исследования, будем надеяться, помогут сузить возможную область производства этих сосудов до одного конкретного региона.
Список литературы Эрот и психея на медальонах чаш из Садового кургана: новые данные
- Борисяк Н., 1864. Об археологических открытиях в Новочеркасске // Донские войсковые ведомости. № 34 [1 сентября]. С. 258-263.
- Засецкая И. П., 2011. Сокровища кургана Хохлач. Новочеркасский клад. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. 328 с.
- Клейн Л. С., 1963. Раскопки Садового кургана // Архив ИА РАН. Р-1. № 2497. Капошина С. И. Отчет о работах Кобяковской археологической экспедиции. С. 137-171, табл. I-XII.
- Мордвинцева В. И., Трейстер М. Ю., 2007. Произведения торевтики и ювелирного искусства в Северном Причерноморье. Т. 1. Симферополь; Бонн: Тарпан. 312 с.
- Раев Б. А., 1978. Металлические сосуды кургана "Хохлач" (материалы к хронологии больших курганов сарматского времени в Нижнем Подонье) // Проблемы археологии. Вып. 2. Ленинград. С. 89-94.
- Fless F., von Hesberg H., Skripkin A.S., 1998. SilbergefдЯe aus dem Sadovyj-Kurgan am Unterlauf des Don // Festschrift - 5 Jahre wissenschaftliche Zusammenarbeit der Universitдten Kцln und Wolgograd (1993-1998). Kцln: Kirsch-Verlag. S. 158-169.
- Petrovszky R., 1994. Die BronzegefдЯe // Das Wrack. Der antike Schiffsfund von Mahdia. Bd. 1. Kцln: Rheinland-Verlag. 723 S. (Kataloge des Rheinischen Landesmuseums Bonn; Bd. 1).
- Petrovszky R., 1996. Die BronzegefдЯe von Mahdia. Nachtrдge und neue Ьberlegungen // Bonner Jahrbьcher. Bd. 196. S. 321-336.
- Raev B. A., 1986. Roman Imports in the Lower Don Basin. BAR, International Series, 278. Oxford: BAR. 135 p.
- Riz A., 1990. BronzegefдЯe in der rцmisch-pompejanischen Wandmalerei. Mainz am Rhein: von Zabern. 115 S. (DAI Rцmische Abteilung. Sonderschriften Bd. 7).
- Sakowski A., 1998. Darstellungen von Greifenkesseln // Bulletin Antieke Beschaving. № 73. P. 61-82.
- Treister M., 2004. Silver vessels from the Khokhlach barrow // The Antique Bronzes: Typology, Chronology, Authenticity. The Acta of the 16th International Congress of Antique Bronzes, organized by The Romanian National History Museum, Bucharest, May 26th-31st, 2003. Bucharest: Editura Cetatea de Scaun. P. 451-467.