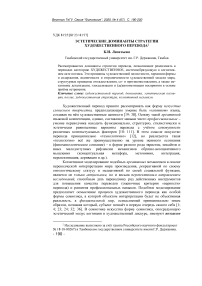Эстетические доминанты стратегии художественного перевода
Автор: Леонтьева Ксения Ивановна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы перевода
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются доминанты стратегии перевода, позволяющие реализовать в переводах категорию ХУДОЖЕСТВЕННОЕ, системообразующую в когнитивном акте поэзиса. Это принципы художественной целостности, гармонии формы и содержания, иконичности и отграниченности художественной модели мира, структурные принципы отождествления, со- и противопоставления, а также механизмы детализации, глоссализации и (де)автоматизации восприятия в основе приёма остранения.
Художественный перевод, доминанта, эстетическая когниция, поэзис, художественная структура, когнитивный механизм
Короткий адрес: https://sciup.org/146281742
IDR: 146281742 | УДК: 81'25:[81'23+81'37] | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.4.190
Текст научной статьи Эстетические доминанты стратегии художественного перевода
Художественный перевод принято рассматривать как форму искусства словесного творчества, предполагающую умение быть «хозяином» языка, создавая на нём художественные ценности [19: 38]. Основу такой креативной языковой компетенции, однако, составляют навыки чисто профессиональные – умение переводчика находить функционально, структурно, стилистически и эстетически равноценные варианты перевода с учётом совокупности различных контекстуальных факторов [10: 111]. В этом смысле искусство перевода принципиально «технологично» [12], но реализуется такая «технология» всё же преимущественно на уровне неявного осознания (феноменологическое сознание) – в форме разного рода эвристик, инсайтов и иных малодоступных рефлексии механизмов образно-ассоциативного мышления (концептуальная метафора, метонимия, интеграция, перспективация, деривация и др.).
Когнитивное моделирование подобных креативных механизмов в основе переводческой интерпретации мира произведения, ре креативной по своему онтологическому статусу и медиативной по своей социальной функции, является не только актуальным, но и весьма перспективным направлением исследований , способным дать переводчику ряд действенных инструментов для повышения качества переводов (оценочные критерии «верности» перевода) и развития профессиональных навыков. Подобное моделирование предполагает осмысление процесса художественного перевода как особой формы семиозиса, в которой объектом интерпретации будет не объективная реальность, а фикциональный мир , осмысляемый принципиально иным образом, познавая который, субъект познаёт в первую очередь самого себя [1; 4; 23; 24; 32; 36]. В семиотике искусства форму семиозиса, опосредующую эстетический модус когниции и художественный дискурс, именуют поэзисом
2 Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-00267) в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина. - 190 -
[24: 81]. Цель исследования – проанализировать когнитивно-эстетическую специфику поэзиса и выявить ряд базовых принципов реализации художественной структуры мира произведения в сознании и дискурсе его интерпретатора, учёт которых позволил бы создать эстетически более адекватный перевод. Поскольку исследование опирается на представление о доминантном принципе организации и функционировании сознания человека [13], искомые принципы трактуются нами как эстетические доминанты стратегии перевода, рефлективно реализуемой переводчиком.
Главное отличие поэзиса от иных (нехудожественных) форм семиозиса заключается, вероятно, в том, что в рамках когнитивных процедур поэзиса «в том, что называется формой, нет ничего, что не было бы содержанием» [24: 130], и все элементы художественной структуры предполагают «химическое соединение познавательного определения, этической оценки и художественнозавершающего оформления» [15: 156-157]. В этом смысле язык художественного произведения неотделим от его смысловой структуры «в такой же мере, в какой мысль неотделима от материальной структуры мозга» [14: 28, 13]. М.М. Гиршман подобную имманентную содержательность художественной формы объясняет тем, что в произведении «лишь то из жизни, что стало словом, становится содержанием», и «каждый значимый элемент художественного произведения потому необходим и незаменим, что в нем воплощается и осуществляется особый мир, его возникновение – развертывание – завершение, его единые смысло– и формообразующие начала», причём «каждый раз по-особому, индивидуально» [4: 82, 83, 92].
Приведённая цитата вскрывает одну из главных проблем перевода. В силу индивидуальности и неповторимости реализованной в тексте художественной целостности формы и содержания получается, что этика перевода, основанная на максимах верности (fidelity, faithfulness) имплицитному автору в тексте, требует от переводчика невозможного – заменить незаменимое, повторить неповторимое. Неудивительно, что на практике переводческий акт ре креативного поэзиса часто сопровождается нейтрализацией (с разной степенью эстетической девальвации) художественности произведения, часто почти никак не связанной с мерой профессионализма и таланта переводчика и образности его текста.
Подобная нейтрализация вызвана вполне объективными факторами. Во-первых, это асимметрия систем национальных языков, жанровых конвенций и литературных «языков» сюжетов, мотивов и образов, субъективных когнитивных кодов эмоций и впечатлений и социокультурных кодов, организующих литературно-художественный хронотоп. Все эти семиотические коды организуют не только материал, с которым работает переводчик (художественный язык), но и парадигмы художественного мышления, в которых этот материал интерпретируется, и их асимметрия per se предопределяет неизбежность адаптивных сдвигов в переводе. Более того, категория ХУДОЖЕСТВЕННОЕ как доминанта эстетической когниции в принципе не имеет константных атрибутов, и форма её реализации каждый раз уникальна и принципиально невоспроизводима [23: 36], и каждая новая субъективная оценка (в том числе переводчиком) параметров и эстетических принципов, лежащих в основе художественности одного и того же - 191 - произведения, будет иной, причём подобная вариативность органически свойственна искусству [14: 34, 36].
Вместе с тем, необходимость воссоздания оригинального параметра художественности вполне обоснованно позиционируют как доминанту стратегии перевода. Дело в том, что так называемые «сильные» [2] художественные тексты, к которым обычно обращаются переводоведы, в отличие от беллетристики нацелены на «обучение» читателя новому типу художественного моделирования [14: 508], и для реципиента перевода возможность такого «обучения» будет условием поэзиса, в котором произведение функционирует как «каждый раз снова и снова осуществляемое событие создания – созерцания – понимания художественной целостности» [4: 54]. В отличие от процессов обыденного познания эстетические формы когниции направлены не на материал (форма и содержание), а на содержание порождаемых на основе этого материала эмоциональных переживаний и сотворение уже на их основе новых, эстетически отрефлексированных форм восприятия мира [23], что невозможно вне акта «здесь и сейчас происходящего созерцания» [4: 49] мира произведения. Поскольку доступ реципиента к миру произведения открывает художественная структура , переводчик должен постараться организовать в своем тексте возможность мысленного созерцания изображаемого в произведении мира в схожей с конфигурируемой оригиналом категориальной и нарративной структуре. На практике именно эта задача составляет основную переводческую трудность.
Во-первых, реализации доминанты художественности в тексте переводчика препятствует описанный выше интерсубъективный, а также культурно-исторический динамизм данной категории эстетического сознания. Неясно также, какой именно параметр в основе художественности нужно транслировать реципиенту: художественные приемы, средства, детали, образы, инициируемые ими смыслы-впечатления или же лишь общие принципы, лежащие в основе художественной структуры произведения? Кроме того, стратегию и цели перевода зачастую определяет не переводчик, а заказчик (например, издательство или органы власти), который в качестве доминанты перевода может видеть не эстетическое, а сугубо утилитарное (что имело место, например, в СССР в случае отбора для перевода произведений тех авторов, которые активно обличали «буржуазный» миропорядок). Наконец, представления о том, что такое «хороший» художественный текст и «хороший» перевод этого текста, «хороший» перевод текста определённого жанра и «хороший» перевод в принципе варьируются от индивида к индивиду, от поколения к поколению и от культуры к культуре, трансформируясь при смене норм литературного канона и идеологии (см., например: [29]).
Яркий пример – культовый роман «The Catcher in the Rye» [39] в не менее культовом советском переводе Р. Райт-Ковалевой [18]. С провокативной эстетикой Дж. Сэлинджера данный перевод имеет относительно мало общего: в его художественной структуре репрезентированы иные художественные коды, сдвигающие рецептивный поэзис к иным векторам смысла, и реализованы качественно иные, во многом идеологически нагруженные (и в этом смысле утилитарные) «парадигмы художественности» (В.И. Тюпа), а именно эстетика советского реализма и восходящего к нему «реалистического» - 192 - метода перевода. При этом российский читатель воспринимает именно этот перевод как канонический и высшей мере художественный, тогда как новый перевод М. Немцова [18], в некоторых аспектах более «верный» эстетике последовательных минус-приемов, знаковых для стиля Сэлинджера (см.: [6]), многие критики и читатели обвиняют чуть ли ни в нулевой художественности. В подтверждение приведём фрагмент читательской рецензии на сайте «Лабиринт» (авторская пунктуация сохранена): «[Е]если классический перевод течет, то новый спотыкается настолько, что суть-то теряется за этим ворохом жаргонизмов, причем малоупотребляемых (плохой перевод, бессмысленный, потому что новых граней таланта автора, для чего собственно и имеет смысл затеваться с новым переводом, он не открыл, а блестящего дара переводчика я не увидела. Его просто нет» [11].
В подобном рецептивном контексте примечательно, что права на оба перевода выкуплены одним издательством «Эксмо», и оба переводы издаются в одних и тех же художественных сериях, в схожих обложках и схожими по объёму тиражами. Интересно также, что издание [18] интегрирует обе версии в единый метатекст, правда без параллельного английского текста. То есть можно полагать, что для издателя оба перевода относительно равноценны. Однако культурный локус этих переводов критически не совпадает, что обусловлено не только и не столько фактором привычки, купирующей либо, напротив, усиливающей когнитивный диссонанс, но прежде всего критической разницей когнитивных, литературных и социокультурных кодов, актуальных для двух групп читателей - знакомых и не знакомых с эстетикой, поэтикой и структурой романа Дж. Сэлинджера в оригинале. Сказанное подводит нас к вопросу о значимости в переводе и для переводчика общих механизмов работы художественной структуры, опосредующей процедуры поэзиса.
Напомним, в художественном произведении форма и содержание «нераздельны и неслиянны» [1: 53], что превращает его в художественное целое. Способом реализации принципа художественной целостности в конкретном тексте будет принцип гармонии формы и содержания , в силу которого в художественном тексте нет «эстетически безразличного материала», «эстетически нейтральных включений» [33: 40]. Переводчику, работающему сообразно доминанте художественности, на этапе анализа текста соответственно нужно понять, каким образом знаковая организация (структура) текста реализует художественное целое. В структуре художественного текста элементы первичных знаковых систем (материал художественного языка как вторичной системы) связаны сложной системой отношений, невозможных в нехудожественной конструкции и не являющихся свойствами образующего её языкового материала [14: 421, 460]. На референциальном уровне это порождает особый мир денотатов и «семантических сближений, аналогий, противопоставлений, оппозиций», вступающих в конфликт с категориально-семантической системой обыденного языка [14: 246]. Именно поэтому в иной текстовой структуре будет реализована иная информация об ином мире денотатов (альтернативная модель мира).
Сказанное позволяет выделить три главных принципа построения и реализации художественной структуры в поэзисе - отождествление, сопоставление и противопоставление, обеспечивающих возможность сближения различного и раскрытия разницы в сходном [14: 162-163]. Эти принципы предполагают повышенную упорядоченность текста по парадигматике (сильнее в поэзии) и синтагматике (сильнее в прозе), при которой любой текстовый элемент реализуется лишь «в отношении к другим элементам и к структурному целому всего текста», в результате чего текст «теряет относительную свободу перестановки на уровне синтаксического построения и конструкции выказывания» [14: 387, 422].
При этом значимым будет не только то, что включено в хронотоп [1] художественного универсума, но и то, что в нём не существует - мир, исключаемый из изображения (например, низменное у романтиков или возвышенное-поэтизированное у футуристов) [14: 295; 20: 38-39]. В этом проявляется принцип отграниченности художественной композиции , посредством которого «единичный эпизод, выбранный из множества равновозможных, для художника слова становится моделью всего его универсума, заполняет этот универсум своей единичностью, исключая иные модели той же вселенной как её сюжетные синонимы» [14: 44, 267, 275]. На этом основании Ю.М. Лотман выделяет два аспекта сюжетной композиции : 1) мифологический (текст как модель всего универсума, мифологизирующая действительность и утверждающая некоторую ценностную парадигму), и фабульный (текст как модель конкретного изображаемого в произведении фрагмента действительности). В художественной целостности оба аспекта взаимосвязаны, оба подчиняются принципу отграниченности, и оба в равной степени важны для перевода (причём не только прозы, но и поэзии). Рассмотрим пример:
-
(1) Since 1888 we have been molding boys into splendid, clear-thinking young men («The Catcher in the Rye», J. Salinger [39]).
-
(2) С 1888 года в нашей школе выковывают смелых и благородных юношей. (пер. Р. Райт-Ковалевой, 1960 [18]).
-
(3) С 1888 года мы лепим из мальчиков великолепных здравомыслящих юношей. (пер. М. Немцова, 2015 [18]).
На мифологическом уровне вариант М. Немцова выводит в фокус внимания главного героя и нарратора романа Холдена доминантные в американской модели мира прагматико-материалистические ценности (ИМИДЖ, РАЦИОНАЛИЗМ), отрицание которых определяет всю модель мира Холдена. В тексте Р. Райт-Ковалевой прагматическая оценка внешности и трезвости мышления человека, напротив, замещается привычной социальноэтической оценкой моральных и духовных качеств ( смелых и благородных) , что снимает сюжетообразующий конфликт. При этом в этом переводе появляется притяжательное местоимение в нашей школе , предполагающее конформистскую потребность в самоидентификации с некоторой социальной группой (школой и её обитателями), что полностью противоречит знаковой для героя философии отчуждения. Факты подобной ремифологизации художественной реальности далеко не единичны и является достаточно характерной чертой этого советского перевода, что, правда, вполне ожидаемо в силу факторов цензуры и идеологии, доминантных на том историческом этапе. - 194 -
С принципом ограниченности тесно связан принцип иконичности [14], созвучный актуальной трактовке наррации как универсального когнитивного механизма организации, восприятия и репрезентации опыта и знаний [35; 38; 40]. Данный принцип проявляется в том, что любая фраза текста своей синтагматической структурой реализует и организует для реципиента конкретный кадр ментального видения , «в состав которого входит исключительно то, что поименовано в тексте» и именно в той структурной форме и последовательности, в какой знаки текста организует мир произведения – согласно «расположению деталей в пределах кадрового единства фразы» [21: 23]. Каждый кадр фокусирует внимание реципиента на конфигурации ряда конкретных характеристик континуального по своей природе художественного универсума.
В свете фикциональности художественного универсума [31: 27] и обусловленной этим «чистой и абсолютной предикативности» художественной речи [23: 10] кадр ментального видения можно рассматривать как ту операциональную единицу смысла , с которой должен работать переводчик, чтобы воссоздать в своём тексте (посредством перспективации) художественный образ – неаддитивную мета -единицу перевода, не имеющую в тексте фиксированной «географии», подчиняющуюся принципу целостности и развиваемую на протяжении всего повествования [3; 16]. Через художественный образ автор «познает мир, изображая, изображает, оценивая, оценивает, познавая» [5: 150], и нарушение в переводе принципа иконичности разрушает эту триединую природу образа, выводя его «за рамки искусства» [5: 150].
В художественной структуре принцип иконичности реализуется на уровне фокализации посредством механизма детализации , выводящего в фокус внимания конкретные кадрообразующие детали конкретного фрагмента художественного универсума. Художественная деталь образует основу образа и является ведущим средством создания «затрудненной формы» в основе приёма остранения [27: 43, 46], деавтоматизирующего восприятие через постановку привычной структуры в неожиданный для неё контекст [30]. «Остраненное изображение накладывается на привычное видение» [9: 48], вызывая диссонансные отклонения от рецептивных ожиданий. Внося в художественный образ диссонанс и подчеркивая «неожиданное противоречие» в описываемом предмете [27: 49], при текстовой лаконичности деталь перцептивно «интенсивна», «стремится быть выделенной, остановить читателя, приковать на миг особое его внимание» [7: 310]. Отсюда особая роль детали как «авторской указки» [20: 97] в координации совместного внимания субъектов дискурса и тесная связь формата детализации сцены с их пространственно-временной перспективой [27]. Особо значимыми при этом будут детали начальные и заключительные, вынесенные автором в сильную позицию и «осуществляющие структурное разграничение малых сегментов текста как эквивалентных “квантам” смысла» [23: 16].
Сказанное свидетельствует об особой значимости детали в рамках стратегии перевода, ориентированной на доминанту ХУДОЖЕСТВЕННОЕ. Значимыми для переводчика при этом будут не только «внутренние» интеллектуально-психологические детали, раскрывающие мысли, чувства, переживания, желания и мотивы поступков персонажей, но и детали «внешние» – предметно-изобразительные, которые, изначально используясь для портретной характеристики персонажа (лицо, телосложение, манера речи, манера поведения, одежда, жесты, мимика), описания пейзажа, интерьера, атрибутики и экфрасиса, часто переходят в детали «внутренние» [8; 22; 27]. Кроме того, в структуре художественного целого «детали функционируют не разрозненно, а складываются в строго, хотя и неявно упорядоченную систему художественных значимостей» [22: 54], а протяженные и разветвленные цепочки повторяющихся в различных эпизодах деталей (их вариаций) образуют лейтмотивы, выводящие на художественную идею и художественные символы [22: 54; 27: 49]. Соответственно точной передачи в тексте переводчика требуют детали, реализующие конструктивно-смысловые сцепления отдельных образов и событий в структуре художественного целого.
Интересный пример – серия финальных сцен (последние два абзаца) первой главы романа «The Great Gatsby» Ф.С. Фитцджеральда. Сцены сюжетообразующие: диегетический нарратор Ник впервые видит Джея Гэстби. Ник наблюдает издалека, не видя лица Гэстби (лишь высвеченный светом луны силуэт – figure ), но при этом проявляет неожиданную эмпатию ( a sudden intimation, was content ) и предстает как тонкий наблюдатель человеческой натуры ( in a curious way, I must have sworn) , что сцепляет эти сцены с откровениями Ника в прологе и эпилоге, закольцовывая композицию. Появление Гэтсби при этом крайне театрально (как и его вечеринки): фигура Гэтсби попадает в фокус внимания Ника неожиданно, будто высвечивается театральной рампой из мрака сцены. Наконец, эпизоды полны описательных деталей, не только подводящих (через нагнетание звука и атмосферы) к долгожданному появлению Гэстби, но и лейтмотивом сцепляющих всё повествование в единое целое. Они репрезентируют символические в хронотопе романа концепты МУЗЫКА ( loud, beating, persistent organ sound, full bellows of the earth, unquiet ), СВЕТ ( pools of light, shed, bright night, silver pepper of the stars, shadow, dark, green light, darkness ), ОДИНОЧЕСТВО ( abandoned , alone, far away, single, vanish ), БЛИЗОСТЬ ( stretched, a sudden intimation, I must have sworn ) и кроме того последовательно вводят в фокус внимания движущий жизнью Гэстби символ зеленого огонька ( trees, grass, frogs, lawn, single green light ), метонимически отсылающий не только к образу Дейзи, но и к доминантному в структуре романа концепту ДЕНЬГИ (по цветовой ассоциации). Многие из этих деталей достаточно точно переданы в двух, с нашей точки зрения, наиболее удачных русских переводах:
-
(4) The silhouette of a moving cat wavered across the moonlight, and turning my head to watch it, I saw that I was not alone – fifty feet away a figure had emerged from the shadow of my neighbor’s mansion and was standing with his hands in his pockets regarding the silver pepper of the stars. <…> But I didn’t call to him, for he gave a sudden intimation that he was content to be alone – he stretched out his arm s toward the dark water in a curious way , and, far as I was from him, I could have sworn he was trembling. (‘The Great Gatsby’, chap. 1 [37]).
-
(5) Мимо черным силуэтом в голубизне прокралась кошка, я повернул голову ей вслед и вдруг увидел, что я не один – шагах в пятидесяти, отделившись от густой тени соседского дома, стоял человек и, заложив руки в карманы, смотрел на серебряные перчинки звезд. <…> Но я так его и не окликнул, потому что он вдруг ясно показал, насколько неуместно было бы нарушить его одиночество: он как-то странно протянул рук у к темной воде, и, несмотря на расстояние между нами, мне показалось, что он весь дрожит. (пер. Е. Калашниковой, 1965 [25]).
-
(6) Силуэт вышедшей на прогулку кошки волнообразно проплыл мимо меня в свете луны, и , поглядев ей вслед, я обнаружил, что не одинок – какой-то мужчина выступил в футах пятидесяти от меня из тени соседского особняка и остановился , держа руки в карманах и вглядываясь в серебристую россыпь звезд. <…> Но не окликнул, поскольку он дал вдруг понять, что одиночество по душе ему, – протянул странноват ым движением руки к темной воде и даже при том расстоянии, что разделяло нас, я готов был поклясться, что он дрожит. (пер. С. Ильина, 2015 [26]).
Вместе с тем, в версии Е. Калашниковой появляется несвойственная Нику (на что указано в прологе) оценочность суждений (насколько неуместно, как-то странно ), то есть по сути звучит голос нарратора с иным складом ума и ценностным горизонтом. Кроме того, в голосе Ника появляется неуверенная модальность кажимости (мне показалось) , что снижает его природный дар к эмпатии. Реорганизуется структура знаковой сцены появлении Гэстби: техника детализации этой сцены напоминает скорее динамичный зум кинокамеры (формат отдаления), а не статичную вспышку театральной рампы. Наконец, трансформируется символьный в структуре образа Гэтсби жест с зеленым огоньком, сцепляющий первую главу с эпилогом, где этот жест переосмысливается: в первой главе герой Е. Калашниковой почему-то протягивает к огоньку причала лишь одну руку (в эпилоге упоминаются уже обе руки) и при этом весь дрожит (как от холода или страха?). Такой жест действительно кажется странным (негативная оценка, невозможность понять), а не просто любопытным и необычным ( curious ). В переводе С. Ильина сцена появления Гэстби на сцене-лужайке динамична, а не статична как в оригинале: герой как будто бы впервые выходит на сцену повествования из-за кулис, тогда как в исходной модели мира Гэтсби незримо присутствует на этой сцене с первых страниц. Жест героя в сцене с огоньком также кажется странным (плюс вновь не свойственная голосу Ника критика): Гэстби протягивает руки к воде странноватым движением , но как именно, неясно, и эту ключевую сцену за счет добавления ненужной подробности сложнее визуализировать.
Данный пример ставит вопрос об эстетической целесообразности нарративной реконфигурации художественного универсума (слияние и дробление кадров и эпизодов, расщепление и трансформация деталей и конструируемых через них образов, иные формы редетализации), типично имеющей место в результате синонимических замен, грамматических перестановок и синтаксических трансформаций. Изображение этого универсума, континуального по своей природе, в форме определенным (и единственно возможным для автора) образом выстроенной последовательности дискретных деталей, кадров и эпизодов (нарративные коды) эстетически значима. Альтернативные формы (конфигурации), в которые зачастую «уводит» читателя переводчик, будут нести информацию об ином универсуме, особенно если сдвиги на уровне детализации в объектной композиции инициируют сдвиги в системе точек зрения (уровень глоссализации), как в проанализированных примерах с Ником.
Во многих случаях подобные сдвиги вызваны не столько фактами языковой асимметрии, которую призван и вынужден преодолевать переводчик, сколько, вероятно, интуитивным стремлением переводчика и редактора к «рекурсивной идиоматичности» (стереотипность и естественность формы выражения некоторого смысла [17: 65]). Между тем, к художественному переводу данная норма не применима, поскольку это искусство требует навыков поиска «нестандартного, неизбитого, экспрессивного и потому “искусного” соответствия» [17: 67]. С сожалением приходится констатировать, что de facto дискурс переводной художественной литературы тяготеет к стереотипной «нормальности». По яркому замечанию Е.Г. Эткинда, язык здесь «аккуратный, чистенький, дистиллированный, хлорированный» – «все отвечает норме (неведомо где и когда установленной) и не выходит за пределы того, что разрешается школьными хрестоматиями для младших классов» [34: 26].
Подведём итоги. Категория ХУДОЖЕСТВЕННОЕ как стратегическая доминанта переводчика мотивирована стремлением дать реципиенту шанс стать равноправным субъектом поэзиса. Подобная цель предполагает учёт исходной формы детализации (концептуальной конфигурации) инициируемых «телом» текста кадров ментального видения и рассмотренных в статье принципов (механизмов) построения и работы художественной структуры. Данные принципы превращают «тело» текста произведения в когнитивный инструмент организации процессов рецептивного поэзиса и предполагают диалогическую трактовку дискурса как «пикника, на который автор приносит слова, а читатель – значения» (Н. Фрай) [цит. по: 28: 136]. При принятии подобной трактовки задача переводчика состоит не только в бережном обращении со скатертью текста и вежливом обращении с собравшим всех автором. Важно также не забыть пригласить на пикник друга-читателя и дать тому свободу выбора интерпретации и право на эстетическое переживание, без которых невозможны поэзис и художественность. Рассмотренные в статье когнитивно-эстетические механизмы (операторы поэзиса и художественности) призваны помочь переводчику справиться с этой задачей.
Список литературы Эстетические доминанты стратегии художественного перевода
- Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литератур, 1975. 504 с.
- Галеева Н.Л. Основы деятельностной теории перевода. Тверь: ТвГУ, 1997. 80 с.
- Гарбовский Н.К. Теория перевода. М.: МГУ, 2004. 544 с.
- Гиршман М.М. Литературное произведение: теория художественной целостности. 2-е изд., доп. М.: Языки славянских культур, 2007. 560 с.
- Гиршман М.М., Домащенко А.В. Образ художественный // Поэтика: Словарь акту-альных терминов и понятий / Гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. М.: Intrada, 2008. С. 149-151.
- Горбова А. Трудности перевода: На хлебном поле между пропастью и обрывом // Журнал о детской литературе "Переплет". 2016. № 12. [Электронный ресурс]. URL: http://vpereplete.org/2016/12/trouble-translation/ (дата обращения: 30.08.2020).
- Добин Е.С. Сюжет и действительность. Искусство детали. Л.: Советский писатель, 1981. 432 с.
- Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учеб. пособ. 3-е изд. М.: Флинта, Наука, 2000. 248 с.
- Заика В.И. Очерки по теории художественной речи. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2006. 407 с.
- Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М.: Р.Валент, 2014. 408 с.
- Лабиринт.ру - книжный магазин. Рецензия на книгу "Над пропастью во ржи. Ловец на хлебном поле" Дж. Сэлинджера [Электронный ресурс]. URL: www.labirint.ru/reviews/goods/556581 (дата обращения: 30.08.2020).
- Латышев Л.К. Технология перевода: учеб. пособ. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Академия, 2005. 320 с.
- Леонтьева К.И. Когнитивные доминанты и социокультурная перспектива в художественном переводе // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2019. № 4 (63). С. 199-210.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Анализ поэтического текста. СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2016. 704 с.
- Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: Бахтин под маской. Маска вторая. М.: Лабиринт, 1993. 207 с.
- Разумовская В.А. Художественный образ как единица перевода: булгаковская Маргарита // Вестник ЧелГУ. 2014. № 6. С. 25-31.
- Рябцева Н.К. Прикладные проблемы переводоведения: Лингвистический аспект. М.: Флинта-Наука, 2013. 224 с.
- Сэлинджер Дж. Д. Над пропастью во ржи. Ловец на хлебном поле / Пер. с англ. Р. Райт-Ковалевой, М. Немцова. М.: Эксмо; Like Book, 2017. 576 с.
- Топер П.М. Перевод в системе сравнительного литературоведения. М.: Наследие, 2001. 254 с.
- Тюпа В.И. Анализ художественного текста: учеб. пособ. для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений. 3-е изд, стер. М.: Академия, 2009. 336 с.
- Тюпа В.И. Введение в сравнительную нарратологию. М.: Intrada, 2016. 145 с.
- Тюпа В.И. Деталь // Поэтика: Словарь актуальных терминов и понятий / Гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. М.: Intrada, 2008. С. 54.
- Тюпа В.И. Художественный дискурс. Тверь: ТвГУ, 2002. 80 с.
- Фещенко В.В., Коваль О.В. Сотворение знака: Очерки о лингвоэстетике и семиотике искусства. М.: Языки славянской культуры, 2014. 640 с.
- Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби / пер. с англ. Е. Калашниковой. СПб.: Азбука, Азбука-классика, 2016. 256 с.
- Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби / пер. с англ. С.Б. Ильина. М.: Издательство "Э", 2017. 224 с.
- Чернец Л.В. Деталь // Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины / под ред. Л.В. Чернец. М.: Высшая школа, 1999. С. 42-51.
- Чернявская В.Е. Метапрагматика коммуникации: когда автор приносит свое значение, а адресат свой контекст // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2020. № 17 (1). С. 135-147.
- Чуковский К.И. Высокое искусство. СПб.: Авалонъ; Азбука-классика, 2008. 448 с.
- Шкловский В.Б. Искусство как прием // Шкловский В.Б. Гамбургский счет. М.: Советский писатель, 1990. С. 58-72.
- Шмид В. Нарратология. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Языки славянской культуры, 2008. 304 с.
- Шпет Г.Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры. М.: РОССПЭН, 2007. 712 с.
- Энгельгардт Б.М. Феноменология и теория словесности. М.: НЛО, 2005. 464 с.
- Эткинд Е.Г. Теория художественного перевода и задачи сопоставительной стилистики // Теория и критика перевода. Л.: ЛГУ, 1962. С. 26-33.
- Bruner J. The Narrative Construction of Reality // Critical Inquiry. 1991. Vol. 1 Pp. 1-21.
- Caracciolo M. The Experientiality of Narrative: An Enactivist Approach. Berlin: De Gruyter, 2014. 231 p.
- Fitzgerald F.S. The Great Gatsby. London: Penguin, 1994, 190 p.
- Hutto D. The Narrative Practice Hypothesis: Origins and Applications of Folk Psychology // Royal Institute of Philosophy Supplement. 2007. Vol. 60. Pp. 43-68.
- Salinger J.D. The Catcher in the Rye. London: Penguin, 2018. 240 p.
- Turner M. The Literary Mind: The origins of language and thought. New York: Oxford University Press, 1996. 208 p.