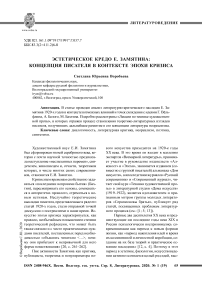Эстетическое кредо Е. Замятина: концепция писателя в контексте эпохи кризиса
Бесплатный доступ
В статье проведен анализ литературно-критического наследия Е. Замятинв 1920-х годов в контексте возможных влияний и точек схождения с идеями Г. Вёльфлина, А. Белого, М. Бахтина. Подробно рассмотрены «Лекции по технике художественной прозы», в которых отражен процесс становления теоретико-литературных взглядов писателя, получивших дальнейшее развитие в его концепции литературы неореализма.
Диалогичность, литературная критика, неореализм, поэтика, синтетизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149131945
IDR: 149131945 | УДК: 821.161.1.09"1917/1991":7.037.7
Текст научной статьи Эстетическое кредо Е. Замятина: концепция писателя в контексте эпохи кризиса
Художественный вкус Е.И. Замятина был сформирован эпохой серебряного века, которая с почти научной точностью предсказала наступление «неслыханных перемен», свидетелем, живописцем и, отчасти, теоретиком которых, в числе многих своих современников, становится Е.И. Замятин.
Кризисным временам свойственно задаваться «последними вопросами бытия» (Бахтин), пересматривать его основы, сомневаться в авторитетах прошлого, стремиться к новым истинам. Неслучайно теоретические выкладки писателя, представленные в ряде его статей 1920-х годов, стали отправной точкой дискуссии о постреализме в наше время. Искусство эпохи кризиса характеризуется, как правило, необычайным повышением степени теоретической рефлексии, что может быть также связано и с чисто практическими нуждами писателей, поставленных перед необходимостью «объяснять читателю <…>, почему они прибегают к непривычной для него форме повествования» [20, с. 261–262].
Пик активности Замятина как критика, публициста, теоретика и популяризатора но- вого искусства приходится на 1920-е годы ХХ века. В это время он входит в коллегию экспертов «Всемирной литературы», принимает участие в руководстве издательств «Алконост» и «Эпоха», занимается изданием (совместно с группой писателей) альманаха «Дом искусств», а впоследствии журналов «Русский современник» и «Современный журнал», читает свой курс «Техника художественной прозы» в литературной студии «Дома искусств» (1919–1922), является вдохновителем и признанным мэтром группы молодых литераторов «Серапионовы братья», публикует ряд статей, посвященных проблемам литературного процесса (см.: [1; 5; 13]).
Первые два десятилетия ХХ века и предшествующие им последние годы века ХIХ в России психологически воспринимались современниками как переход к новым формам жизни, как «период накопления идей и время их коллективной и личностной апробации, создание на их базе теорий и практическое освоение последних» [12, с. 4]. Поэтому в этот период в эстетике, филологии, искусствоведении активно осознается целый ряд идей, выс- казанных зачастую в разной форме и в разные годы, в рамках разных школ и направлений, но тем не менее в комплексе своем оформивших общую тенденцию развития искусства в целом и литературы в частности.
Фактом, не лишенным, на наш взгляд, символического смысла, является публикации именно в год рождения Е.И. Замятина (24 июня 1884) статьи Н. Минского (Николая Максимовича Виленкина) «Старинный спор» (Киев, газета «Заря»), в которой были высказаны вполне революционные идеи ревизии существующих методов искусства, по причине того, что у последнего имеются свои собственные цели и задачи, мало сходные с потребностью исправлять общественные нравы. Отказ автора статьи объединять в дальнейшем этику с эстетикой, а художественность с учительством и исповедальностью, был связан с началом «великого похода» нового искусства на реализм, итогом и результатом которого можно считать признание неклассического характера литературы и искусства всего ХХ века.
Критике реалистического объективизма и детерминизма «корсетно-литературного» языка, «дормезного» неторопливого повествования, свойственного русской реалистической литературе ХIХ-го века, а также ее приверженности к быту, «земле», Е. Замятин отдаст дань в своих статьях, написанных в 1920-е годы, придя к парадоксальному утверждению художественной «нереалистичности» классического реализма (см.: [9, с. 392]).
В 1910 г. Е.И. Замятин, переживший уже свой литературный дебют (рассказ «Один» напечатан в журнале «Образование» осенью 1908 г.), как начинающий литератор, по всей видимости, не мог не интересоваться той «трудной дискуссией о символизме» (см.: [15, с. 78–134]), которая проходила на страницах российских журналов («Русская мысль», «Аполлон», «Мир искусства»). Высказанная В. Брюсовым мысль о том, что будущее явно принадлежит какому-то еще не найденному синтезу между реализмом и идеализмом, возможно, была воспринята Е. Замятиным как сигнал к действию, определив начало как его собственных художественных исканий, так и его теоретико-литературных изысканий. Через год будет написана повесть «Уездное», принесшая Замятину признание и первый успех в кругах маститых литераторов, а спустя еще десяток лет идеи нового искусства, краеугольным камнем которого Замятин назовет принцип синтетизма, будут осознаны им в виде достаточно завершенной концепции неореализма и высказаны как в курсе лекций «Техника художественной прозы», так и в ряде статей: «Завтра» (1919), «О синтетизме» (1922), «Новая русская проза» (1923), «О сегодняшнем и современном» (1924).
Классическое образование, заграничные командировки, прекрасное знание английского языка, глубокий интерес к искусству и литературе Западной Европы не позволяет рассматривать феномен замятинского универсума вне контекста зарубежной (западноевропейской) философии и культуры. Кант, Ницше, Шопенгауэр, Молешотт, Гэккель, Фейербах, Гегель – их имена встречаются в его «Лекциях», критических статьях, публицистике. Но, по справедливому наблюдению Л. Геллера, «курьезной чертой психологии» Е. Замятина является тот факт, что «он почти никогда не называет прямо тех, кто на него повлиял» [6, с. 18]. В этом плане, на наш взгляд, будет верным отметить, что традиционное для тех лет увлечение идеями синтеза искусств, аналогиями между его разными видами (литература – музыка – живопись), а также использованием терминологического и понятийного аппарата искусствоведения применительно к произведениям словесного творчества, были в значительной мере упрочены известной работой Генриха Вёльфлина «Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции и стиля в новом искусстве» (1915), где автор, исследуя переход стиля эпохи Возрождения в искусство барокко, выдвигает пять «руководящих понятий», имеющих «общезначимую ценность». При ближайшем рассмотрении все они имеют достаточно четкие параллели в литературно-критических работах Е. Замятина. Проиллюстрируем это примерами.
Первым пунктом у Г. Вёльфлина значится «развитие от линейного к живописному, то есть выработка линии, как пути взора и водительницы глаза, и постепенное ее обесценивание. Говоря общее: восприятие тел с их осязательной стороны – со стороны очертания и поверхности – с одной стороны, и, с другой, такое постижение вещей, которое сводимо к одной лишь оптической видимости и может обойтись без “осязательного рисунка”» [4, с. 45].
У Е. Замятина в его лекции «Фактура и рисунок» читаем: «Следование, подчинение своим впечатлениям во всем методе описывания героев. В сущности, прежнего описания – в смысле последовательного, точного указания всех признаков – даже теперь и нет – просто скучно, утомляет. Почему? Потому что не соответствует действительному ходу наших восприятий, впечатлений. Первое – мы никогда не воспринимаем человека сразу: по частям. Отсюда раздробленное описание... Второе – сразу воспринимаем только какую-нибудь одну-две характерных черты, в которых синтез всей личности... Надо избегать утомления, напрасной траты внимания читателя… Показ, а не рассказ. Показывать в действии. Автор переживает не когда-то, а в самый момент рассказа... Образы – смысловые и звуковые, мыслеобразы и кускообра-зы » [11, с. 176]. Общим для данных высказываний становится отправной момент: оба отталкиваются от логики получения впечатлений, оба настаивают на отказе от последовательного показа, «вождения взгляда», оба отвечают стилевую доминанту, направленную на создание образа-впечатления, «синтеза всей личности», лишенного утомительного следования за автором.
Вторым «руководящим понятием» Г. Вёльфлин считает «развитие от плоскостного к глубинному. Классическое искусство располагает части формального целого в виде ряда плоскостных слоев барочное – подчеркивает их размещение вглубь» [4, с. 67]. Речь идет о специфике живописной композиции, создающей новы вид перспективы. Но высказывание Г. Вёльфлина вполне может быть воспринято и в метафорическом ключе: от плоскостного (поверхностного, описательного) изображения – к глубинному (обобщающему, символическому). В этом аспекте мысль немецкого исследователя вполне созвучна замятинской картине диалектического развития искусства от реализма – через символизм – к синтетизму. Выстраивая эту диалектическую триаду, Замятин использует «сложный набор стекол»: «простой глаз» реализма, «рен- тгеновский луч» символизмв и их последующий «синтез», который, описывая реальность мира, быт, помнит о том, что скрывается в глубине, за поверхностью.
Третье вёльфлинское «понятие» гласит: «Развитие от замкнутой к открытой форме. Каждое произведение должно быть замкнутым целым, и нужно считать недостатком, если обнаруживается, что оно не ограничено самим собой... Ослабление суровых правил, смягчение тектонической строгости –... означает не просто увеличение привлекательности, но является последовательно проведенной новой манерой изображения» [4, с. 89].
В своем курсе лекций «Техника художественной прозы» Замятин, размышляя над приемами нового искусства, постоянно касается этой антиномии: целостности, замкнутости, органичной слитности, единства всех частей произведения, отсутствия в его ткани лишнего, только самоценного («требование неэпизодичности, требование живой, органичной связи с фабулой»), с одной стороны, и установки текста на активное сотворчество с читателем, предполагающей у Замятина «незаконченность фразы», «ложные отрицания и утверждения», «пропущенные ассоциации, намеки», «реминисценции». Они, по его мысли, и обусловливают, оформляют «новую манеру» синтетического искусства, вполне соотносимую по сути своей с «открытой формой» Г. Вёльфлина.
В качестве четвертого «руководящего понятия» Г. Вёльфлиным назван процесс развития «от множественности к единству. В системе классической слаженности отдельные части, как бы прочно они ни были связаны с целым, все же обладают какою-то самостоятельностью ... гармония свободных частей или соотнесение элементов к одному мотиву (подчинение второстепенных элементов безусловно руководящему» [4, с. 123].
У Е. Замятина эта мысль представлена в достаточно развернутом виде как одна из центральных в его лекции «О сюжете и фабуле»: «...единство действующих лиц для современного романа, повести – обязательны... Если кажется, что какой-нибудь эпизод, какое-нибудь действующее лицо очень интересно и ценно само по себе, нужно суметь связать этот эпизод с фабулой какими-то неразрыв- ными, живыми нитями, нужно изменить фабулу так, чтобы этот эпизод или эпизодическое действующее лицо стали необходимыми». Далее, говоря об обязательности интермедий, обеспечивающих «отдых читателя», Замятин подчеркивает, что «...автор должен позаботится, чтобы пейзаж или обстановка не были нейтральными: они должны быть связаны с фабулой, с переживаниями действующих лиц» [11, с. 189].
И наконец, пятое и последнее «руководящее понятие» Г. Вёльфлина формулирует требование «абсолютной и относительной ясности предметной формы», т.к. «неясность всегда производит отталкивающее впечатление». «Однако ясность мотива перестала быть самоцелью изображения: больше не требуется, чтобы глазу открывалась доведенная до совершенства форма – достаточно, если дан опорный пункт». Завершая эту сентенцию, Г. Вёльфлин утверждает, что подобный отказ от классической ясности – это «не прогресс, и не упадок, но другая ориентация к миру» [4, с. 179].
Именно с другим взглядом (= ориентацией) на мир связывает и Е. Замятин принципы нового искусства: «Реалисты изображали кажущуюся, видимую простым глазом реальность; неореалисты чаще всего изображают иную, подлинную реальность, скрытую за поверхностью жизни так, как подлинное строение человеческой кожи скрыто от невооруженного глаза» [11, с. 204]. Далее, размышляя над новым методом художественного постижения действительности, Замятин утверждает принцип сотворчества писателя и читателя, воплотить в жизнь который помогает, по его мнению, особая организация словесного материала, особые «приемы», объединенные тем, что у Г. Вёльфлина названо «опорным пунктом»: «Нанесенные на бумагу вехи оставляют читателя во власти автора, не позволяют читателю уклониться в сторону; но вместе с тем пустые, незаполненные промежутки между вехами, – оставляют свободу для частичного творчества самого читателя, соучастника творческой работы» [4, с. 186].
Мы не утверждаем наверняка, что именно работа Г. Вёльфлина оказала непосредственное формирующее воздействие на теоретические и философские взгляды Е. Замятина, но все же очевидные параллели, вер- бальные и понятийные переклички между ней и теоретико-эстетическими высказываниями последнего, сам ход размышлений, их логика подтверждают вероятность этого влияния. Вполне возможно, что идеи Г. Вёльфлина дошли до Замятина в чьей-то посреднической интерпретации (в русском переводе этот труд появился только в 1930 году). Таким образом, отмеченный последовательный параллелизм взглядов подтверждает лишний раз то, что некоторые идеи носятся в воздухе, доказывая принцип объективности знания.
У Замятина многое идет от приемов изобразительного искусства, от наглядности рисунка, живописного полотна – не случайно среди его друзей, единомышленников, соавторов, два ярких художника современности – Юрий Анненков и Борис Кустодиев. Возможно, в этом проявились и профессиональные навыки корабельного инженера: склонность к четкой графичности линий чертежа. Это личностное качество писателя оказалось удивительно органично духу времени, отвечая потребностям нового искусства. В связи с этим выскажем предположение, что к центральной идее своей теоретической концепции – идее сотворчества (несомненно сформировавшейся в том числе и в русле эстетических открытий русского символизма) – Замятин приходит, оттолкнувшись во многом от живописных и архитектурных образов современности. Теоретические, литературно-критические высказывания Замятина буквально пестрят аналогиями литературных приемов, стилей со статическими искусствами. Их влиянию (в основном, все же речь идет о живописи, рисунке, архитектуре) на художественную манеру писателя посвящена целая отрасль современного замятиноведения.
Отрицая принципы «дормезного» реализма, говоря о его исторической ограниченности и эстетической «несовременности», неадекватности изменившемуся восприятию мира, Замятин практически в одинаковой степени подвергает критике и символизм, хотя при этом признает генетическое родство с ним неореализма, теоретиком и практиком которого он и считал себя: «Они (писатели-неореалисты. – С. В. ) выросли несомненно под влиянием символистов. Они питались сладкой горечью Гиппиус, Блока» [11, с. 201].
Именно в рамках символизма был сформирован и теоретически осознан принцип сотворчества. «Ориентация на слушателя на чужое сознание, прямо вступающее в отношение с авторским, заключена в самой сути символизма», – утверждает Е.В. Ермилова, цитируя далее «Борозды и межи» Вячеслав Иванова. «О символизме можно говорить, лишь изучая произведение в его отношении к субъекту воспринимающему и к субъекту творящему, как к целостным личностям» [8, с. 39].
Наиболее последовательно эта концепция развивается в дальнейшем в трудах Андрея Белого. Увлеченный открытиями А.А. Потебни, сосредоточившись на «оживлении слова» и проповедуя равенство жизни и творчества («жизнь и есть творчество. Более того: жизнь есть одна из категорий творчества» [3, с. 154]), Андрей Белый видел цель художественной коммуникации в том, чтобы «путем соприкосновения двух внутренних миров зажечь третий мир, нераздельный для общающихся и неожиданно углубляющий индивидуальные образы души» [3, с. 133]. Фактически в этих словах утверждается идея диалогичности художественного текста, которая будет теоретически осмыслена и значительно обогащена филологически уже в трудах М.М. Бахтина.
Очевидной заслугой Андрея Белого является его стремление найти практические пути средства создания «живого слова», «живого общения», нащупать «технику» создания ситуации сотворчества. Увлеченный потебни-анской концепцией «внутренней формы» слова, он как будто игнорирует другое принципиально важное утверждение ученого-филолога – о сущностном подобии процессов формирования образности на уровне слова и произведения в целом. Собственные изыскания Андрея Белого, как правило, ограничиваются, в основном, лексической сферой (эпитет, метафора, метонимия, синекдоха).
Е. Замятин, вдохновленный словами Андрея Белого о том, что «в настоящее время оценка художественного произведения состоит в связи со специальными условиями художественной техники», что, как бы ни был силен талант, «он связан со всем техническим прошлым своего искусства» [3, с. 242], увлеченно занимается выработкой основных («технических») приемов «художественного ремесла», «техникой художественной прозы». Его поиски – плод размышлений над особыми формами организации художественного текста, рассчитанными прежде всего на создание ситуации сотворчества, над возможностями и спецификой читательского восприятия (рецепции), над проблемой сохранения эстетической целостности художественного произведения при максимальной его ди-алогизации (реализации заключенных в нем возможностей к сотворчеству).
Таким образом, если мысленно представить себе линию, логически соединяющую теоретические открытия и наработки символизма в области формирования и осознания новой художественности (с ее принципиальной ориентацией на сотворчество художника и читателя) и основные идеи концепции диалога М.М. Бахтина, то Замятин и его «техническая» эстетика также будет по праву располагаться вдоль этой воображаемой линии, максимально отражая общую амплитуду рефлективных колебаний той эпохи.
Об этом свидетельствует еще одно важное «схождение», явные и скрытые переклички с концепцией М. Бахтина.
Об укорененности концепций Бахтина в духовной атмосфере 1920-х годов пишет Н.Р. Скалон [19], упоминая известную статью Л.П. Якубинского «О диалогической речи», опубликованную в 1923 г. Лекция «Диалогический язык» была прочитана Замятиным несколько раньше, в 1919–1920 годах. Терминологические совпадения в них отнюдь не случайны, как не случайна и общность самой логики рассуждений, приведшей обоих авторов к понятию «диалог». Ход рассуждений Е. Замятина таков: новое искусство должно отвечать новому восприятию мира («американизация» жизни, убыстрение времени, смещение привычных осей координат), этим новым требованиям как нельзя больше подходит разговорная («не-корсетная», «не-литера-турная») речь с ее динамикой, пропусками того, что и так ясно, подчеркнутой индивидуализацией: «Словом, мой тезис таков: в современной художественной прозе язык должен быть по возможности близок к разговорному, непринужденном, живому языку», – делает вывод писатель [11, с. 196]. Далее у Замятина вполне отчетливо прослеживается мысль об антитезе «монолога» и «диалога» практически в том же ключе, что и в статье Л.П. Якубинского, где противопоставлен «естественный», «природный» диалог «искусственному» монологу (см.: [23, с. 72–73]).
Несмотря на то, что сам Е. Замятин теоретически обосновывает и собственный художественный метод, и приемы письма, и критерии художественности, возникает некий парадокс. Практически все исследователи замятинского критического дискурса либо констатируют эту особенность его мышления, либо ссылаются на его статьи, но при этом само литературно-критическое наследие остается как бы за кадром серьезного и постоянного внимания. Складывается устойчивое (и во многом превратное) впечатление, что Замятин, размышляя о важных проблема искусства, выступая «тонким и умным теоретиком» (Л.В. Полякова), создателем «целостной, стабильной системой эстетических взглядов» (Г.Н. Боева), автором «вполне наукообразной характеристики ритма и инструментовки» (Ю.Б. Орлицкий), все-таки не дотягивает до серьезного отношения к себе именно в этой роли.
Для того, чтобы глубже понять сущность замятинских теоретических представлений о литературе и искусстве в целом, важно, на наш взгляд, проследить логику их формирования и динамику их развития. Не претендуя в рамках данной статьи на исчерпывающее рассмотрение теоретической и критической части замятинского наследия, попробуем представить общую его картину в исследуемый период, определив его концептуальный центр.
Начало карьеры Замятина-критика было вполне традиционным: за 1914 год он трижды выступил в роли рецензента. Эти публикации по праву можно считать началом, пробой пера будущего аналитика и теоретика литературного процесса. «Скромным началом многолетней работы» назвал эти несколько публикаций А.И. Галушкин [5, с. 98]. Жанр рецензии, причисляемый обычно к «литературной поденщине», предполагает не только представление рецензируемого автора, но и личности самого рецензента. В этом отношении Замятин полностью использует возможности жанра, демонстрируя свое неординарное видение художественного текста. Особенно ярко эта его черта проявилась в рецензии на четырехтомник Бернгарда Келлермана (романы «В туннеле», «Ингеборг», «Море», «Идиот»), вышедший в 1913–1914 гг. в издательстве «Прометей».
Во-первых, Замятиным очень талантливо выбрана речевая манера начала рецензии: о событиях, якобы происходящих в центре индустриального мира (Америка, Европа), повествуется тоном обывателя российской глубинки: «Мы-то, известно, на кухне у Господа Бога живем – про нас-то уж что толковать. А вот как в чистых-то горницах народу живется, в Европах разных, да Америках?» [10, с. 17]. Этот стилистический прием позволяет максимально увеличить дистанцию между позицией рецензента и содержанием романа, максимально удалить точку его вне-положенности, в результате сарказм, рождаемый этим огромным смысловым зазором (Америка – русская провинция), задает определенную интонацию всей рецензии. Более того, поставив многоточие в конце изложения сюжетной канвы романа, Замятин вновь как бы апеллирует к встречной читательской активности, отказываясь от характерной для рецензии прямой оценки.
Во-вторых, Замятин, излагая содержание, постоянно имеет в виду ту художественную целостность, которую придают роману сквозные образы-символы, и ненавязчиво, исподволь сообщает о них читателю («бес-Туннель», «машинный бог», «вавилонская башня», «стихия»). Оба приема выдают в рецензенте прежде всего художника, подошедшего к оценке другого художника с позиций выработанной устойчивой эстетической концепции, устойчивой системы взглядов не только на содержание его произведений, но и на их поэтику. В-третьих, по наблюдению Л.В. Поляковой, «обращает на себя внимание некая избирательность рецензента: прежде всего и больше всего его интересует роман «В туннеле»» [18, с. 23]. Он потрясает Замятина не только своим содержанием, но и новыми для Келлермана особенностями поэтики: «Странно читать городского Келлермана, – каков он в “Туннеле”. Не таким мы знали его в прежних романах: нежным, певучим, тончайшим был он там: ловил зеленые шорохи, шепоты трав, глядел в голубую глубь. И вдруг – грохот и вихрь, и безумный пляс жизни, и смертельно бледные, усталые люди “Туннеля”. “Ингеборг” и “Туннель” – два конца Келлермана и две лучшие его вещи» [10, с. 17].
Мировидение Е. Замятина связано в этот период со стремлением подчинить все происходящее в сфере искусства, рациональной логике, очертить границы явления, увидеть диалектическое единство противоположностей. Таким образом, уже в этой ранней литературно-критической работе писателя ярко проявляется его стремление к контрастам, задающим эстетические дистанции , вовлекающим в процесс сотворчества. Значение этих начальных, первых выступлений Замятина в роли литературного критика еще предстоит оценить, но они «несомненно важны в истории творческого становления Замятина» [18, с. 23].
1918 год можно считать годом бурного рассвета злободневности в замятинской публицистике: «Скифы ли?», «Домашние и дикие», «О лакеях», «О белом угле», «О равномерном распределении», «Великий ассенизатор» – сами заглавия публикаций сатирически заостряются и сквозь них подчас просвечивается тенденция содержания. Отойдя на некоторое время от художественной прозы, Замятин сосредотачивается на собственной «модели жизнеповедения» (А.И. Галушкин). Вырабатывая ее в полемике с самыми разнообразными литературными группировками и писателями (Блок «Скифы», футуристы, Пролеткульт), Замятин приходит к пушкинскому идеалу «тайной свободы», пушкинскому пониманию писательского «самостояния»: «Художник более или менее крупный – творит для себя свой, особенный мир, со своими, особенными законами – творит по своему образу и подобию, а не по чужому. И оттого художника трудно уложить в уже созданный, семидневный отвердевший мир: он выскочит из параграфов, он будет еретиком» [11, с. 198]. Эта замятинская манифестация отчетливо следует призыву Пушкина судить художника лишь по законам, им самим над собой признанным. И, хотя у Замятина речь идет больше о давлении идеологического плана, все же в статьях и заметках именно этого периода начинает складываться образ «завтрашней» литературы, черты новой художественности.
Цитируя сегодня статью «Я боюсь», современные исследователи справедливо делают акцент на ее социально-политическом звучании, называя ее общественно-литературным манифестом писателя. При этом складывается впечатление, что для Замятина прежде всего важны именно сатира, сарказм, «железные Аристофановы бичи», то есть то, что оказывает формирующее, активное воздействие, и если бы при этом из процесса исчезло бы «одописание», он нисколько бы не пострадал.
Такое отношение помогает созданию образа «пронзительного, беспощадного аналитика, не обремененного предвзятостями обличителя, темпераментного полемиста» [21, с. 72], что, на наш взгляд, не совсем соответствует содержанию замятинского универсума. В его концепции и «бич Аристофана», и ода занимают равноправное место потому, что пафос и ирония – «катод и анод в литературе» [11, с. 214], те два полюса, которые и создают «антиэнтропийное» напряжение мысли . Это положение можно по праву считать основой эстетических взглядов Замятина на литературу и искусство в целом, т.к. именно оно породило импульс к рождению очень интересных мыслей, теоретических наблюдений и эстетических обобщений писателя, в силу чего те два с небольшим года – с октября 1918-го, когда в Лебедянском народном университете была впервые прочитана первая лекция «Современная русская литература», открывшая целый цикл замятинских лекций по технике художественной прозы, по 1922 год. Замятин проделал путь, который соотносим с полным кругом в диалектическом развитии, и который привел его к утверждению через отрицание: от требования «железных Аристофановых бичей» в качестве противовеса «бумажной литературе» к отрицанию любых форм «проповедничества» и пониманию «значения недоговоренности» [11, с. 203].
Несмотря на то, что теоретико-литературные взгляды Замятина излагались им достаточно четко в ряде программных статей, все же именно курс лекций «Техника художественной прозы», прочитанный в литературной студии «Дома искусств» в 1919–1922 го- дах, содержит, на наш взгляд, ценнейший материал, позволяющий говорить о последовательной концептуальности эстетических и теоретико-литературных воззрений Замятина. Более того, некоторые его наблюдения, сделанные «по поводу», вскользь, и не получившие у самого автора дальнейшей детальной разработки, носят отчасти прогностический характер, затрагивают проблемы, важность которых только еще будет осознана научной мыслью последующих десятилетий ХХ века. Все это является веским основанием для более внимательного подхода к сохраненным и опубликованным с огромным опозданием текстам «Лекций». Оставив в стороне методический, педагогический и историко-литературный аспекты «Лекций» Е.И. Замятина, коснемся прежде всего их эстетической и теоретико-литературной значимости, подвергнув их медленному прочтению.
Структура курса лекций «Техника художественной прозы» только на первый взгляд может показаться аморфной и лишенной строгой логики: 1. Современная русская литература. Вступительная лекция; 2. Психология творчества; 3. О сюжете и фабуле; 4. О языке; 5. Диалогический язык; 6. Инструментовка; 7. О ритме в прозе; 8. Расстановка слов; 9. О стиле; 10. Футуризм; 11. Чехов; 12. Пьесы (см.: [1, с. 572]).
Тем не менее определенная закономерность в расположении материала, несомненно, присутствует (см.: [17]) и сводима, на наш взгляд, к двум внутренним императивам: 1) от общего, внешнего, содержательного – к частному, внутреннему, формальному; 2) «docendo discimus» (уча, обучаюсь сам), который, в совокупности с особенностями речевой организации текста (устное выступление) придает всему курсу характер открытого диалога, собеседования. Замятин, излагая систематизированные им apriori наблюдения, иногда делает в процессе самого изложения некое открытие, начинает развивать его, зачастую уходя в сторону от намеченной магистральной прямой.
Особенно очевидным это становится в отношении рассуждений Замятина о сотвор-ческой функции художественного произведения. Так, в одной из начальных лекций «Психология творчества» он впервые, пожалуй, формулирует принцип, лежащий в основе его представлений о новой художественности, принцип, к которому он будет постоянно обращаться, развивать его: «Всегда лучше недоговорить, чем переговорить. У читателя, если он не рамоли (фр. “расслабленный, немощный человек”. – прим. Е. Замятина), всегда достаточно острые зубы, чтобы разжевать самому то, что вы ему даете: не надо преподносить ему жвачки» [11, с. 184].
Из этого фактически первого упоминания Замятиным о принципиальной установке на встречную творческую активность читателя, со временем разовьется тезис о сотворчестве как об обязательном признаке неореалистической художественности. Интересным представляется проследить текстуально трансформацию этого принципа в его «Лекциях».
Поначалу (лекции «О сюжете и фабуле», «О языке») концепция сотворчества как таковая Замятиным не формулируется: «Читателю предоставляется угадывать развязку самому. Этот прием допустим только в том случае, когда все психологические данные для развязки уже выяснены и читатель может без труда судить о ней по двум первым членам формулы» [11, с. 203]; и далее: «недопустимо вклеивать в текст слова, смысл которых совершенно непонятен читателю... давая читателю слово совершенно новое и незнакомое, надо преподносить его в таком виде: чтобы читателю было понятно если не точное значение его, то во всяком случае, его смысл» [11, с. 204]. Сотворческая функция реципиента, таким образом, сводима пока к легкому («без труда») угадыванию развязки, решению простого уравнения и все-таки к преподнесению если не «жвачки», то вещей вполне удобоваримых и понятных без писательского пояснения и встречного напряжения читательской мысли.
Понимая ограниченность и слишком очевидную «дормезность» подобного сотворчества, Замятин следует в своих размышлениях дальше и уже в конце следующей лекции, совершенно пророчески названной им «Диалогический язык», задается принципиально важным вопросом: «Почему эти обрывки предложений, разбросанные, как после какого-то взрыва, слова могут произвести на читателя воздействие более сильное, чем те же мысли и образы, построенные в правильные, мерно марширующие одна за другой шеренги?» [11, с. 206].
И здесь же, незамедлительно, подчиняясь импульсу первооткрывателя, Замятин дает ответ: «Воспроизводя этот эмбриональный язык мысли, вы даете мысли читателя только начальный импульс и заставляете читателя самого вот эти отдельные вехи мыслей связывать промежуточными звеньями ассоциаций или нехватающих элементов силлогизма? Нанесенные на бумагу вехи оставляют читателя во власти автора, не позволяют читателю уклониться в сторону; но вместе с тем пустые, незаполненные промежутки между вехами, – оставляют свободу для частичного творчества самого читателя, делая его соучастником творческой работы» [11, с. 207]. В приведенных выдержках ощутим страх избежать привычной еще формы повествования от лица всезнающего автора-демиурга, когда читателя «оставляют во власти автора», ощутимо уподобление его сознания волку, загнанному волей охотника на территорию, ограниченную красными флажками, внутри которой относительная свобода. Прогресс все же заметен: читателю уже позволено частично участвовать в творческом процессе.
В следующей лекции («Фактура, рисунок») Замятин уже готов идти на уступки читателю, но читателю, по его выражению, «развитому» (в этом логично усмотреть перекличку с принципами рецептивной эстетики с ее многоуровневым подходом к реципиенту, с обращением к участкам коммуникативной неопределенности): «автор только намекает читателю на главную, центральную мысль. Этот прием уместен только тогда, когда автору приходится иметь дело с очень развитой и умеющей воспринимать очень тонкие штрихи аудиторией» [11, с. 210].
Далее встречаем более еще смелое утверждение («Только вехи. путь между вехами пролагает уже читатель)», и предвидение новых видов образов: «смысловых», «звуковых», «мыслеобразах», «кускообразах» [11, с. 208]. Своеобразным апофеозом процесса «прощания с автором-всезнайкой» можно считать торжественную констатацию Замятиным триединства художественного слова: «творчество – воплощение – восприятие – три момен- та в художественном слове соединены: автор, он же актер, зритель – наполовину автор». Роли разделены Замятиным уже поровну, уже не чувствуется снисхождения к зрителю-читателю. И в заключение, тезисно, конспективно и кратко (особенности лекционного жанра) излагая свои наблюдения, Замятин отметит: «Значение недоговоренности: творчество самого читателя» [11, с. 211], окончательно сформулировав принцип креативного равенства автора и реципиента: «Драма даже не в словах, а в паузах между слов, в намеках. Заско-бочный зритель» [11, с. 212].
Итак, принцип недоговоренности представляется в «Лекциях» тем краеугольным камнем, который Замятин кладет в основание новой, рождающейся на глазах писателя, эстетик неореализма. «Лекции» интересны именно тем, что дают картину последовательного формирования этого принципа, его объективации и систематизации в эстетической концепции Замятина. «Недоговоренность» у Замятина – формальный признак такого построения художественного текста, при котором обеспечивается реальное со-творчество, соучастие в нем читательского сознания.
Нетрудно заметить, что Замятиным используются (правда, по началу несколько в ином смысле) термины, которые определят основную, концептуальную оппозицию теоретических построения М.М. Бахтина: диалог и монолог . В лекции «Диалогический язык» Замятин последовательно объясняет появление этого термина: «диалогический» – взятый из диалога, разговора, живой речи. Синонимичными ему понятиями в контексте рассматриваемого лекционного курса являются «современный художественный», «разговорный», «непринужденный», «живой», «не литературный», «не ораторский» «не корсетный».
Замятин при первом же употреблении этого понятия («диалогический») принципиально и значительно расширяет область его функционирования, утверждая, что таким языком должны быть написаны «не только диалоги, но и пейзаж, и описание обстановки, и описание персонажей» [11, с. 187]. В результате «диалогический» в контексте рассуждений Замятина – это не только формально принадлежащий диалогу в лингвистическом его понимании, но и несущий в себе потенциал со- творчества, особое дискурсивное качество – «диалогичность».
Остановившись довольно подробно на особенностях лингвистического приемах создания диалогичности (выделение придаточных предложений в самостоятельные, редкое употребление причастий, местоимения «который», использование частиц, усеченные, неполные предложения), Замятин незамедлительно выстраивает этому понятию терминологическую оппозицию, заводя речь о монологе [11, с. 201], также распространяя его до синонимического ряда: «монологический», «корсетный», «напомаженный», «обычный литературный».
В противовес первому ряду все эти определения несут явно негативную оценку. Это заметно еще в предыдущей лекции «О сюжете и фабуле», когда само терминологическое определение еще не было найдено Замятиным, но отношение писателя к нему высказано вполне определенно: «дедуктивным» (то есть идущим от отвлеченной идеи к конкретным образам) путем, по его мнению, созданы все проповеднического типа вещи, сюжеты которых редко выливаются в безукоризненно-художественную форму» [11, с. 198]. Проповедь, как считает Замятин, всегда монологична, так как движима тенденцией и, согласно его утверждению, как правило, малохудожественна. Таким образом, Замятиным сопоставляется уровень художественности двух отмеченных способов повествования, в основе которых диалогический и монологический тип речи. Замятин отдает предпочтение первому, предвосхищая аксиологическую позицию Бахтина.
Логика рассуждений Замятина такова: диалогический язык хорош тем, что «индивидуализирует» речь персонажа, а значит, отпадает необходимость «авторскими ремарками напоминать читателю о тех или иных характерных особенностях действующего лица» [11, с. 205], что приводит к «художественной экономии», которая является, по его мнению, «одним из непременных требований от мастера художественной прозы: чем меньше вы скажете слов и чем больше сумеете сказать этими словами – тем больше будет эффект, при прочих равных условиях, тем больше будет художественный «коэффициент полезного действия» [11, с. 205].
Говоря о неравнозначности «сказанного» слова и слова «понятого», о большей весомости последнего, Замятин касается того дискурсивного качества, которое М.М. Бахтин впоследствии назовет «непрямым говорением» и будет считать обязательным признаком писательского дара (см.: [2]). В этом смысле высказывание Замятина о том, что «писатель, который может только описывать жизнь, фотографировать события и людей, которые он действительно видел, – это творческий импотент, и ему далеко не уйти» [11, с. 194], прочитывается вполне в русле (будущих) бахтинских утверждений.
На характер теоретических построений Замятина огромное влияние оказало его техническое образование, склонность к точным и логически безупречным силлогизмам, а также стремление рационально, логично объяснить суть наблюдаемого, познаваемого явления. Поэтому, зачастую «опредмечивая» то, что принадлежит сфере высокой абстракции, Замятин придает теоретическим образам свойства начертательности, иллюстративности. Так, коснувшись лингвистических особенностей «диалогического» языка, он приходит к пониманию того, что ими не исчерпывается качество новой художественности, поэтому в «Лекциях» возникают сравнения текста, написанного диалогическим, или «мысленным» языком, с «вехами», между которыми мысль читателя перемещается относительно свободно, самостоятельно «достраивая» «невыгово-ренные» смыслы.
Усматривая подобные смысловые «вехи» и в живописных, и в литературных произведениях, как бы убедившись в наглядности, абсолютной объективности этих «вех» в стиле современного искусства, Замятин немедленно приступает в своем лекционном курсе к формулировке и систематизации «приемов», позволяющих именно таким образом организовать художественный текст.
В числе «Изобразительных методов, основанных на принципе совместного творчества» Замятин назовет следующие:
-
1) «незаконченные фразы»: не обычные, механически оборванные репликой другого из действующих лиц, а фразы, незаконченные потому, что их с успехом может закончить читатель;
-
2) «прием ложных отрицаний», который заставляет читателя с большей энергией сделать правильный вывод;
-
3) «прием пропущенных ассоциаций», при котором автор намеренно выпускает мысль, играющую в изложении центральную роль, и вместо этого дает второстепенные, побочные мысли, которые заставляют путем ассоциаций вспомнить пропущенную центральную мысль. Посредством этого приема «автор создает как бы не материализованную в словах мысль, один только дух мысли»;
-
4) «метод реминисценций», цель которого «заставить читателя вспомнить о каком-нибудь предмете или лице, о котором говорилось где-то раньше» [11, с. 212–213].
Далее, в одной из заключительных лекций, анализируя черты чеховского стиля, восхищаясь его мастерством, заставляя своих слушателей буквально любоваться его художественными открытиями и находками, Замятин вновь подчеркнет значение недоговоренности, приведя слова из чеховского письма: «Мы не будем шарлатанить и заявим прямо, что на этом свете ничего не разберешь. Все знают и все понимают только дураки и шарлатаны» [11, с. 215].
Договорить, т.е. все объяснить, все детерминировать невозможно, поэтому главная цель искусства не рассказ, apriopi предполагающий авторство и прямую оценку, а значит, и объясняющий, и договаривающий, а «показ», в основе которого одновременность действия и восприятия: «Автор переживает не когда-то, а в самый момент рассказа» [11, с. 216]. Это различие между традиционным диегезисом и мимезисом напрямую перекликается с бахтинским контрапунктом, где конечной, познаваемой и поэтому монологической по природе «вещи» противопоставлена диалогически незавершенная структура человеческой личности. «Вещь» может быть раскрыта «односторонним актом познающего сознания другого» (Бахтин), в том числе и рассказом о ней, договаривающим, завершающим ее. «Личность» должна иметь, по Бахтину, возможность «свободного самооткровения», поэтому ей более адекватен показ, предполагающий «сложность двустороннего акта познания-проникновения». Замятин, требуя от новой литературы именно «показа», а не «рассказа», в сущности, ориентирует ее на сотворчество, диалог с читателем, на изображение незавер-шимого бытия «личности».
Немаловажным для понимания системы эстетических взглядов Замятина, изложенных в цикле «Лекций», является тот факт, что, говоря об установке на сотворчество, обязательное, по его мнению автора, для искусства неореализма, он так или иначе касается и проблемы возможных границ этого процесса, определяя тем самым условия существования и функционирования этого феномена. Напрямую эти две проблемы Замятиным не связываются, но в текстовом пространстве «Лекций» они постоянно переплетаются, перемежая друг друга: сотворчество неотделимо в теоретической рефлексии Замятина от проблемы эстетической целостности произведения. Принципиальная важность соотношения этих двух начал (диалогичности текста и его целостности) была интуитивно лишь затронута Замятиным. Размышляя над событиями творческой жизни современного общества (футуризм, «Поэма безмолвия» Крученых, символистская ориентация на «музыку слова»), Замятин, приветствует все «еретическое» и революционное, понимая при этом, что предел экспериментам с художественной формой положен природой самой формы: диалог, установка на встречное творчество реципиента не может продолжаться до бесконечности, иначе – безмолвие, разрушение, не-бытие произведения, которое не может состоять из одних «недоговоренностей». Поэтому вновь в вновь он обращает внимание молодых литераторов, которым адресован данный курс, на необходимость соблюдения законов гармоничной целостности создаваемых текстов.
Неоспоримым представляется и тот факт, что именно из лекций по технике художественной прозы выросли потом практически все основные замятинские работы 1922– 1924 гг., в которых, по справедливому замечанию А. И. Галушкина, «на первый план выдвигается стилевой анализ» [3, с. 99], и в которых заключается, по нашему мнению, ключ к тому закону, по которому и следует «судить» художника.
Так, например, в обзорной (панорамной) статье «Новая русская проза» Замятин выстраивает имена современных писателей в ти- пологический ряд, основываясь на степени проявления в их произведениях признаков реалистической эстетики. В связи с этим критериями оценок художественных произведений в этой статье становятся, с одной стороны, обращенность к быту, «пешеходность фантазии», «сюжетная анемия», «станковая живопись», а с другой, – «прорыв фантастики», «углубление перспективы», «смещение плоскостей», «язык – быстрый и острый, как код», «буйный импрессионизм», «синтез», «словесная инструментовка». Все эти приемы, стилевые особенности подробно рассмотренные уже Замятиным именно в «Лекциях», в этой статье демонстрируют уже принципиальную диалогичность его позиции: очерчивая эстетические «крайности» литературного процесса, он остается предельно объективен в оценках (прогностический характер которых доказала история).
В программной статье «О синтетизме» (1922) целые фрагменты практически полностью, с сохранением экспрессии, свойственной устной речи, «перекочевали» из лекционного цикла: рассуждения об «уравнении движения искусства», принявшего форму спирали, постоянные параллели литературы с живописью, о «сегодняшнем читателе», который «сумеет договорить» за автора, об открывающемся через синтетизм «совместном творчестве художника и читателя». Статья «Закулисы» представляют собой развернутый по максимуму конспект лекции «Психология творчества».
1920-е годы – время создания Замятиным литературных портретов русских и зарубежных писателей и поэтов, объединенных впоследствии в сборнике «Лица». Это, пожалуй, наиболее изученный пласт литературнокритического наследия Е. Замятина. В этих зарисовках, воспоминаниях, очерках творчества с наибольшей наглядностью демонстрируется приложимость к материалу основ теоретико-эстетической концепции Замятина. На это указывает Л.К. Оляндэр: «...замятинские портреты, сохраняющие все типологические жанровые признаки, обладают своей структурой, которая в свою очередь предельно обнажает глубинные представления писателя о мире и человеке. В основе их лежит теза и антитеза, два полюса противоречивого единства» [16, с. 72].
«Теза» и «антитеза» – это те «вехи», которые Замятин-портретист (прошедший выучку импрессионистов, Пикассо и Анненкова) задает читателю, вехи, между которыми мысль и фантазия писателя перемещается свободно, вступая в ставший для Замятина сакральным, культовым акт сотворчества. Причем эти замятинские вехи в «Лицах» обозначают моменты абсолютно контрастные, максимально удаленные друг от друга: «Прием резко очерченных контрастов неизменно достигает одной цели – высветлить множественные оттенки смыслов, стоящих за фактами жизни» [16, с. 71].
Попытки объяснить этот прием в современном замятиноведении разноплановы. Л.К. Оляндэр усматривает в этой особенности замятинского стиля отражение «трагического единства человека и времени». М.В. Моклица предлагает исходить из концепции К.-Г. Юнга, предполагая, что «фактически Замятин создает два психологических типа, причем настолько четко очерченных, что не приходится гадать, каких именно, если обратиться за помощью к типологии К.-Г. Юнга: мыслительный и эмоциональный» [14, с. 105]. В основе эти двух типов Юнгом положены процессы эмпатии (вживания) и абстрагирования. Ссылаясь, в свою очередь на Воррингера, Юнг утверждает, что «стремление к эмпатии обусловлено счастливым, пантеистическим отношением людей к явлениям внешнего мира, стремление же к абстрагированию является следствием великой внутренней тревоги человека, вызванной явлениями внешнего мира» [22, с. 351].
Тревога, трагическое единство человека и времени, безусловно, именно в этот период жизни в значительной мере ощущались Замятиным и были одной из внутренних (психологических) причин обращения писателя к контрастным, «мыслительным», абстрактным образам. На наш взгляд, была еще одна глубинная причина такого постепенного поворота.
Образ, созданный в процессе абстрагирования, изначально несет в своей структуре некие эстетические и гноселогические дистанции. Он принципиально незавершим, в силу чего более диалогичен, изоморфен личности в ее интепретации новым искусством ХХ в. и, согласно таковой своей природе, максималь- но оказывается направлен на встречную активность воспринимающего сознания. «Образ – остр, синтетичен, в нем только одна основная черта, какую успеешь приметить с автомобиля», – эта фраза из замятинской статьи 1923 года логически безупречно завершает процесс осмысления им диалогичности как категориального свойства нового искусства, признак его художественности, зарождение и развитие которого вполне последовательно отразил цикл лекций «Техника художественной прозы».
Мы далеки от мысли представить Е. Замятина в образе реформатора-теоретика, высказывающего принципиально новые, абсолютно ценные и оригинальные концептуальные построения. Вполне естественно, что, будучи в равной мере и вполне серьезным теоретиком литературы, и ее популяризатором, Замятин испытал глубокое и серьезное влияние существующих в тот период эстетических, философских, общенаучных концепций.
Подводя итог, отметим, что формирование эстетических взглядов Е. Замятина происходило в тесной связи с основными процессами современной ему теоретической рефлексии. Его «инженерии» литературного теоретика и историка свойственно было задаваться, пожалуй, самыми важными вопросами времени, зачастую угадывать магистральные пути дальнейшего развития искусства и науки о нем. Среди них – отмеченные выше идеи неореалистического искусства, синтезировавшего в себе открытия классического реализма и символизма, идеи диалектического развития искусства и прогресса в нем, идеи синтеза приемов различных искусств в искусстве слова, установка на активное сотворчество (диалог) читателя и писателя в процессе восприятия художественного произведения и, пожалуй, основное, по-настоящему замятинское, наиболее оригинальное – практическое воплощение идеи сотворчества в искусстве художественного слова, активная выработка приемов диалоги-зации художественного дискурса.
Список литературы Эстетическое кредо Е. Замятина: концепция писателя в контексте эпохи кризиса
- Барабанов, Е. Комментарии / Е. Барабанов // Замятин Е. И. Сочинения. – М. : Современник, 1988. – С. 524–575.
- Бахтин, М. М. Литературно-критические статьи / М. М. Бахтин. – М. : Художественная литература, 1986. – 543 с.
- Белый, А. Символизм как миропонимание / А. Белый. – М. : Республика, 1994. – 625 с.
- Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Г. Вельфлин. – М. : В. Шевчук, 2009. – 344 с.
- Галушкин, А. И. Вечный отрицатель и бунтарь: Замятин – литературный критик / А. И. Галушкин // Литературное обозрение, 1988. – № 2. – С. 98–112.
- Геллер, Л. М. Евгений Замятин: уникальность творческого почерка / Л. М. Геллер // Кредо : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – 1995. – № 10-11. – С. 10–22.
- Гордович, К. Д. Писатели-инженеры. Н. Гарин-Михайловский. Е. Замятин, А. Платонов / К. Д. Гордович // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня : Научные доклады, статьи, очерки, заметки, тезисы : в XIV кн. / под ред. проф. Л. В. Поляковой. – Тамбов : Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2000. – Кн.10. – С. 15–17.
- Ермилова, З. В. Теория и образный мир русского символизма / Е. В. Ермилова. – М. : Наука, 1989. – 176 с.
- Замятин, Е. И. Избранные произведения. В 2 т. Т. 1 / Е. И. Замятин. – М. : Худ. лит., 1990. – 527 с.
- Замятин, Е. И. Бернгард Келлерманъ / Е. И. Замятин // Кредо : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – 1994. – № 1. – С. 17–19.
- Замятин, Е. Техника художественной прозы / Е. Замятин. – М. : РИПОЛ классик, 2018. – 232 с.
- История русской литературы ХХ века. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2000. – 546 с.
- Красовская, С. И. Использование элементов поэтики кубизма в романе Е. Замятина «Мы» / С. И. Красовская // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня: научные доклады, статьи, очерки, заметки, тезисы : в 2 т. – Тамбов : Изд-во ТГПИ, 1994. – Ч. 2. – 270 с.
- Моклица, М. В. Психологический тип Е. Замятина как архетипная доминанта его художественного метода / М. В. Моклица // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня : Научные доклады, статьи, очерки, заметки, тезисы : в XIV кн. / под ред. проф. Л .В. Поляковой. – Тамбов : Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2000. – Кн. 7. – С. 105–107.
- Мясников, А. Проблемы раннего русского формализма / А. Мясников // Контекст: литературно-теоретические исследования. – М. : Наука, 1975. – С. 78–134.
- Оляндэер, Л. К. Евгений Замятин и жанр литературного портрета / Л. К. Оляндэер // Творческое наследие Евгения Замятина: Взгляд из сегодня. – Тамбов : ТГУ, 1997. – Кн. 4. – С. 71–78.
- Орлицкий, Ю. Б. Преодолевая метрический стандарт (стиховое начало в прозе Е. Замятина / Ю. Б. Орлицкий // Кредо : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – 1994. – № 8. – С. 17–25.
- Полякова, Л. В. Евгений Замятин и его отклик на роман Бернгарда Келлермана «Туннель» / Л. В. Полякова // Кредо: Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – 1994. – № 1. – С.19–23.
- Скалон, Н. Р. Роман Замятина «Мы» в зоне контакта с М. Бахтиным / Н. Р. Скалон // Диалог. Карнавал. Хронотоп. – 1993. – № 4. – С. 25–37.
- Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины : Энциклопедический справочник. – М. : Интрада, ИНИОН, 1996. – 317 с.
- Стрижев, А. И. И землю пашут пулеметами / А. И. Стрижев // Литературная учеба. – 1990. – № 3. – С. 72–73.
- Юнг, К.-Г. Психологические типы / К.-Г. Юнг. – М. : Университетская книга : Изд-во «АСТ», 1998. – 720 с.
- Якубинский, Л. П. Избранные работы. Язык и его функционирование / Л. П. Якубинский. – М. : Наука, 1986. – 205 с.