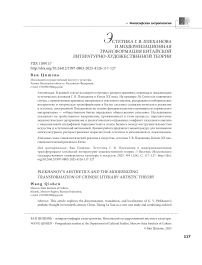Эстетика Г. В. Плеханова и модернизационная трансформация китайской литературно-художественной теории
Автор: Ван Цишэнь
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 4 (126), 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной статье исследуется процесс распространения, перевода и локализации эстетических взглядов Г. В. Плеханова в Китае XX века. На примере Лу Синя как ключевого случая, с привлечением архивных материалов и текстового анализа, раскрывается избирательное восприятие и творческая трансформация в Китае системы социалистического реализма в эстетике, построенной Плехановым на основе фундаментального принципа исторического материализма — «общественное бытие определяет общественное сознание». Исследование указывает на тройственное напряжение, проявившееся в этом процессе: переплетение механистического детерминизма и диалектического отражения, конфликт классового анализа с национальной спецификой (народностью) и поиск баланса между инструментальностью искусства и эстетической автономией. Данная работа предлагает новый ракурс для понимания межкультурного распространения марксистской эстетики и механизмов ее локализации.
Социалистический реализм в искусстве, эстетика Г. В. Плеханова, Китай, XX век, социалистический реализм в Китае
Короткий адрес: https://sciup.org/144163535
IDR: 144163535 | УДК: 1(091):7 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-4126-117-127
Текст научной статьи Эстетика Г. В. Плеханова и модернизационная трансформация китайской литературно-художественной теории
Георгий Валентинович Плеханов, справедливо именуемый «отцом русского марксизма», является не только выдающимся теоретиком в области философии и политической мысли, но и автором фундаментальных разработок в сфере эстетики. Впервые систематически применив исторический материализм к эстетическому анализу, он выдвинул ключевую концепцию «социальной природы искусства», положив в её основание базовый принцип исторического материализма – «общественное бытие определяет общественное сознание» [9, с. 783]. На этой основе Плеханов сформировал эстетическую систему, ядром которой выступает «теория отражения» в искусстве [10, с. 763]. Он чётко разграничил философский фундамент своей эстетики (исторический материализм), её центральный тезис («общественное бытие определяет общественное сознание»), а также основной теоретический конструкт – «теорию отражения», установив при этом связь с конкретным художественным направлением – социалистическим реализмом [16, с. 13]. Именно в этих построениях просматриваются контуры будущей теоретической модели социалистического реализма.
Эстетическая концепция Плеханова, отличающаяся ярко выраженной классовой позицией, социальной критичностью и акцентом на общественных функциях искусства, предложила китайской интеллигенции, находившейся в условиях острого социального запроса на перемены, привлекательную аналитическую и практи- ческую схему. После Октябрьской революции, вместе с распространением марксистской идеологии в Китае, эстетические идеи Плеханова проникли в китайскую интеллектуальную среду через переводы и публикации [6, с. 176]. А в творческой и просветительской практике они появились благодаря таким деятелям, как Лу Синь, и обрели новые формы, соединившись с движением за упрощение письменного языка (байхуа) и с реалистической художественной практикой. В результате этот теоретический комплекс прошёл процесс китаизации.
Тем не менее существующие исследования в основном сосредоточены либо на реконструкции исходных положений плехановской эстетики [4, с. 183], либо на линейном изложении истории её рецепции в Китае, при этом недостаточно внимания уделяется сопоставительному анализу российской и китайской историко-культурных парадигм. Данный пробел препятствует глубокому пониманию механизмов её локализации в китайской культурной среде.
В настоящей статье предпринимается попытка ответить на два ключевых вопроса: каким образом эстетическая теория Г. В. Плеханова была переведена и творчески трансформирована в Китае XX века, а также – какие теоретические и практические противоречия возникли в процессе данного межкультурного переноса. Для решения этих задач автором предлагается аналитическая модель «трёхуровневого напряжения», в рамках которой рассматриваются:
-
1. переплетение механического детерминизма и диалектической концепции отражения;
-
2. противоречие между классовым анализом и проблематикой национального/ народного характера;
-
3. баланс между инструментальной функцией искусства и его эстетической автономией.
Предложенный подход позволяет не только реконструировать путь китаизации плехановской эстетики, но и осмыслить её значение для понимания культурно-идеологических трансформаций в Китае XX века, а также – для анализа межкультурного обмена теоретическими моделями в условиях глобализации. Этот методологический каркас может служить ориентиром и для исследований локализации иных зарубежных художественно-теоретических концепций.
В российской научной традиции изучение Плеханова сосредоточено преимущественно на его теоретических построениях в рамках марксистской эстетики и на их историческом значении. Так, М. А. Лифшиц систематически анализировал такие ключевые концепции Плеханова, как «средовой детерминизм» и «теория художественного отражения», рассматривая их в контексте российской интеллектуальной культуры рубежа XIX–XX веков. Подобные исследования подчёркивают роль Плеханова в формировании основ социалистического реализма на раннем этапе, однако лишь в редких случаях затрагивают вопросы распространения и трансформации его идей в не русскоязычных культурных средах.
В китайской науке плехановская эстетика, как правило, рассматривается в русле истории рецепции и истории литературной мысли, с акцентом на анализ переводческой и интерпретационной деятельности Лу Синя, Цюй Цю-бо, Мао Дуня и других деятелей. Так, Лю Ин (2015) уделяет особое внимание реконструкции истории восприятия плехановской эстетики в Китае, однако её работа в основном ограничивается библиографическим описанием и фактическим изложением событий. В имеющихся исследова- ниях отсутствует системный анализ процессов теоретического переосмысления в условиях различий российской и китайской культурноисторических парадигм, а также недостаточно изучены механизмы взаимодействия плехановской концепции с традиционной китайской эстетикой и революционной литературнохудожественной стратегией.
В целом – как зарубежные, так и китайские исследования – не в полной мере раскрывают глубинные механизмы реконструкции плехановской эстетики в китайском культурном контексте. В настоящей статье, опираясь на аналитическую модель «трёхуровневого напряжения» и сопоставление российской и китайской историко-культурных парадигм, автор анализирует избирательное восприятие и творческую трансформацию идей Плеханова в переводческой и художественной практике Лу Синя, что позволяет восполнить указанный исследовательский пробел.
При изучении этапа китаизации плехановской эстетики использованы следующие основные архивные материалы: программнометодические документы 1950–1960-х годов из фондов Шанхайского литературнохудожественного архива (SALA), включая учебные планы кафедр эстетики Фуданьского университета и Восточно-Китайского педагогического университета; рукописи перевода Лу Синем в 1929–1932 годах труда «Искусство и общественная жизнь» (хранится в Пекинском музее Лу Синя); устные истории участников дискуссий о социалистическом реализме – интервью Цюй Цю-бо (1985 год, Архив устной истории Китайской академии общественных наук) и Ху Фэна (1990 год, Центр исследований современной литературы).
В качестве основных источников использованы следующие монографии: Лю Ин, «Восприятие плехановской эстетики в Китае» (2015), Мао Дунь, «Мой творческий путь» (1982), Лу Нань, «Марксистская теория искусства в движении 4 мая» (2008). Для теоретического обоснования привлекаются: предисловие Лу Синя к переводу «Искусство и общественная жизнь» (1930), труд Ху Фэна «О субъективном боевом духе» (1945), современный анализ Го Шуанлиня «Конфликт и адаптация: Плеханов в китайском контексте» (2020).
В исследовании применяются следующие методы: историко-архивный анализ – для реконструкции путей распространения и институционализации плехановской эстетики в Китае; дискурс-анализ – для выявления трансформации теоретических положений в различных контекстах и изменения их идеологической интерпретации; сравнительный текстовый анализ – для сопоставления оригинальных работ Плеханова с переводами Лу Синя с целью выявления стратегий редактирования и адаптации ккультурно-языковому контексту.
Комплексное применение этих методов позволяет рассмотреть процесс китаизации плехановской эстетики с текстуальной, исторической и культурной точек зрения и выявить его сложные механизмы.
Эстетическая «революция» Плеханова началась с материалистической деконструкции сущности искусства. Впервые введя теорию исторического материализма в сферу эстетики, он попытался с её позиций ответить на фундаментальные вопросы о природе искусства [10]. Выдвинув ключевое положение о «социальной природе искусства», Плеханов заложил методологическую основу для перехода марксистской эстетики от абстрактно-теоретического уровня к практическому анализу. Критикуя метафизические тенденции идеалистической эстетики [19, с. 92], он сформулировал концепцию «средового детерминизма» [4].
Центральным элементом его эстетической системы стала «теория художественного отражения» – одно из базовых положений марксистской эстетики, согласно которому искусство является отражением реальной социальной жизни, но это отражение носит избирательный, типизированный и диалектический характер [10, с. 763]. Сопоставив материализм и идеализм, Плеханов отнёс собственную теорию к материалистическому направлению, трактуя материю как основу среды, а среду – как совокупность природных и социальных факторов, влияющих на восприятие человеком действительности [11, с. 213].
Подобная динамическая модель анализа преобразует искусство из статического объекта эстетического созерцания в культурное зеркало, отражающее социальные противоречия. В ней выявляются коренные общественные антагонизмы и классовые конфликты [9, с. 783], а сама художественная деятельность получает функции критики действительности и воспитания общества [10, с. 717.]. Данный теоретический каркас имеет большое значение для анализа формирования типических образов в литературе Лу Синя [6, с. 176; 7, с. 363].
В работе «Искусство и общественная жизнь» Плеханов утверждал, что декоративные и ритуальные формы первобытного искусства служили интересам племенного коллектива [10]. Эта концепция «трудового происхождения искусства» даёт историкоматериалистическое объяснение его социальных функций. В дальнейшем Плеханов развил историко-материалистическое понимание искусства, предложив самостоятельное объяснение его происхождения и общих закономерностей соотношения красоты и пользы [11, с. 58].
Он подчёркивал, что труд создаёт не только материальные блага, но и способствует развитию культуры и искусства [10, с. 883]; художественное произведение, по его мнению, является духовным выражением социальной жизни трудящихся. Такой подход позволяет с марксистских позиций понять социальную основу искусства, фиксируя его корни в материальных условиях производства [9, с. 783]. Одновременно Плеханов настаивал на том, что искусство должно иметь чётко выраженную классовую направленность и служить социальному прогрессу и революции [10, с. 813]. Настоящее искусство, по его мнению, не только отражает действительность, но и выражает направление классовой борьбы и исторического развития, способствуя общественным преобразованиям [16, c. 13].
Эти установки отражают революционные принципы марксистского понимания искусства и во многом определяют идейные ориентиры литературного творчества Лу Синя [5, с. 267]. Плеханов рассматривал искусство как культурный носитель, выражающий опосредованную связь между действительностью и художественным образом [10, с. 883], и прогнозировал дальнейшее развитие литературы и искусства, подчёркивая тождество «тенденциозности» и «прогрессивности» содержания, при этом отдавая приоритет тематике, связанной с жизнью пролетариата и народа [11, с. 113].
Плеханов полагал, что отживший свой исторический век класс может создавать лишь устаревшее искусство: идеология господствующего класса, утратившая своё социальное основание в момент его исторического поражения, неизбежно лишается и первоначальной художественной ценности, а создаваемые ею произведения обречены на упадок. Таким образом, для одного класса искусство действительно воспроизводит окружающий мир, а для другого – становится средством его преобразования [16, с. 13].
Исходя из собственных эстетических воззрений, Плеханов настаивал на необходимости научной эстетики и социологии искусства [4, с. 560]. Отправной точкой такого подхода является положение о зависимости любой художественной идеологии от социального бытия и о всеобщности этой зависимости. Иными словами, историчность искусства предопределяет его непрерывное обновление и развитие, отражающее динамику социальной и классовой борьбы [10, с. 813].
Данная теория позволяет лучше понять, каким образом Лу Синь сумел преодолеть рамки традиционной литературной модели и содействовать формированию новой литературы [6, с. 176]. Вхождение плехановских идей в интеллектуальное пространство Китая стало важным фактором китаизации марксистской литературно-художественной теории [12, с. 106]. Его историко-материалистическая эстетика не только восполнила теоретический вакуум в раннем левом искусствоведении Китая [1], но и, вступив в диалог с китайской традиционной эстетикой, способствовала формированию оригинального, специфически китайского варианта реалистического творчества, оказав тем самым долговременное воздействие и на современное строительство литературнохудожественной теории [14].
В начале XX века Китай находился в эпицентре глубоких внутренних кризисов и внешних угроз: разрушение традиционного уклада и масштабные социальные потрясения совпали с агрессивной экспансией западных держав и коррупцией цинской бюрократии [15]. В этот переломный момент культурное просвещение и идейное обновление приобрели беспрецедентное значение. Представители интеллектуальной элиты – Чэнь Дусю, Ли Дачжао, Ху Ши, Лу Синь и другие – устремили взгляд к зарубежным источникам знаний, стремясь посредством культурной революции, прежде всего Литературной революции с её движением за упрощённый национальный язык (байхуа), разрушить оковы феодальной культуры, пробудить народ и наметить путь к национальному возрождению.
По своей сути движение за байхуа было процессом реконструкции культурной власти, инициированным социальным кризисом и вызвавшим трансформацию литературного поля [18]. В условиях насущной потребности в «идеологическом оружии» для переустройства общества и формирования нового национального сознания залп Октябрьской революции донёс до Китая марксизм, а вместе с ним – и марксистскую эстетику как одно из его значимых теоретических направлений [12, с. 106]. Именно в этой атмосфере поиска идейных ориентиров для общественного преобразования эстетическая концепция Плеханова стала для китайской прогрессивной молодёжи одним из направлений духовного поиска [5, с. 267]. При этом если Плеханов утверждал, что «искусство – это оружие классовой борьбы» [10, с. 726], то китайская молодёжь расширила это положение до формулы «культурный плацдарм национального освобождения» [8, с. 30].
Многолетние войны и нестабильная социально-политическая обстановка привели к крайне низкому уровню грамотности населения: из 400 миллионов жителей грамотными были лишь около 20% [15]. В этих условиях культурное просвещение и идейное обновление становились насущной задачей. На фоне подобной социальной ситуации китайская интеллектуальная элита и различные прогрессив- ные деятели предпринимали попытки изменить существующее положение дел, и одним из таких направлений стало движение за литературный язык байхуа [18].
Ещё в 1904 году Чэнь Дусю, основав газету «Аньхой сухуа бао» («Газета на простонародном языке провинции Аньхой»), положил начало этому движению. Создание журнала «Синь циннянь» («Новая молодёжь») придало кампании по «распространению байхуа» значительно более широкий размах, превратив её в масштабное культурное движение.
После Синьхайской революции 1911 года китайские прогрессивные силы стремились посредством изменения политической системы свергнуть власть династии Цин и тем самым изменить судьбу страны, однако вместо ожидаемой стабильности страна оказалась втянутой в затяжную гражданскую войну [15]. В этот период культурная пропаганда и расширение грамотности рассматривались как способ объединить широкие массы пролетариата, сделать культуру важным рычагом социальной трансформации и проложить путь к общественным переменам [3].
В январе 1917 года в журнале «Синь циннянь» была опубликована статья Ху Ши «Попытка рассуждения о литературной реформе» («Вэньсюэ гайлян чуи»), в которой автор выдвинул «восемь принципов отрицания» (ба бу чжуи), направленных против аристократической природы классического письменного языка вэньянь, и подчеркнул необходимость «содержательности» и социальной значимости литературного творчества. Этот манифест не только подорвал тысячелетнюю традицию литературного канона, но и объединил литературную революцию с этической и политической революцией, превратив её в целостное общественное движение. С этого момента в Китае началась новая эпоха литературной революции.
После Октябрьской революции 1917 года и русского издания «Манифеста Коммунистической партии» с переводом и предисловием Георгия Валентиновича Плеханова (1882) процесс проникновения в Китай марксизма значительно ускорился [12, с. 118]. Одновременно китайские прогрессивные деятели, такие как Ли Дачжао и Чэнь Дусю, начали активно изучать марксистское учение [3]. Когда в январе 1918 года журнал «Синь циннянь» («Новая молодёжь») в своём четвёртом томе впервые полностью перешёл на язык байхуа, социальное значение этого шага далеко превысило собственно его читательскую ценность.
Традиционное сословие учёных-чиновников (шэньши) в целях сохранения своих привилегий осуществляло своеобразное культурное господство над народом, поддерживая его в состоянии «непросвещённости» [15]. Возникновение движения за байхуа разрушило этот классовый контроль, предоставив широким слоям населения доступ к современным идеям [18]. На основе данной литературной революции население постепенно начало воспринимать язык байхуа, что заложило фундамент для проникновения в Китай марксизма и теоретического наследия Плеханова [5, с. 267; 12, с. 118]. Начиная с 1918 года, «Новая молодёжь» публиковалась почти исключительно на байхуа.
Ху Ши высоко оценивал вклад Чэнь Дусю в литературную революцию, выделяя три её главных достижения: превращение частной инициативы в полномасштабную литературную революцию, опирающуюся на «три великих принципа»; соединение этико-моральной и политической революции с литературой в единое массовое движение; последовательный и целеустремлённый дух, обеспечивший значительные результаты революции [18].
Заслуга Чэнь Дусю заключалась в том, что он ввёл «три великих принципа» (демократия, наука, новая мораль) в сферу литературы, превратив её в инструмент преобразования национального духа. Уже к 1919 года журнал «Новая молодёжь» стал основным рупором пропаганды марксизма в Китае, систематически публикуя работы Плеханова. Его тезис об «искусстве как оружии классовой борьбы» был Цюй Цюбаем трансформирован в теоретическое ядро концепции «опопуляривания литературы и искусства».
Ли Дачжао в статье «Победа масс», опубликованной в «Новой молодёжи», сочетал доступ-
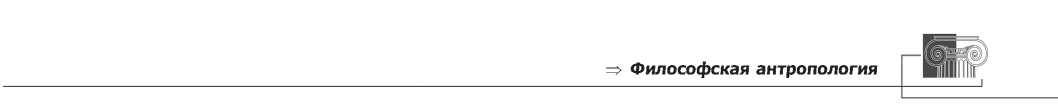
ность байхуа с марксистской классовой риторикой, способствуя более быстрому усвоению населением понятий социализма и продвижению модернизационных преобразований. Лу Синь же в своей новелле «Дневник сумасшедшего» обнажил «людоедскую» сущность феодальной этики, превратив литературу в своеобразный микроскоп для анализа общественных болезней и мобилизации против феодального законодательства и угнетения.
Литературная революция изменила не только способы выражения, но и заново выстроила порядок производства и распространения знаний, создав прочную культурную основу для идейных столкновений и социальных преобразований в Китае XX века. Глубокое влияние эстетической теории Плеханова в Китае неразрывно связано с Лу Синем, который в период культурной трансформации и идейных реформ первой половины XX века стал важнейшим проводником и творческим адаптато-ром плехановской мысли в китайский контекст. В 1929 году, переводя «Искусство и литературу» Плеханова, Лу Синь находился в ключевой фазе перестройки культурной власти, связанной с движением за байхуа. Сталкиваясь с двойным кризисом полуколониального положения Китая и разложения традиционной культуры, Лу Синь рассматривал плехановскую теорию как «хирургический нож» для вскрытия феодальных культурных структур, глубоко усвоив идеи «трудового происхождения искусства» и «классовой сущности искусства» [16, с. 13].
В процессе перевода и интерпретации Лу Синь использовал гибкую стратегию переработки, оставаясь верным основным идеям оригинала, но адаптируя идеи к китайскому контексту [13]. Например, в интерпретации положения Плеханова об искусстве классов Лу Синь делал акцент на его революционной направленности и функции социальной критики [8, с. 31], смягчая чрезмерно абстрактные теоретические детали. Кроме того, он включал в перевод примечания и пояснения, способствовавшие пониманию ключевых понятий марксистской эстетики, что обеспечивало локализацию и распространение теории [5, с. 276].
В оригинале «Искусство и общественная жизнь» Плеханова (в переводе Лу Синя) связь искусства с экономическим базисом зачастую формулируется достаточно прямо, даже с оттенком категоричности. Так, анализируя упадок определённых художественных форм, Плеханов писал: «Определённый общественный строй неизбежно порождает определённую художественную форму; с изменением общественного строя художественная форма также неизбежно изменяется». В издании 1929 года Лу Синь переводит эту фразу следующим образом: «Всякий общественный строй действительно рождает определённую художественную форму; когда строй меняется, художественная форма также зачастую изменяется». Таким образом, вместо слов, выражающих сильную необходимость в русском оригинале, он использует конструкции, придающие высказыванию вероятностный, диалектический оттенок. Это заметно ослабляет механистический характер исходного тезиса о «прямом и неизбежном» определении художественной формы экономическим базисом [7, с. 363.]. Такая оценка показывает его избирательное восприятие: во-первых, он стремился обеспечить художественную правдивость, отражающую окружающую действительность; во-вторых, при сохранении правдивости – подчеркнуть самобытность искусства. Однако он ослабил элементы механистического детерминизма в теории Плеханова, акцентируя диалектический характер отражения и активную роль творческого субъекта. С его точки зрения, литература – это не только инструмент классовой борьбы, но и средство преобразования национального сознания, выявления культурных болезней общества [8, с. 30].
Именно на этой основе Лу Синь стремился посредством литературы изменить мышление и мировоззрение современников, пробудить притуплённое сознание масс [6, с. 176]. В повести «Истинная история А-Кю» он через «духовную победу» – психологическую модель с ярко выраженным сатирическим характером – показал, что трагедия А-Кю является не только личным поражением, но и метафорой национального характера и социально-психологических особенностей китайского народа [17, с. 76].
Такой подход, отражающий через индивидуальное общее, представляет собой применение принципа типизации в эстетике Плеханова, но в переработанном виде: он сочетает этот принцип с традиционной китайской техникой «белого описания» (баймяо). В результате формируется своеобразная реалистическая повествовательная стратегия, глубоко укоренённая в критическом реализме. Образ А-Кю, созданный методом типизации, обнажает слабости национального характера и социальные пороки, что придаёт произведению ярко выраженный критико-реалистический характер. Таким образом, опираясь на эстетику Плеханова, Лу Синь сочетает классовый анализ с критикой национального характера, формируя уникальный литературный стиль и глубину мысли, что способствовало развитию теоретических основ китайской современной литературы [15].
В своей литературной практике Лу Синь также последовательно отстаивал единство эстетической ценности искусства и его социальной полезности. Он соглашался с тем, что искусство может служить «кинжалом и копьём», но подчёркивал, что эти «оружия» должны быть «изящными», сочетая в себе как идейную остроту, так и художественное качество. Подобная позиция выглядела особенно уникальной в условиях движения за «массовизацию литературы и искусства» [3]. В то время как некоторые левые литераторы чрезмерно акцентировали политическую функцию литературы, игнорируя её эстетическую самостоятельность, Лу Синь неизменно настаивал на сохранении духовной высоты и художественного уровня литературы [7, с. 363].
Однако интерпретация эстетической теории Плеханова в китайском контексте не была беспрепятственной. Социальные условия, уровень экономического развития, степень общественной стабильности и качество человеческого капитала в Китае существенно отличались от российской действительности, что делало невозможным прямое и полное перенесение плехановской концепции на китайскую почву [12, с. 118]. Тем не менее Лу Синь предпринял соответствующую адаптацию и творческое переосмысление.
Напряжение между механистическим детерминизмом и диалектическим отражением пронизывает ядро эстетической теории Плеханова [4, с. 151]. Механистический детерминизм подчёркивает прямое определяющее влияние социально-экономической базы на искусство, в то время как диалектическая теория отражения делает акцент на активной критике и углублении понимания реальности через искусство. В процессе перевода и интерпретации Лу Синь одновременно выделял как ограничительное воздействие социальной среды на художественное творчество, так и активную роль литературы как инструмента социальной критики, демонстрируя диалектическое единство этих двух подходов. Это напряжение побуждало Лу Синя в собственном творчестве не только правдиво отражать социальную действительность, но и выходить за пределы механического подражания, реализуя критическую и новаторскую функции литературы [8, с. 30].
Во-вторых, напряжение между классовым анализом и понятием национального характера (народности) является важным проявлением локализации марксистской литературной теории в Китае. Плеханов подчёркивал классовую природу искусства [16, с. 13], тогда как Лу Синь соединял классовую перспективу с проблематикой специфического китайского национального характера, глубоко анализируя культурные недуги и духовные кризисы китайского общества. Такое сочетание не только обогащало классовый анализ, но и усиливало внимание литературы к национальной проблематике, делая марксистскую эстетику более созвучной китайской реальности.
Наконец, напряжение между инструментальной функцией искусства и его эстетической автономией отражало творческую трансформацию Лу Синем принципов социалистического реализма. Несмотря на то, что марксистская эстетика подчёркивает служение искусства обществу и классовой борьбе, Лу Синь придавал большое значение художественной выразительности и эстетической ценности литературы, стремясь найти баланс между критикой
действительности и художественной красотой. Это напряжение свидетельствует о глубокой художественной культуре и взвешенном подходе Лу Синя как к теории, так и к практике.
Кроме того, в процессе своей творческой и теоретической деятельности Лу Синь постоянно осуществлял «культурную реконструкцию» взглядов Плеханова. В цикле «Новые рассказы» он в субверсивной манере переосмысливал мифы, трансформируя плехановский принцип «определяющего влияния общественного бытия» в «культурную генетическую критику», направленную на выявление глубоких структурных проблем китайской историко-культурной традиции. Этот акт творческого «неправильного прочтения» не являлся отходом от теории, а служил её адаптации к реалиям полуколониального и полуфеодального китайского общества.
Несмотря на существовавшие противоречия, эстетическая теория Плеханова не утратила жизнеспособности в Китае, напротив, она стимулировала возникновение особого китайского реалистического искусства, которое впоследствии сформировало уникальную систему социалистического реализма. Столкновение эстетики Плеханова с китайской реалистической литературой ознаменовало важный поворотный этап в процессе китаизации марксизма. Выявленные в теории проблемы способствовали её лучшему сочетанию с китайской действительностью, демонстрируя творческий прорыв китайских писателей в диалектике исторических ограничений и художественной свободы. Это помогло избежать механистического и формалистского подхода к реализму и обеспечило успешную связь искусства с народными массами, воплотив идею культурного творчества, исходящего «от народа и возвращающегося к народу» [14].
Эстетика Плеханова стала теоретической основой китайского социалистического реализма. В 1930-е годы среди левых писателей разгорелись острые дискуссии вокруг «массовизации литературы и искусства», в ходе которых искусству всё более придавалась функция классового служения, формировались творческие нормы, соответствующие китайской революционной практике. Этот процесс являет собой глубокую интеграцию марксистской теории с социальными реалиями Китая.
В рамках движения «массовизации литературы и искусства» 1930-х годов Цюй Цюбай выступал за то, чтобы «уличный театр был так же практичен, как грубая керамическая посуда» [3], отрицая самостоятельность художественных форм; тогда как Ху Фэн, опираясь на «теорию посредничества» Плеханова, подчёркивал активную роль творческого субъекта в диалектическом отражении объективной реальности [2]. Эта теоретическая полемика достигла апогея на литературном симпозиуме в Яньане.
Искусство, рассматриваемое как носитель культуры в сочетании с классовой позицией, сформировало официальную методологию создания произведений, известную как «искусство социалистического реализма». Эта методология, базировавшаяся на теориях Плеханова и учитывавшая запросы социальной реальности, получила развитие при содействии постановления ЦК ВКП(б) 1932 года, была детально изложена в статьях «Литературной газеты» от 23 мая 1932 года и официально утверждена на Первом съезде советских писателей в 1934 году.
Когда в Советском Союзе был сформулирован догмат «социалистического реализма», такие деятели, как Ху Фэн, использовали «теорию посредничества» Плеханова в качестве теоретического щита, отстаивая активную роль творческого субъекта. Трансформация эстетики Плеханова в Китае главным образом связана с реконструкцией и интерпретацией в языковой среде. Китаизация плехановской мысли представляет собой типичный пример транснационального распространения марксистской теории. Распространение и трансформация эстетической теории Плеханова в Китае ярко демонстрируют межкультурную жизнеспособность марксистской теории. Эффективная локализация теории – это не механический перенос идей, а процесс, в ходе которого через столкновение и интеграцию с китайской традиционной культурой и историческим контекстом возникает новая интерпретационная сила и творческий потенциал [14].
Предложенная в данной работе концепция «трёх уровней напряжений» позволяет эффективно раскрыть сложные противоречия и динамические согласования, возникающие в процессе трансляции и локализации теорий, и предоставляет новый ракурс для понимания межкультурного переноса теоретических знаний.
Напряжение универсального и особенного. Универсальные принципы марксизма, заложенные в теории Плеханова, при столкновении с уникальными проблемами Китая, его полуколониальным статусом и традиционными эстетическими ресурсами порождают глубокое противоречие между «классовым анализом» и вопросами «национального характера / народности» [17, с. 76]. Такие мыслители, как Лу Синь, путем интеграции классовой перспективы в диагностику местной культуры добились творческого синтеза универсальных принципов и учета специфики национальной ситуации. Это свидетельствует о том, что любая теория, пересекающая культурные границы, должна пройти глубокий диалог и адаптацию с конкретными историческими, социальными и культурными особенностями принимающей стороны, избегая механистичного применения или простого отторжения.
Динамический баланс детерминизма и агентности. Интерпретация китайскими реципиентами плехановского принципа «определяющего влияния общественного бытия» всегда сопровождалась настороженностью по отношению к «механистическому детерминизму» и акцентом на активной роли творческого субъекта. Это напряжение выявляет ключевую проблему теоретического переноса: как признать глубокое ограничение идей и культуры социально-историческими условиями, одновременно уделяя должное внимание выбору, интерпретации, сопротивлению и творческой активности принимающей стороны? На примере Плеханова становится очевидно, что успешная локализация – это не пассивное принятие, а результат активного маневрирования и реконструкции со стороны реципиентов в специфических исторических условиях.
Диалектическое единство утилитарной функции и эстетической ценности. Плеханов подчеркивал «инструментальность» искусства, в то время как в китайском контексте постоянно присутствовали запросы на «эстетическую автономию» искусства. Особенно ярко это напряжение проявилось в дискуссиях вокруг «массовизации литературы и искусства» и формирования социалистического реализма. Это напоминает, что в процессе межкультурной трансляции неизбежно возникают трения между утилитарными целями теории и присущими культуре реципиентов эстетическими традициями и представлениями об автономии искусства. Ключом к локализации становится поиск динамического баланса, отвечающего требованиям времени, а не крайних противоположностей.
Локализация эстетики Плеханова в Китае стала важным ориентиром для раннего развития и теоретических инноваций марксистской эстетики в стране. Процесс локализации был не простым переносом, а результатом теоретической инновации в ходе межкультурного взаимодействия. Синтез традиционной китайской эстетики и марксистской эстетики стимулировал возникновение новых критических дискурсов [17, с. 76], демонстрируя жизнеспособность и адаптивность теории, а также предоставляя важный опыт для культурного и теоретического обмена в эпоху глобализации.