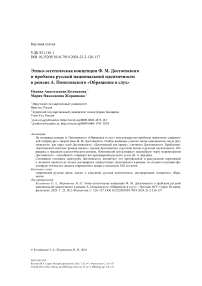Этико-эстетическая концепция Ф. М. Достоевского и проблема русской национальной идентичности в романе А. Понизовского «Обращение в слух»
Автор: Колмакова О.А., Жорникова М.Н.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
На материале романа А. Понизовского «Обращение в слух» актуализируется проблема перекличек современной литературы с творчеством Ф. М. Достоевского. Особое внимание уделено таким компонентам «кода Достоевского», как «круг идей Достоевского», «Достоевский как прием», «личность Достоевского». Проблемно-тематический комплекс романа связан с идеями Достоевского о русской жизни и русской идентичности. Обращаясь к традиции идеологического романа, Понизовский актуализирует важнейшую черту мировоззрения Достоевского - способность «отражать все противоречия русского духа» (Н. А. Бердяев).Следование стилевым стратегиям Достоевского, интертекст его произведений и рассуждения персонажей о личности писателя не только декларируют «присутствие» Достоевского в романе, но создают ситуацию философско-этического диалога современного автора с классиком XIX столетия.
Современная русская проза, диалог с классикой, русская идентичность, интерпретация, интертекст, образ, мотив
Короткий адрес: https://sciup.org/147243540
IDR: 147243540 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-2-126-137
Текст научной статьи Этико-эстетическая концепция Ф. М. Достоевского и проблема русской национальной идентичности в романе А. Понизовского «Обращение в слух»
Художественная интерпретация творческого наследия Ф. М. Достоевского является актуальной проблемой современного литературоведения, что подтверждается исследованиями Ю. Ф. Карякина [1989], Л. И. Сараскиной [2010], Р. С. Семыкиной [2008], М. А. Черняк [2009] и др. «Мы живем в уникальное время, когда “работают” не один, а все романы Достоевского» [Сараскина, 2010, с. 12]. Совершенно очевидно, что хронотоп Достоевского – «катастрофический, обвальный, обрывной» (Ю. В. Карякин) – претворился в нашей современной реальности во всей полноте: «Творчество Достоевского сегодня подвергается многоракурсной интерпретации <...> В произведениях современных авторов можно обнаружить и мифологизацию, и трансформацию образов, и игру, и ироническое перекодирование классических текстов» [Черняк, 2009, с. 57–58]. Современный русский писатель А. В. Понизов-ский создает роман-диалог «Обращение в слух» (2013), адресатом которого выступает Ф. М. Достоевский – как художник и как личность.
Отечественные литературоведы обращались к изучению романа Понизовского, однако диалог автора с Достоевским ими специально не рассматривался. Так, Л. Хорева упоминает о романе «Обращение в слух» в связи с проблемой изучения нарративных стратегий в новейшей русской литературе, одной из которых является примененная Понизовским повест- вовательная форма «подслушанные разговоры» [Хорева, 2019, с. 94]. С. М. Шакиров исследует в романе Понизовского авторские «размышления об изначальной трагичности русской судьбы» [Шакиров, 2015, с. 304], не ставя себе конкретной задачи анализа «текста Достоевского» в романе. По нашему мнению, проблема диалога Понизовского с Достоевским требует специального исследования, которое не только выявит аллюзивно-интертекстуальные связи текста современного автора с произведениями Ф. М. Достоевского, но позволит говорить о преемственности писателя XXI столетия по отношению к классику на глубинном, мировоззренческом, уровне.
Методология исследования базируется на концепции диалогичности М. М. Бахтина [2002], принципах феноменологической герменевтики П. Рикёра [2008], а также на идее Ю. М. Лотмана [1999] о классическом тексте как хранителе «коллективной памяти».
Результаты исследования
Ю. М. Лотман писал: «Текст – не только генератор новых смыслов, но и конденсатор культурной памяти» [1999, с. 21]. Это утверждение в полной мере применимо к роману А. Понизовского, в котором не только представлен современный взгляд на наследие классика мировой литературы, но и отражена культурная память о нем.
Сюжетно-композиционное решение «Обращения в слух» опирается на традицию русского идеологического романа. С. Костырко отметил у Понизовского «подчеркнуто традиционную, “тургеневско-достоевскую” завязку» [Костырко, 2013]. В Швейцарии, в ожидании разрешения на авиарейс, вынужденно коротают несколько дней четверо русских: Фёдор, молодой ученый местного университета, чета интеллигентов средних лет Белявских и юная Лёля, приехавшая в Альпы на зимние каникулы. Компания проводит время в диспутах на темы «русский народ», «русская душа», «русская жизнь». Формальным поводом к такому времяпрепровождению послужила исследовательская деятельность Фёдора – научного сотрудника лаборатории швейцарского профессора Хааса, занимающегося проблемой «народной души». Как этническому русскому, Фёдору поручена работа над составлением концептуального портрета русской души. Материалом для исследования стали аудиозаписи «свободных нарративов» – устных историй «простых россиян» – представителей демократических слоев современного российского социума.
В горячих дебатах о России и русском народе герои опираются на творческий и личный опыт Ф. М. Достоевского. Достоевский «появляется» в романе уже в завязке. Сказанная Фёдору фраза Дмитрия Белявского « А осмелюсь ли, милостивый государь, обратиться к вам с разговором приличным?.. » [Понизовский, 2014, с. 14] 1 не только сама по себе является прямой цитатой из «Преступления и наказания», но и произносится именно в «дешевом кабачке», что обыгрывает знакомство Мармеладова и Раскольникова, произошедшее, как известно, в распивочной. Как и многие современные писатели, А. Понизовский обращается к «Преступлению и наказанию», но делает это не только потому, что из всего корпуса русской классики сюжет романа является знакомым рядовому читателю. В апелляциях к роману Понизовский актуализирует высокую значимость этого текста в творчестве классика: «Преступление и наказание» становится «своеобразным эпицентром его <Достоевского> творчества, в нем заложены зерна всех тех идей, что будут подробнее разрабатываться в других его произведениях» [Касаткина, 2015, с. 187].
Взгляд из швейцарской деревушки с живописным видом на Альпы резче обозначает изна-ночность и выморочность русской жизни, каковой она предстает в аудиозаписях, сделанных на Москворецком рынке и в Одинцовской горбольнице. Обе сюжетные линии («истории простых людей» и полемика вокруг этих историй) создают чисто «достоевское» конфликтное поле романа, ставящего проблемы смерти и бессмертия, смысла жизни и абсурда существования, жестокости и сострадания, русского народа и России.
Интертекстуальный диалог с Достоевским, начавшийся в завязке, активно ведется автором на протяжении всего романа и пронизывает все уровни организации текста – и прежде всего образный. Фёдор, главный герой романа представляет собой, по словам А. Латыниной, «гибрид князя Мышкина с Алешей Карамазовым». Это «молодой человек, глубоко верующий во Христа и, по Достоевскому, в Россию и русский народ» [Латынина, 2013, с. 162]. Образ Фёдора последовательно выстроен в традициях «положительно прекрасного героя» Достоевского, эталоном которого является «идиот» Мышкин.
Примечательно, что «почетное звание» идиота Федя получает в самом начале романа. Белявский рассказывает притчу о загипнотизированном студенте, который признается в любви отвратительному алкоголику. Под студентом Белявский подразумевает Федю, отчаянно защищающего несчастный русских народ:
«<Федя:> И все же – хотя я в бреду, по-вашему, с идиотским лицом...
<Белявский:> Почему с идиотским?! С прекрасным лицом, с живыми глазами, прозрачными…» (с. 48).
Детали портрета Феди напоминают облик его «прототипа» князя Мышкина: «Фёдор, молодой человек с мягкой русой бородкой», «выразительными, задумчивыми серо-голубыми глазами».
Приведем для сравнения портрет Мышкина: «молодой человек, лет двадцати шести или двадцати семи, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой. Глаза его были большие, голубые» [Достоевский, 1972, т. 8, с. 6] 1. Фраза «А ты знаешь, что ты псих настоящий? – с уважением сказала Лёля» (с. 360) – также вызывает аллюзии с образом «идиота» Мышкина.
Федина манера говорить, когда он «чувствовал, что речь его льется, что мыслям тесно» (с. 200), апеллирует к стилю речи Мышкина и еще одного героя Достоевского – Ивана Шатова, также являющегося «авторским персонажем» и рупором многих идей писателя. У Достоевского речь Мышкина описана как «горячешная тирада, наплыв страстных и беспокойных слов и восторженных мыслей, как бы толкавшихся в какой-то суматохе и перескакивавших одна через другую» (т. 8, с. 452). Шатов тоже говорит «бог знает что, дико, чадно, вдохновенно» (т. 10, с. 453).
Описывая Фёдора, А. Понизовский обыгрывает типологические характеристики героев Ф. М. Достоевского, ставшие «культурными ярлыками»: «русский мальчик» и «бедные люди». Так, супруга профессора Жюли Хаас называет Федю «русским мальчиком» и «бедным мальчиком», имея в виду реальную травму, когда на профессорской вилле Федя, задумавшись, ударился головой о стеклянную дверь.
Характер Дмитрия Белявского, идейного оппонента Феди, мотивирован спецификой жанра идеологического романа, подразумевающего столкновение противоположных мировоззрений. Если Федя является носителем христиански ориентированного сознания, с присущими ему состраданием, милосердием, кротостью, то Белявский представляет собой циничного интеллектуала-прагматика, враждебно настроенного по отношению к России (ср. высказывания Белявского: «Русские – тупиковая ветвь», «Русские примитивны», «Русские инфантильны», «Русские – пугало для всего мира» и под.).
Своими чисто публицистическими выкладками о проблемах русской жизни Дмитрий Белявский дает пищу для развития онтологической проблематики в рассуждениях Феди. Один из ярчайших в романе пассажей Белявского о тяжелом русском пьянстве приводит Федю к мысли о том, что «если целый народ <…> по-черному пьет – может быть, именно этот народ сильнее других ощущает внутреннюю пустоту?» (с. 238). Эта догадка Феди коррелирует с известным высказыванием Ф. М. Достоевского: «Судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно воздыхает» (т. 22, с. 43). В поиске «прототипов» Белявского согласимся с мнением А. Латыниной: «Дмитрий Белявский в споре с Федей будет играть роль Ивана Карамазова с примесью циника Свидригайлова» [Латынина, 2013, с. 162].
C портретным описанием последнего можно обнаружить и внешнее сходство Белявского, который изображается как человек «среднего роста, плотный, <одетый> дорого и хорошо» (с. 13); о Свидригайлове у Достоевского сказано: «немолодой, плотный» (т. 6, с. 214), «одежда <...> щегольская» (т. 6, с. 357). Кроме того, писатели неоднократно изображают обоих героев смеющимися, используя при этом негативно маркированный глагол «хохотать»: «Свидригайлов вдруг расхохотался» (т. 6, с. 215); «Какая граница? – расхохотался Белявский» (с. 81). Оба героя сходны и в способности вызывать у окружающих неприязнь: «Что-то было ужасно неприятное в этом красивом <…> лице» (о Свидригайлове) (т. 6, с. 357); «Да ни к чему оно не “направлено”»! – с неприятным удивлением сказал Белявский» (с. 453). Наконец, оба героя выглядят моложе своих лет и «увлекаются» девушками, которые значительно младше их самих: Свидригайлов собирается жениться на «шестнадцатилетнем ангельчике», а Белявский флиртует с девятнадцатилетней Лёлей.
В Лёле, в свою очередь, ощутимы аллюзии на образ Сонечки Мармеладовой. Совпадает не только возраст обеих героинь, но и их внутренняя сущность. Как сказано у Достоевского, Соня – это «создание, еще сохранившее чистоту духа» (т. 6, с. 248). Об этой внутренней чистоте говорится и применительно к героине Понизовского: «время от времени Феде казалось, будто от нее <от Лёли> исходит некий – не физический, а какой-то общий, нравственный что ли, – запах чистоты» (с. 12).
Образ Лёли может быть рассмотрен в контексте важнейшей для Достоевского художественной задачи – «пробить сердце». Когда Лёля, всегда подчеркнуто сдержанная, разрыдалась над очередной записанной на магнитофон чужой исповедью, ее сердце наконец оказывается «пробитым». Федя «был изумлен тем, что Лёля, до сих пор казавшаяся ему совершенно непробиваемой , плакала: “Ну как же помочь? Им же надо как-то помочь <...> Я знала, что плохо всё… – всхлипнула Лёля. – Но что настолько…”» (с. 352). В Записной тетради 1876– 1877 гг. Достоевский размышляет: «Пробить сердце. – Вот глубокое рассуждение, ибо что такое “пробить сердце”? Привить нравственность, жажду нравственности...» (т. 24, с. 226).
Помимо рассмотренных аллюзий на образы Достоевского, в романе «Обращение в слух» обнаруживается ряд интертекстов из произведений классика. Интертекст может декларировать простое «присутствие» Достоевского в семантическом пространстве романа, как, например, в случае с оговоркой Белявского: «Она боится ездить на тракторе “Беларусь”: они падучие ...» – «Кувыркучие», – поправляет Федя (с. 35). В других же случаях интертекст является формой диалога современного автора с писателем XIX столетия.
Так, интерпретируя неоднозначный образ агрессивного «работяги» дяди Кости, обещающего скорый «Судный день», Федя слышит в его рассказе «искреннее переживает за совершенно чужих, посторонних ему людей» и называет этот порыв «протянутой “луковичкой”» (с. 455). Возникает очевидная отсылка к роману «Братья Карамазовы» – к рассказанной Грушенькой легенде о луковке (т. 14, с. 319), обретшей в русской культуре статус метанарратива.
Далее в интерпретации образа дяди Кости появляется еще одна отсылка к «Братьям Карамазовым»: «Если его волевое движение было слабым – а допустим, оно было слабым, поскольку было внутренне противоречивым: заботясь об этих парнях из красных домов, он все же хотел и скандала, – значит, он будет плыть очень медленно, очень-очень-очень медленно, “квадриллион лет”» (с. 458). «Квадриллион лет», который предстоит пройти дяде Косте на пути к духовному совершенству, вызывает в памяти «анекдот» чёрта, рассказанный Ивану: «присудили, видишь, его, чтобы прошел во мраке квадриллион километров <...> то тогда ему отворят райские двери и всё простят...» (т. 15, с. 78).
Интересно, что негативная коннотация образа Анны Белявской создается в тексте в том числе и посредством интертекстуальных отсылок к Достоевскому. Лёля называет Анну «пау-чихой», и эта животная метафора апеллирует по крайней мере к двум романам Достоевского: «Бесам» и «Преступлению и наказанию». Так, для Лизы Тушиной «взаимная любовь» со Ставрогиным представляется в виде «огромного злого паука в человеческий рост», на которого они всю жизнь будут глядеть и его бояться (т. 10, с. 402). Также на память приходит образ вечности, воображаемой Свидригайловым: «комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки» (т. 6, с. 221).
Немаловажную роль в структуре романа Понизовского играет бахтинская концепция полифонии романов Достоевского. Несмотря на наличие образа Фёдора, транслирующего авторскую идеологию, в пользу полифонизма «Обращения в слух» говорит ряд фактов. Прежде всего обвинения Фединого антагониста Белявского в адрес русского народа нельзя назвать абсолютно беспочвенными. Кроме того, в финале романа любящий Россию Федя остается в Швейцарии, а «русофобы» Белявские летят в Москву. Не менее ярко полифонизм романа проявляет себя в эпизоде обсуждения истории стриптизера, усыновившего чужого ребенка. Фёдора «царапнуло замечание Анны о том, что рассказчик “принял чужую дочку”, и это не вязалось с Фединым рассуждением о “разрушении” или “смерти” души» (с. 137–138). Пони-зовский вновь вводит точку зрения, альтернативную позиции «авторского» персонажа.
С идеей полифонического романа связан, на наш взгляд, главный посыл «Обращения в слух»: услышать другого как равного себе. В рецензии на роман А. Понизовского К. Степанян, отмечая ориентацию современного автора на художественное сознание Ф. М. Достоевского, заметил: «умел Достоевский – услышать другую душу как свою» [Степанян, 2013, с. 212]. «Услышать другого» оказывается важным и для героев Достоевского. Например, в «Идиоте» Рогожин говорит Мышкину: «Я твоему голосу верю» (т. 8, с. 174). Умение «обратиться в слух» становится у Понизовского фактором, определяющим уровень духовного развития человека. Устами Фёдора автор формулирует идею об отмене «противоречия между так называемым “мной-субъектом” и “им-объектом” (с. 201) – мысль, заданную в названии и актуализированную в категории идеального Слушателя, в которого «обращаются» герои в финале романа.
Понизовский апеллирует к стилистике Достоевского и посредством воспроизведения приемов классика, одним из которых является анахронизм. Анахронизм встречается в «Братьях Карамазовых» и «Бесах». Так, на судебном заседании по делу Мити Карамазова в 1866 г. герои вспоминают несколько громких преступлений (дела офицера Карла фон Ландсберга, актрисы Настасьи Каировой и торговца-лотошника Зайцева), которые в действительности были совершены позже, в 1870-е гг. Тот же прием наблюдаем и в романе «Бесы». Его действие происходит в 1869 г., но в романе упоминаются события 1870–1871 гг.: персонажи говорят о Герцене как о «покойном» (год его смерти – 1870), упоминают сторонников Парижской коммуны «петролей», выступавших с протестами в 1871 г.
У А. Понизовского анахронизм обнаруживается в характеристике Феди, которого повествователь называет то «студентом», то «научным сотрудником университета»: «Федя пригласил Анну и Дмитрия в Alphotel, стесняясь того, что он, студент, позволяет себе жить в курортной гостинице» (с. 19) – «Будучи студентом, затем аспирантом, а в последнее время и помощником профессора в Universite de Fribourg, Федя уже седьмой год почти безвыездно жил в Швейцарии» (с. 11). Также анахронизм содержится в завязке романа. Известно, что действие романа происходит во время лыжного сезона – в новогодние каникулы, о чем говорит следующая фраза: «Погода наутро выдалась солнечная, не январская, теплая» (с. 19). Однако причиной, по которой встретились главные герои, стало извержение вулкана, в связи с чем были отменены авиарейсы. В действительности же исландский вулкан Эйяфьядлайё-кюдль извергался позже, 20–21 марта 2010 г.
Современный писатель разрабатывает типичный для Достоевского двухуровневый сюжет. Социально-актуальный сюжет у Понизовского разворачивается в пространстве «свободных нарративов», а религиозно-философский – в полемике Феди и Белявского. Сосуществование квазипублицистики и фикшн является прямой отсылкой к программным романам Достоевского, в которых социально-историческое содержание перемежается с философскими размышлениями героев и повествователя.
Широко известно высказывание Достоевского об эстетическом значении факта: «Действительно, проследите иной, даже вовсе и не такой яркий, на первый взгляд, факт действительной жизни, – и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира» (т. 23, с. 144). Публицистика в представлении писателя была переполнена фактами шекспировского, дантовского и гомеровского масштаба. А. Понизовский воплотил этот художественный принцип своего великого предшественника, использовав в качестве материала для «свободных нарративов» подлинные истории.
Подлинные и стилизованные автором истории «простых россиян» посвящены проблемам алкоголизма, криминализации социальной среды, вырождения русской нации. Недаром С. Костырко назвал «Обращение в слух» романом, «который читается как актуальная публицистика» [Костырко, 2013]. Размышляя о драматизме русской советской и постсоветской исторической судьбы, А. Понизовский ставит глобальный вопрос: «Быть или не быть России?». Оформленная «простыми словами» одной из героинь, эта мысль звучит так: «При Сталине пошла работать, двадцать лет отработала на авиацию и тридцать лет в космическом цеху – я имею пять тысяч пенсию! Ну да бог с ней – но вот у меня сейчас два мальчика: я помогаю внучке без отца растить двоих детей. Вот защитники родины – и кого они пойдут защищать? Мне вот непонятно: где моя родина?» (с. 146).
Стилизуя или обрабатывая устную речь, автор романа обращается к сказовой традиции. Двухголосое сказовое слово позволяет соотнести голоса конкретных персонажей и авторскую точку зрения, в которой ощутим притчевый подтекст. Скрытый смыл «историй» Федор формулирует следующим образом: способом существования русского народа является терпение, и богоносцем русский народ становится по своей сути. Согласно христианскому канону, терпение является «краеугольным камнем дома христианских добродетелей» – «особенно добродетелей любви, смирения и кротости, воздержания, целомудрия и покаяния» [Шиманский, 2015, с. 108].
Отношение к христианству становится камнем преткновения в дискуссии главных героев. Основополагающую для христианского вероучения идею терпения Белявский низводит до психического отклонения: «Почему одна женщина рассказывает, как она хоронила мать? А другая – как плакала из-за сына? А третья – как голодала? Почему они не рассказывают о том, как им было приятно и хорошо?.. <...> Это ваш мазохизм христианский, – брезгливо сказал Дмитрий Всеволодович. – Пострадал – получи “отпущение грехов”» (с. 223).
Фёдор же демонстрирует каноническое для христианства понимание терпения: «Помнишь, мы говорили, почему люди гордятся перенесенной болью? Вот я нашел у апостола объяснение, прямо по полочкам, посмотри: “Хвалимся и скорбями”… – то есть буквально, “гордимся страданиями”, “гордимся перенесенной болью”, – “зная, что от скорбей происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает”… – то есть “не обманывает”, – “потому что любовь Божия излилась в сердца наши”!» (с. 486).
Используя ресурс полифонического романа и делая сознания Фёдора и Белявского практически равноправными, А. Понизовский оставляет за читателем выбор позиции в вопросе веры и напоминает читателю о «Достоевском сомневающемся». Вспомним известное признание классика, сделанное им в письме к Н. Д. Фонвизиной 1854 г.: «...я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных» (т. 28, кн. I, с. 176). Однако в «Преступлении и наказании» Достоевский все-таки декларирует идею христианской всепобеждающей любви, и эта идея оказывается близкой современному автору.
Рассуждения Феди о терпении, надежде и любви заставляют воспринимать финал «Обращения в слух» не только как счастливое разрешение любовной коллизии, но как победу русских православных ценностей. В концовке романа звучат явные аллюзии на финал «Преступления и наказания». Подобно Раскольникову, циничная Лёля переживает своеобразное «воскрешение любовью». Напряженный сюжет-спор разрешается светлой сценой объяснения между Федей и Лёлей. Такое композиционное решение позволяет говорить об общности идейных установок современного писателя и классика русской литературы.
Предметом художественного осмысления у А. Понизовского становится не только стилистика и «идеология» Ф. М. Достоевского, но и сама личность писателя, оценку которой дают оба главных героя. Фёдор относится к своему великому тезке с нескрываемым пиететом, оправдывая человеческие пороки и подчеркивая масштаб личности писателя-классика: «Может быть, он <Достоевский> и должен был пройти ад, чтобы совершить свой писательский подвиг: в таких же, как сам он, страдающих и озлобленных увидеть божественный образ, божественную любовь» (c. 292).
Белявский же, напротив, нивелирует значение художественных открытий Достоевского и усматривает у него единственно психологическую мотивацию к творчеству: «Нет, Фёдор, таких русских, как у Достоевского и у вас – нет в природе. Никто ничего в глубине не хранит и алмазами не сияет: всё бред собачий. Народу эта ваша риторика – “Бог”, “миссия”, “искупление” – до полной фени.
Вы знаете, что ослепляет вас с Достоевским? Чувство интеллигентской вины – и интеллигентского ужаса перед насилием» (с. 293).
Для Феди резкие суждения Белявского – «ужасный туман», т. е. очевидное заблуждение. Федя развенчивает главный принцип философии Белявского – предельную логику, рациональность: «Он <Белявский> ищет рациональные объяснения: мол, “другой” – алкоголик, “другой” сам виноват в своей боли, он грязный, он – “быдло”... Но душу-то не обманешь рациональностями! Душа требует общности <...> Живая душа хочет вместе с другими живыми душами жарить хлеб на костре» (c. 379).
Размышления Феди развивают идеи героев Достоевского. В «Преступлении и наказании» подобные мысли высказал Разумихин: «Оттого так и не любят <социалисты> живого процесса жизни: не надо живой души! Живая душа жизни потребует, живая душа не послушается механики» (т. 6, с. 197). Позже, в «Идиоте», идею «живой жизни» князь Мышкин воплотил в образе Христа, созданного Г. Гольбейном: «...это лицо человека, только что снятого со креста, то есть сохранившее в себе очень много живого, теплого» (т. 8, с. 339). А вот мысли Ивана Карамазова: «...уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь» (т. 14, с. 64–65).
Исходя из идеи «живой жизни» Федя формулирует «общий знаменатель» всех прослушанных им «историй»: «Человек в первую очередь вспоминает моменты, в которые чувствовал себя максимально живым!» (с. 437). А кульминацией Фединой мысли о «живой жизни» стала оценка простой житейской истории о беспризорниках, которые в каких-то «посадках» вместе жарили хлеб: «Это рай! Образ рая: все вместе, все преломляют хлеб, все - живые !» (с. 360). Так в романе Понизовского буквально провозглашается «достоевская» тема «живого как проявления жизни вечной». И здесь современный автор демонстрирует глубинную, мировоззренческую связь с Достоевским.
Роман Понизовского актуализирует «культурную память» о Достоевском, апеллируя к известным высказываниям философов и филологов о русском классике. Так, форма философской дискуссии заставляет вспомнить о важнейшей черте художественного мировоззрения Достоевского, сформулированной Н. А. Бердяевым: «Достоевский, – писал философ, – отражает все противоречия русского духа, всю его антиномичность, допускающую возможность самых противоположных суждений о России и русском народе» [Бердяев, 2006, с. 121]. По мнению некоторых критиков, писавших о романе Понизовского, сюжетная ситуация об- суждения проблем «русской жизни» и «русской души» за пределами России, в Швейцарии, выглядит искусственной. Однако, на наш взгляд, подобное авторское решение сюжета весьма адекватно для разговора о Достоевском, которого справедливо считают «самым в России европейским писателем в художественных его прозрениях» [Кантор, 2011, с. 24].
Подобно Достоевскому, современный автор стремится снять противоречия между литературой светской и литературой православной: для Понизовского характерна специфическая черта творческого метода Достоевского, которую В. Г. Одиноков определил как «реальность ненаблюдаемой действительности» [Одиноков, 2002, с. 166]. Вслед за Достоевским Понизов-ский создает ощущение реального присутствия Бога и дьявола в мире. Тексты Священного писания для главного персонажа являются документальной основой и отправной точкой развертывания его аргументации, а отнюдь не художественной иллюстрацией к ней. Вот как, например, звучит в романе мотив «услышания», заявленный в названии. Федя рассказывает Лёле о евангельских событиях как о фактах человеческой истории: «Бог Отец, скрытый в облаке, говорит громовым голосом: “Сей есть Сын мой возлюбленный, Его послушайте”. Бог из облака говорит: “Слушайте”. А потом сам Христос проповедует, и много-много раз повторяет: “Имеющий уши слышать да слышит”» (с. 502).
Заключение
В исследуемом романе А. Понизовского рассматривается насущная проблема отечественной гуманитарной мысли – проблема самоидентификации русского человека. В полемике главных персонажей раскрывается авторское понимание русскости как этической, социальной и философской категории. «Обращение в слух» убедительно доказывает, что говорить на тему России, русского народа, православия как национальной религии невозможно без «оглядки» на творческий опыт Ф. М. Достоевского. Восприятие творчества Достоевского в романе А. Понизовского носит не только реминисцентный, но и «генетический» характер, что обусловлено мировоззренческой общностью этих русских писателей.
Список литературы Этико-эстетическая концепция Ф. М. Достоевского и проблема русской национальной идентичности в романе А. Понизовского «Обращение в слух»
- Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. М.: Рус. словари; ЯСК, 2002.
- Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Хранитель, 2006. 255 с.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972.
- Кантор В. К. «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов (становление философского пространства в России). М.: РОССПЭН, 2011. 608 с.
- Карякин Ю. Ф. Достоевский и канун XXI века. М.: Сов. писатель, 1989. 656 с.
- Касаткина Т. А. Священное в повседневном: Двусоставный образ в произведениях Ф. М. Достоевского. М.: ИМЛИ РАН, 2015. 528 с.
- Костырко С. Про вечный русский спор. Вдоль книжной полки // Русский Журнал. 11.03.2013. URL: http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Pro-vechnyj-russkij-spor (дата обращения 03.02.2023).
- Латынина А. Под знаком Достоевского. Заметки о романе Антона Понизовского «Обращение в слух» // Новый Мир. 2013. № 6. С. 160–167.
- Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров: Человек – текст – семиосфера – история. М.: Языки русской культуры, 1999. 465 с.
- Одиноков В. Г. Русские писатели XIX века и духовная культура. Новосибирск: НГУ, 2003. 261 с.
- Понизовский А. Обращение в слух: Роман. СПб.: Лениздат; Команда А, 2014. 512 с.
- Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / Пер. с фр., вступ. ст. и ком-мент. И. С. Вдовиной. М.: Академический проект, 2008. 695 с.
- Сараскина Л. И. Испытание будущим. Ф. М. Достоевский как участник современной культуры. М.: Прогресс-Традиция, 2010. 600 с.
- Семыкина Р. С. В матрице подполья: Ф. Достоевский – Вен. Ерофеев – В. Маканин. М.: Флинта: Наука, 2008. 176 с.
- Степанян К. Из Швейцарии с любовью? // Знамя. 2013. № 6. С. 210–212.
- Хорева Л. Г. Нарративные стратегии в новейшей русской литературе // Глобальные и локальные процессы в славянских языках, литературах, культурах 2. Серия «Rusistica Lat- viensis». Рига: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. С. 93–99.
- Черняк М. А. «Достоевскому – от благодарных бесов»: к вопросу о восприятии классики в XXI веке // Вестник Герценовского университета. 2009. № 4 (66). С. 57–64.
- Шакиров С. М. Три романа о русской истории и русской душе // Наука XXI века: проблемы, поиски, решения: Материалы XXXIX Науч.-практ. конф. с международным участием, посвящ. 70-летию Победы в Великой Отечественной войне / Под ред. А. Г. Бент; Челяб. гос. ун-т, Миасский филиал. Миасс: Геотур, 2015. С. 301–306.
- Шиманский Г. Христианская добродетель терпения. СПб.: Общество памяти игуменьи Таисии, 2015. 112 с.