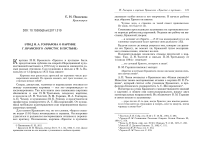Этюд И. А. Гончарова о картине И. Н. Крамского «Христос в пустыне»
Автор: Пинженина Екатерина Игоревна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.9, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена интерпретации центрального образа картины И. Н. Крамского «Христос в пустыне» русскими писателями XIX века. Основное внимание сосредоточено на анализе этюда И. А. Гончарова об этом полотне. Исследование приводит к выводу о существовании важной творческой, эстетической и мировоззренческой общности между Гончаровым и Крамским.
Русская литература xix века, творчество и. а. гончарова, живопись, образ христа
Короткий адрес: https://sciup.org/14748807
IDR: 14748807
Текст научной статьи Этюд И. А. Гончарова о картине И. Н. Крамского «Христос в пустыне»
К артина И. Н. Крамского «Христос в пустыне» была представлена публике на второй «Передвижной художественной выставке» в 1872 году и вызвала множество самых разных откликов. Сам художник в письме к Ф. А. Васильеву от 13 февраля 1873 года пишет:
Картина моя расколола зрителей на огромное число разноречивых мнений. По правде сказать, нет трех человек, согласных между собой1.
Споры, дискуссии, газетные и журнальные отклики по поводу толкования картины — все это сопровождало ее экспонирование. Так или иначе свое понимание картины обозначили и сам П. М. Третьяков, владелец картины, и писатели (Л. Н. Толстой, В. М. Гаршин, И. А. Гончаров, А. П. Чехов), и художники (И. Е. Репин), и представители профессуры университета (А. С. Шкляревский). От художника требовали подтверждения или опровержения высказываемых мнений.
Для самого Крамского эта, по его словам, «буря в стакане воды» (154) была неожиданна и странна. Он искренне удивлялся и радовался восторженным отзывам и переживал критику. Несомненно, картина «Христос в пустыне»
занимает особое место в его творчестве. В начале работы над образом Христа он пишет:
Чудное дело, а страшно за такой сюжет приниматься. Не знаю, что будет (113).
Сомнения преследовали художника на протяжении всего периода работы над картиной. Отдавая же работу на выставку, Крамской уверен:
.. .и потащат его (Христа. — Е. П.) на всенародный суд и все слюнявые мартышки будут критику свою разводить (132).
Будучи сам не до конца уверен в том, поверят ли зрители его Христу, не осмеют ли, Крамской чутко воспринимал отзывы извне, отвечал на них.
Положительными оказались отзывы писателей о картине. Так, Л. Н. Толстой в письме П. М. Третьякову от 14 июля 1894 г. отмечает:
...это лучший Христос, которого я знаю2.
В. М. Гаршин написал матери:
«Христос в пустыне» Крамского сделал на меня ужасно сильное впечатление3.
-
А. П. Чехов отозвался о Крамском так: «Какая умница!»4 Известны также восторженные отзывы о картине И. Е. Репина5, который считал себя учеником Крамского, и профессора Киевского университета А. С. Шкляревского6.
Несмотря на слова Крамского о множественности мнений о картине, в общем они консолидировались вокруг двух магистральных направлений. Их обозначает В. М. Гаршин в своем письме к художнику:
...утро ли это 41-го дня, когда Христос уже вполне решился и готов идти на страдание и смерть, или та минута, когда «прииде к нему бес»7.
То есть, по сути, вопрос заключается в следующем: на полотне Крамского изображен неодолимый, мужественный, готовый на подвиг, сильный Христос или Христос, мучимый, искушаемый, решающийся.
-
В. М. Гаршин категорически отстаивал первую точку зрения:
Видеть в фигуре Иисуса страдание и борьбу только потому, что у него измученное лицо — это показывает очень поверхностное знакомство с человеческой душою8.
Многие находили, что в облике Христа Крамского «человеческое» преобладает над «божественным». Так, Л. Н. Толстой пишет в уже цитированном письме к Третьякову, что на картине Крамского «выражен Христос как человек, один сам с собою и с Богом»9. Именно это человеческое, земное в облике Спасителя вызывало споры, осуждалось одними и превозносилось другими комментаторами картины.
Одним из первых откликов на полемику вокруг образа Христа была статья И. А. Гончарова, написанная им в 1874 году, но так и не опубликованная при жизни писателя10. Статья представляет особый интерес с нескольких точек зрения.
Во-первых, интерпретация образа Христа Гончаровым существенно отличается от обоих обозначенных нами магистральных направлений полемики. В сущности, это попытка найти «третий» путь, примиряющий обе точки зрения — увидеть в облике Христа одновременно и неодолимую решимость на подвиг, и следы преодоленного страдания на его лице. Кроме того, Гончаров сосредоточивает свое внимание и на тех доминантах образа Христа, которые не были увидены другими толкователями.
Во-вторых, статья «“Христос в пустыне”. Картина г. Крамского» является чуть ли не единственным случаем во всем гончаровском наследии, где писатель говорит о Христе. Следовательно, анализ статьи важен для прояснения одно- го из «белых» пятен гончароведения — вопроса о религиозности Гончарова и его представлений о вере. Кроме того, оригинальная интерпретация Гончаровым образа Христа Крамского позволяет предположить, что в понимании и оценке образа Спасителя выразились психологические и мировоззренческие доминанты личности писателя.
В-третьих, в статье обозначилась позиция Гончарова-художника в отношении эстетического воплощения веры, представления ее в художественном образе. Наконец, отзыв Гончарова важен в силу того, что с Крамским его связывали особые личные отношения. Поясним последний момент.
Крамской дважды (в 1865 и 1874 годах) делал портреты Гончарова. На позирование для первого, выполненного соусом, Гончаров согласился относительно легко. Создание второго портрета, заказанного П. М. Третьяковым, потребовало настойчивости как со стороны художника, так и со стороны заказчика. Гончаров в течение 5 лет не соглашался позировать. Вот один из его типичных отказов:
...мешает... скромность, вовсе не излишняя и непритворная, то есть убеждение, что деятельность моя не так замечательна, чтобы стоило помещать мой портрет в галерею (506).
И далее:
К этому прибавьте еще старость, нездоровье, т. е. хандру, какое-то раздражение нерв и т. п. (507).
Только в 1874 году Гончаров соглашается начать позирование. При этом Крамской пишет Третьякову в письме от 6 марта 1874 года:
Сидит он хорошо и совсем стал ручным (240).
Портрет был написан, и Гончаров дал ему такую оценку:
Он (Крамской. — Е. П.) добыл у меня что-то из души, на что он был великий мастер, и дал это что-то, какую-то искру правды и жизни портрету; я радовался, что он понял внутреннего человека11.
Обратим внимание на эту формулировку — «внутренний человек». Такой отзыв особенно неожидан от Гончаро- ва не только в силу сложной и долгой истории создания портрета. Необходимо учесть доминирующее психологическое состояние стареющего писателя в последние десятилетия его жизни — хандру, болезненное недовольство окружающими, сознательное одиночество. Все это было следствием того, что Гончаров ощущал себя непонятым и как человек со своими слабостями и достоинствами; и как писатель, последний роман которого был критически встречен публикой, что даже заставило Гончарова «объясняться» с читателем в статье «Намерения, идеи и задачи романа “Обрыв”» (1872). Думается, что определение «внутренний человек» нужно понимать как признание Гончарова в том, что за бесстрастной внешностью стареющего, вечно ворчащего писателя Крамской увидел и признал настоящего человека, достойного внимания, интереса, сочувствия.
Понимание «внутреннего» человека стало ключевым моментом и в оценке Гончаровым картины Крамского «Христос в пустыне». По воспоминаниям Гончарова, во время сеансов портрета он много говорил с Крамским, в том числе о его Христе, поэтому мы и обращаем на его интерпретацию особое внимание.
Статья «’’Христос в пустыне”. Картина г. Крамского» в первой публикации (1921) имела подзаголовок: «Неизданный этюд Гончарова»12. И действительно, небольшая по объему (всего около 12 страниц) статья и по характеру, по стилю похожа больше на этюд, набросок.
В начале статьи Гончаров отмечает, что картина Крамского в экспозиции находится в невыгодном положении, она неудобно висит:
...в глубине залы, в углу, почти в темноте... Кроме темноты, для картины невыгодно и то, что зритель подходит к ней, развлеченный впечатлениями предшествующих — пейзажей, портретов, жанра, этюдов. Между тем картина и по сюжету и по исполнению должна иметь важное значение в современном искусстве (VIII, 62).
То же отмечал сам Крамской: первоначально картина не привлекала особого внимания публики, поскольку находилась в дальнем углу помещения. Только спустя время около нее стали толпиться зрители, говорить, спорить. Однако невыгодное положение картины в экспозиции не мешает Гончарову признать, что она является «капитальным произведением кисти г. Крамского» (VIII, 62). Гончаров подчеркивает, что истинное место этой картины не «в углу» и «в темноте». Это особое произведение, к восприятию которого и зритель должен отнестись особо, и далее весь разговор о картине «Христос в пустыне» ведется в сакральном ключе. Полотну Крамского Гончаров противопоставляет произведения современных ему художников, говоря, что «под влиянием... разъедающих начал (отрицание, скептицизм, безверие. — Е. П.) художники... дают нам лица и события религиозного содержания, лишенные их священного характера» (VIII, 62). Гончаров убежден, что в Христе Крамского действительно заключено священное содержание.
Второй существенный тезис статьи Гончарова касается проблемы изображения Христа. Писатель подчеркивает, что до сих пор, за всю историю христианства «никто не даст себе труда договориться до ясного понятия об образе Иисуса Христа» (VIII, 64). По Гончарову, это оказывается априори невозможным, поскольку невозможно «дать тонкую и окончательную оценку... лицу Христа в... минуту смертного подвига!» (VIII, 65). И это сказано не только в отношении Крамского, но любого художника. Так, о группе персонажей на картине Н. Ге «Тайная вечеря» Гончаров пишет, что невозможно «прочесть эти лица, вдуматься в душу каждого и перенести на полотно — выше сил всякого таланта!» (VIII, 65).
И, наконец, о Христе Крамского:
...никакая кисть не изобразит всего Христа, как богочеловека, божественность которого доступна только нашему понятию и чувству веры — истекающим не из вещественного его образа, а из целой жизни и учения (VIII, 64).
Такое представление о вере как о религии «сердца» характерно для Гончарова. Главное его убеждение по вопросу веры В. И. Мельник формулирует так:
...в основе своей вера была и всегда должна оставаться «младенческой»13.
Отметим, что о невозможности изобразить Христа и сам Крамской еще во время работы над картиной пишет:
(Христа я. — Е. П.) ...не могу и не мог написать.
Но прибавляет:
Должен был написать (133).
Основная идея интерпретации Гончаровым образа Христа концентрируется в двух характеристиках: это доминирование человеческого в образе Спасителя и его внешняя «жалкость», убогость при несомненном внутреннем мужестве и готовности к жертве.
Как указано выше, отсутствие особого, «божественного», в облике Христа Крамского отмечалось многими. Гончаров здесь горячо защищает художника:
Они (зрители. — Е. П.) требуют, они убеждены, что в лице, в фигуре, словом, во всей личности Иисуса Христа «должно было быть» что-нибудь особенное. <...> Надо разуметь, по их словам, под этим «особенным» что-то сверхъестественное, не человеческое, божественное. Легко сказать! как его вообразить и изобразить — они не говорят... Но было ли божественное в земном образе Христа — и кто видел это? Не было, иначе бы мир знал о том (VIII, 67).
Заметим, кстати, что Гончаров редко бывает столь откровенно эмоционален в своих высказываниях. Особенно в последние десятилетия жизни.
Писатель настаивает:
...в образе Христа можно и должно представлять себе все совершенства — но выражавшиеся в чистейших и тончайших человеческих чертах! Конечно, это и будет то, что схватывают в человеке как искру божества (VIII, 68).
Совершенные человеческие, земные черты в облике Христа Гончаров называет правдой жизни в искусстве и подчеркивает:
Религиозное, не фарисейское благоговение от художественной правды не смутится (VIII, 63).
По его представлению, истинно верующий человек должен за земным обликом Христа, за внешностью человека увидеть «внутреннего» Христа, «внутреннего» Бога.
Важно, что о «внутреннем» Боге пишет и Крамской:
Мой Бог — Христос, величайший из атеистов, человек, который уничтожил Бога во вселенной и поместил его в самый центр человеческого духа... (226)14
Гончаров объясняет такое понимание художником земной «формы» образа Спасителя существующей, притом авторитетнейшей традицией: это и «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, и Христос на картине Н. Ге «Тайная вечеря». Писатель настаивает, что «божественность» изображения зависит от зрителя и его веры:
.. .чувство веры должен приносить и зритель, чтоб увидеть в картине Спасителя или Девы Марии не просто человека, а богочеловека, а в Деве Марии — мать Бога, чего неверующий никогда не увидит, с какою бы верой и с каким бы гениальным талантом ни писал живописец (VIII, 69).
По Гончарову, Христа можно увидеть только тогда, когда смотришь на него с искренней верой. Художественное выражение этого постулата находим в сцене из романа «Обрыв». Вера перед последним роковым свиданием с Марком Волоховым смотрит на икону и пытается найти в лике Спасителя какой-то знак, опору, помощь — что-то, что удержало бы ее от рокового шага, — и не находит:
Она (Вера. — Е. П.)... глядела напряженно на образ: глаза его смотрели задумчиво, бесстрастно. Ни одного луча не светилось в них, ни призыва, ни надежды, ни опоры. Она с ужасом выпрямилась... (VI, 183).
В свете вышеизложенного этот эпизод можно интерпретировать следующим образом: в этот момент Вера наиболее далеко отрывается от «старой» бабушкиной правды, одной из основ которой является вера. Условно говоря, Вера смотрит на Христа, теряя веру, поэтому и не видит «ни надежды, ни опоры», то есть не видит за ликом «внутреннего» Бога.
В утверждении человеческого в облике Христа Гончаров явно близок Крамскому. Этому есть косвенное свидетельство И. Е. Репина, который пересказывает один из своих разговоров с Крамским, в котором речь шла в том числе о Христе:
...он (Крамской. — Е. П.) говорил о нем как о близком человеке15.
Вторая идея Гончарова, выразившаяся в статье, связана с попыткой примирить два противоречащих друг другу толкования образа Христа: как Христа решившегося и колеблющегося. Но здесь появляется оригинальное гончаровское в интерпретации картины: в противоречивом соединении убогости и страдания во внешнем облике Христа и его внутренней готовности к подвигу во имя человечества.
Гончаров пишет:
Художник глубоко уводит вас в свою творческую бездну, где вы постепенно разгадываете, что он сам думал, когда писал это лицо, измученное постом, многотрудной молитвой, выстрадавшее, омывшее слезами и муками грехи мира — но добывшее себе силу на подвиг (VIII, 73).
Таким образом, писатель подчеркивает не «результат» поста — Христос, готовый идти на муку и жертву во имя человечества, а психологический процесс «подхода», приготовления его к этому подвигу.
Далее читаем:
Вся фигура как будто немного уменьшилась (здесь и ниже курсив наш. — Е. Т.) против натуральной величины, сжалась — не от голода, жажды и непогоды, а от внутренней, нечеловеческой работы над своей мыслью и волей — в борьбе сил духа и плоти — и, наконец, в добытом и готовом одолении. Здесь нет праздничного, геройского, победительного ве- линия — будущая судьба мира и всего живущего кроется в этом убогом маленьком существе, в нищем виде, под рубищем — в смиренной простоте, неразлучной с истинным величием и силой (VIII, 73).
Гончаров обращается к подобному описанию неоднократно, говоря о Христе на картине Крамского:
...это творческое изображение Христа в его смиренном, убогом виде, в уголке пустыни, на голых камнях... (VIII, 74).
В традиции изображения (или описания) Спасителя существует достаточно устойчивая тема страдания. Но Гончаров, выявляя признаки «убогости», «жалкости» Христа, своим толкованием следует другой традиции, представленной, например, Тютчевым и Достоевским16.
Интерес представляет неожиданно созвучное гончаровскому суждение А. Е. Тимашева, тогдашнего министра внутренних дел, приведенное Крамским:
...в голове не вмещается идея о таком убитом Христе (155).
Следовательно, Гончаров не был одинок в таком понимании Христа Крамского.
Однако более распространенной все же была противоположная точка зрения. Так, В. М. Гаршин, как будто полемизируя со своими оппонентами, пишет:
Те черты... по-моему, вовсе не служат к возбуждению жалости к “страдальцу” (говорю это потому, что один из толкователей нашел, что лицо Христа ужасно жалко). Нет, меня он сразу поразил, как выражение громадной нравственной силы, ненависти ко злу, совершенной решимости бороться с ним. А страдание теперь до него не касается...17
Какова же позиция художника?
По-видимому, она близка все-таки гончаровской трактовке. В письме Ф. А. Васильеву от 10 октября 1842 года И. Н. Крамской пишет:
На утре, усталый, измученный, исстрадавшийся, сидит один между камнями... И он (Христос. — Е. П.) все думает, все думает. Страшно станет (133).
О периоде, пока велась работа над картиной, Крамской неоднократно рассказывает похожие эпизоды, как во время продолжительных прогулок он как будто видел Христа:
Я видел эту думающую, тоскующую, плачущую фигуру (218).
Художник долго рассматривал его, оставалось только перенести увиденное на холст. Это и было самым сложным, почти невозможным, как постоянно повторяет Крамской в письмах к близким друзьям. Согласно свидетельствам самого художника, действительно, во внешнем облике Спасителя страдание ощутимо им больше, нежели его сила.
Разумеется, полемика, возникшая вокруг картины, была крайне важна Крамскому. Это следует, например, из его слов, обращенных к Ф. А. Васильеву:
А ведь картина моя и не особенно понравилась. Как будто бы это сущая безделица (149).
О том, скольких душевных сил потребовалось художнику, чтобы создать образ Христа на полотне, говорит он сам:
Я после своей картины какой-то странный сделался, постарел (148).
Нам неизвестно, был ли знаком Крамской с отзывом Гончарова о картине. Но, как следует из проведенного нами текстового сопоставления статьи Гончарова и писем Крамского, именно эта интерпретация оказалась наиболее близкой художнику. Как некогда Крамской кистью «добыл что-то из души» Гончарова, так теперь, в свою очередь, писатель «добыл», понял сокровенные мысли художника.
Итак, интерпретация Гончаровым образа Христа, созданного Крамским, существенно отличается от основных направлений полемики, которая развернулась среди зрителей и толкователей картины после ее представления публике. Доминантой образа Христа в понимании Гончарова является его убогость, жалкость, измученность. Именно эта внешняя слабость, соединенная с внутренней мощью и неодолимостью, создают то неповторимое впечатление, которое отмечалось зрителями. Причем именно это, отличное от остальных, мнение Гончарова, его понимание сущности образа оказались наиболее близкими авторскому.
Итак, Гончаров, как и каждый из зрителей, увидел в изображенном Христе что-то свое, идущее из глубины собственной художнической натуры. По Гончарову, изобразить божественную сущность Христа невозможно, каким бы талантом ни обладал художник. Ему под силу только создание внешне совершенного человеческого образа, но такого, в котором заключен «внутренний» Бог. Увидеть «внутреннего» Христа возможно, только веруя, следовательно, зритель, как и художник, должен изначально нести веру в себе. Этот тезис существен для понимания гончаровского отношения к вере вообще: его вера была прежде всего «внутренней», свободной от мучительных переживаний и сомнений и как будто растворенной в каждом дне его жизни, но от этого не становилась слабее. Для Гончарова высшее божественное заключено в идеальном человеческом. И статья «“Христос в пустыне”. Картина г. Крамского» является практически единственным и поэтому главным источником для прояснения позиции писателя.
Представляется важным и характер взаимоотношений Гончарова и Крамского, отношений скорее двух художников, нежели двух людей. То свое, что Гончаров увидел в Христе Крамского, поразительно совпало с тем, что вложил в образ художник. Это позволяет предположить существование важной творческой, эстетической и мировоззренческой общности между Гончаровым и Крамским, рассмотрение которой может стать предметом специального исследования.
Список литературы Этюд И. А. Гончарова о картине И. Н. Крамского «Христос в пустыне»
- Крамской И. Н. Письма, статьи: В 2 т. Т. 1. М., 1965. С. 155.
- Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 19. М., 1984. С. 295.
- Гаршин В. М. Сочинения: Рассказы. Очерки. Статьи. Письма. М., 1984. С. 379.
- Чехов А. П. Полн. собр. соч.: В 30 т. Письма. Т. 2. М., 1975. С. 230.
- Репин И. Е. Далекое близкое. Л., 1982. С. 151.
- Лощиц Ю. М. Гончаров. М., 2004. С. 298 (ЖЗЛ).
- Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1972-1980. С. 507.
- Мельник В. И. О религиозности И. А. Гончарова//Русская литература. 1995. № 1. С. 204.