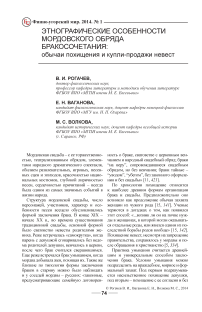Этнографические особенности мордовского обряда бракосочетания: обычаи похищения и купли-продажи невест
Автор: Рогачев Владимир Ильич, Ваганова Елена Николаевна, Волкова Марина Семеновна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Сокровищница традиционной культуры
Статья в выпуске: 1, 2014 года.
Бесплатный доступ
Раскрываются этнографические особенности наиболее древних форм заключения брака, реконструируются архаичные формы заключения брака и выделяются их отличительные особенности, уточняются некоторые терминологические понятия.
Формы организации брака и свадьбы, обряд похищения невест, брак умыканием, "самокрутка", купля-продажа невест
Короткий адрес: https://sciup.org/14723059
IDR: 14723059
Текст научной статьи Этнографические особенности мордовского обряда бракосочетания: обычаи похищения и купли-продажи невест
(г. Саранск, РФ)
Мордовская свадьба – с ее торжественностью, театрализованным обрядом, элементами народного драматического спектакля, обилием развлекательных, игровых, песенных сцен и эпизодов, красочностью национальных костюмов, глубокой лиричностью песен, сердечностью причитаний – всегда была одним из самых значимых событий в жизни народа.
Структура мордовской свадьбы, число персонажей, участников, характер и особенности песен всецело обусловливались формой заключения брака. В конце XIX – начале XX в., во времена существования традиционной свадьбы, основной формой было сватовство невесты родителями жениха. Реже встречалась «самокрутка», когда парень с девушкой сговаривались без ведома родителей девушки, венчались в церкви, после чего брак считался свершившимся. Еще реже встречался брак умыканием, когда мордва добывала жен, похищая их. Такие же близкие по типологии формы заключения браков в старину можно было наблюдать и у соседей мордвы – русских: «законные, предусматривающие семейную договорен- ность о браке, сватовстве с церковным венчанием и народный свадебный обряд; браки “на веру”, сопровождавшиеся свадебным обрядом, но без венчания; браки тайные – “уводом”, “убегом”, без законного оформления и без свадьбы» [11, 421].
По хронологии похищение относится к наиболее древним формам организации брака и свадьбы. Предположительно оно возникло как продолжение обычая захвата женщин из чужого рода [15, 141 ]. Ученые теряются в догадках о том, как появился этот способ: «...возник ли он на почве нужды в женщинах, в которой могли оказываться отдельные роды, или явился одним из последствий борьбы родов вообще» [15, 142 ]. Похищение невест, несмотря на запрещение правительства, сохранялось у мордвы и после обращения в христианство [5, 334 ].
Практика умыкания считается древнейшим и универсальным способом заключения брака. Условно умыкания можно подразделить на враждебное, мирное и формальный захват. Под первым подразумевается насильственное похищение девушки, под вторым – похищение с ее согласия и без
ведома или с ведома родни, под третьим – имитация похищения. Эти три формы бытовали у мордвы вплоть до начала XX в. Увозились обычно девушки из другого рода, из отдаленной деревни, чтобы легче было укрыться от преследования и невеста не могла бы убежать домой. В свадебных обрядах мордвы недавнего прошлого в сцене увоза невесты из отцовского дома особенно ярко отражаются переживания из эпохи умыкания невест [15, 141 ].
Невесту вместе с подругами заворачивали в кенде (кошму), укутывали в занавес, затягивали вожжами и выносили из дома [20, д. 75, л. 29]. Среди свадебных персонажей центральной фигурой является уредев . Данный термин на русский язык фольклористами переводится как «дружка», хотя ролевые функции этих персонажей не совпадают, что отмечено исследователями. «Той идеи, которая заключается в русском слове “дружка”, уредев в себе не заключает», – пишет И. Н. Смирнов [15, 141 – 142 ]. Сам термин в мордовском-эрзя языке имеет два значения, одно из которых – «делатель, добыва-тель рабыни», а другое – «шафер» [21, 696 ]. В Симбирской губернии еще в XIX в. соблюдался древний обычай: уредев вместе с покш кудат (поезжанами) «...с вечера приезжает за невестой, а летом останавливается табором около околицы – как делалось это в старину, когда невесту действительно похищали. В дом невесты они являются уже не ночью, а ранним утром и проникают в него только после подачки. Здесь их угощают, невеста скоро прощается с родными, поезжане подхватывают ее, тащат в кибитку и везут – в настоящее время в церковь, в языческую пору, конечно, прямо в дом жениха» [15, 142 ].
Обряд похищения, ведущий свое начало с далекой древности, сохранялся и в XVIII–XIX вв. Членом академической экспедиции И. И. Лепехиным он зафиксирован у черемшанской мордвы: «...неимущие, которые не в состоянии дать выкуп за невесту, стараются подцепить где-нибудь девку удальством: подговаривают шайку удалых ребят и тайно приезжают в ту деревню, где подговорена девка; а иногда с базаров и других мест увозят противу воли девок» [7, 173–174]. Нередко похити- телями были родственники, дружка и поезжане. Часто прибегали к имитации похищения невесты. Фиктивные похищения (по предварительному сговору с девушкой) практиковались повсеместно и совершались при самых разнообразных условиях: иногда самим женихом, иногда – женихом с товарищами, а подчас и главой семейства с его братьями либо сыновьями.
О распространенности умыкания в мордовской среде свидетельствует национальный фольклор. В древнем сказании «Пенза ды Сура» один из героев Морго в ответ на отказ девушки Суры выйти за него замуж говорит ей:
Бути а молят парсо – салатан!
Сядо панжама экшес кекшезат, Тостояк, тейтерь, мон тонь таргатан.
Если не пойдешь за меня – украду!
Даже если за сто замков ты спрячешься,
И оттуда тебя я, девушка, выкраду. [10, 27 ]
В песне «Моро Чимбулат атядо» («Песня о старике Чимбулате») главный герой не представляет себе иного способа женить сыновей, как добыть им невест умыканием.
Обнаружив двух девушек, собирающих ягоды, Чимбулат решил насильно захватить их:
Косо стардынзе, тосо кундынзе. Уш кедест-пильгест сюлмсинзе, Сон кильдень ракшас путынзе.
Где застал, там и поймал.
Руки-ноги связал им,
На запряженную повозку положил. [23, 262 ]
О распространенности похищений невест в старину говорит тот факт, что в устной поэзии находят одобрение действия Чимбулата:
Сон седикелень койтнесэ
Уш урьвакстынзе церанзо, Истя саинзе урьванзо, Нишке пазось сынет вечкинзе.
Он по старинному обычаю Поженил сыновей своих, Так он взял снох своих, Бог Нишке полюбил их. [23, 262 ]
О том, что мордва длительное время прибегала к данному способу, есть множество свидетельств. Интересные сведения приводит П. И. Мельников. Парень, приметив хо-
Финно – угорский мир. 2014. № 1 рошую девку или узнав о такой по слухам, подговаривал родственников идти за женой. Выглядело это следующим образом: «Отправляются в деревню тайком и стараются застать девку в поле, или на ключах, ну словом, где-нибудь, только непременно под открытым небом. Девку хватают и увозят. Между тем похитители гнали лошадей во всю мочь и, подъехавши к первому амбару своей деревни, запирали туда жениха с невестой на трое суток. Каждый день утром и вечером стучали в дверь амбара поленом, приговаривая: “свикайтесь, свикайтесь, сви-кайтесь”. На четвертый день, рано утром все родственники собирались к амбару, отпирали молодых и поздравляли их с законным браком. Затем пир горой, песни, пляски, музыка...» [9, 110 ]. Умыкание не отменяло свадьбу, а ускоряло ее, отсекая наиболее насыщенный и значительный в поэтическом плане предсвадебный этап, сразу подводя ко второму.
Случаи насильственного увоза приводятся М. Е. Евсевьевым со слов матери, которая рассказала о похищении девицы из соседнего с ними дома: «Увидев вооруженную толпу преследователей, похитители бросили невесту, подводы с лошадьми и разбежались по лесу. Дома выяснилось, что невеста уже обвенчана, и ее пришлось вернуть похитителям» [5, 334 ]. Подобная история произошла в с. Кабаево в 1914 г., когда «умыкнули дочь Нуштайкиных, которую только случай спас от насилия: похитителям пришлось везти ее мимо того дома, куда была выдана ее старшая сестра, разбудившая на крик сестры мужа и соседей, с помощью которых ее отбили...» [4, 373 – 374 ]. К. Фукс в 30-е гг. XIX в. писал о том, что у мордвы крадут невест. Жених делает это, «...не надеясь получить согласия родителей, не имея надежды к соединению браком. В этом случае избегали больших хлопот и свадебных расходов; скупые же были тому очень рады, потому что отец и мать невесты не обязаны давать бежавшей дочери никакого приданого, разве по доброй воле» [19, 12 ].
Похищения по предварительному соглашению с девушкой практиковались повсеместно. В архивах Уфимской духовной консистории находится дело за 1819 г., оза- главленное «Брак мордвина деревни Кузай-киной, прихода Малыклов Мензелинского уезда, Тимофея Тимофеева с Марьей Прокопьевной без воли и согласия ее родителей». Его суть составляло следующее: невеста, узнав, что родители не выдадут ее замуж ранее 30 лет, договорилась с суженым, чтобы тот ее похитил с поля, где она «брала ягоды в Петров день. После чего молодые были повенчаны в селе Порутчиково» [1, л. 7–8]. Описанная форма брака известна у мордвы под названием лисезь туема – «самокрутка»: девушка убегала от отца и матери, выходила замуж и передавала своему мужу тайно от семейных все свое имущество. Типологически сходными были умыкания девушек с их согласия и без ведома родителей у карелов [16, 41].
К отголоскам умыкания можно отнести эпизод, описанный И. Г. Георги, когда в момент укладывания молодых сопротивляющуюся невесту, посадив на рогожку, насильно относят к жениху в подклеть [3, 45 ]. Из традиции умыкания вытекают и такие эпизоды свадьбы более позднего периода, как заворачивание невесты в кошму, обрезание гужей, укрытие молодой в специально приготовленном доме, вынос на руках, запирание ворот, взятие девичьего городка поезжанами, погоня за куницей, наречение молодой новым именем. Например, в с. Алово Городищенского уезда Пензенской губернии при выносе укутывали невесту в кошму и перевязывали вожжами. В с. Трехболтаево (Чувашия) завертывали невесту, а в селах Сулла (Башкирия) и Ало-во – ее вместе с подругой [4, 239 ].
Хорошей иллюстрацией является пример, приводимый И. И. Лепехиным: «Двое из поезда берут невесту под пояс, а третий, главный дружка, за ноги и так ее выносят на двор. Невеста хватается руками за матицу и держится сколько есть сил; отец и мать, ближайшие сродники стараются развести ей руки и помогают вынести» [7, 175–176]. Активную роль играет уредев: как только вынесут невесту, он с саблей в руке оттесняет людей, требуя, чтобы невесте никто навстречу не попадался. Из избы никого не выпускают до тех пор, пока невеста не будет посажена в он-аву (в кибитку) и покрыта бе- лой скатертью [7, 176]. Вся эта инсценировка восходит к временам настоящих похищений, когда была исключительно важна роль уредева. Двери запирались снаружи, чтобы не могли выйти домочадцы, невесту выносили силой, прятали в повозку, укутывая покрывалом, чтобы eе было незаметно.
Напоминанием об обряде похищения невест служит сцена борьбы у ворот; торонь кандысь (дружка) просит открыть приехавшим гостям, но в ответ слышит: «Вы не гости, а воры, вы пришли украсть девушку, давайте сперва деньги, потом отопрем». Иногда даже открывали «только после борьбы» [12, л. 3–5]. По сути, это была инсценировка насильственного похищения невесты женихом и поезжанами в момент приезда за ней свадебного поезда. Имитацией акта похищения являются сопротивление невесты, попытки ее уцепиться или прикоснуться к матице и косякам при выносе из родного дома.
Браки умыканием известны и у других народов. Так, у карелов уводили невесту «на уголке платка» вечером, во время посиделок: «...парень публично протягивал девушке уголок своего платка и, если она бралась за платок, уводил ее к себе домой» [16, 41 ]. Забирали девушек и в дни праздников, с вечеринок, бесед [16, 41 ]. Подобный обычай отмечен и у соседних с мордвой Поволжья чувашей [22, 243 ], у татар и башкир.
Брак «приведением» с элементами договоренности – довольно древняя форма организации свадьбы, которой пользовались еще поляне [11, 466]. В «Повести временных лет» «…поляне рассказываются: брачные обычаи имяху: не хожаше по невесту, но приведяху вечер, а завтра приношаху по ней, что вдадуче» [11, 466]. Умыкание по предварительному сговору процветало у славянских племен древлян, родимичей, северян, соседей мордвы – вятичей: «...и ту умыкаху жены себе, с нею же кто съверща-щеся» [11, 466]. Ему предшествовали молодежные праздники, хороводы, игрища, совместно проводимые вечера. Довольно часто похищение невест происходило у источников, в местах купаний, на праздниках в честь богини «женитьбы» Лады, начинавшихся на Красную горку и продолжавшихся до середины лета – дня Ивана Купалы [11, 466]. Большое распространение обряд хищения невест получил у народов Северного Кавказа [14, 265–269]. Утверждение о том, что настоящее умыкание никогда не было законным и широко распространенным способом заключения брака, «не совсем правомерно, т. к. это явление имело широкое бытование у значительного числа народов дореволюционной России» [14, 265].
В связи с тем что похищение насильное и с согласия девушки, но вопреки ее родне было сопряжено с опасностью погони, драками и даже убийствами, как это описано в некоторых источниках [9, 102 – 110 ; 15, 142 ], невеста чаще прибегала к браку уходом. Иногда это совершалось и с тайного согласия родителей, чтобы значительно сократить расходы на свадьбу. Исследователи свадебной поэзии и обрядов XIX в. отмечают: «...самоходка как жениху, так и невестину отцу становится по меньшей мере в пять раз дешевле против свадьбы, справляемой по всей форме» [17, 33 ].
Мотивы брака уходом – экономические: семья жениха стремилась избавиться от непомерных свадебных расходов, связанных со сватовством, предварительными подарками, угощениями. Семья невесты также желала уменьшить свою долю в них. К названному способу прибегала сельская беднота, не имевшая средств «отпраздновать многочисленные и дорогостоящие торжества традиционного свадебного обряда, которые были положены по сговору» [14, 267 ]. По типологии это была универсальная форма организации брака, позволяющая ограничить расходы на свадьбу и имеющая распространение у малоимущих слоев населения России вплоть до 20–30-х гг. XX в.
Обычай умыкания, рассмотренный нами, значительно упрощал структуру свадьбы: не выполнялись ритуалы предварительного этапа, сокращалось число участников и персонажей обряда (отсутствовала партия невесты). В результате уменьшалось и количество свадебных поэтических произведений, обеднялась палитра этого действа. Опускались утренние и вечерние причитания невесты, ее подруг, отсутствовали девичья баня, прощание с девичеством, не
Финно – угорский мир. 2014. № 1 звучали разнообразные причеты, связанные с этими ритуалами, и т. д. В целом менялись настрой и эмоциональная окраска свадьбы. Она принимала усеченные формы, сокращалось время свадьбы, сужалось ее поэтическое пространство.
К периоду развития экономических отношений относится другая форма бракосочетания – купля-продажа невест, отчасти заменившая такой способ их добывания, как умыкание. Мордовское общество с вступлением в товарно-денежные отношения постепенно выработало нормы обычного права, регламентировавшие поведение людей. На смену насильственным похищениям приходит узаконенное нормами сватовство невесты. Во время него совершается, по сути, торговая сделка. В архивных источниках отмечено, что в старину форма бракосочетания состояла, с одной стороны, в купле невесты, с другой – в ее продаже: покупал жених или его род; продавал невесту ее отец и весь его род [20, д. 33, л. 45 об.].
В брачных обрядах и песнях мордвы сохранились воспоминания о том времени, когда девушки покупались и продавались. За невесту платили цену ( питне , калым , воявор , той – «цена, плата»). Отмечено, что «...отец продает дочь как свою собственность; жених или его род покупают ее как вещь, которой может распоряжаться по усмотрению» [15, 149 ]. То, как широко трактовались права на купленную женщину, можно представить по воспоминаниям, сохранившимся к XVIII в. Из них становится ясно, что в старину «мордва имела право продавать своих жен с нажитыми детьми, когда они им не полюбятся, и брать других» [7, 173 ]. Исследователи XIX в. указывают, что «...значительная часть обрядов, сопровождающих мордовскую свадьбу, находится в связи с физической или фиктивной продажей невесты» [15, 150 ]. Деньги за продажу невесты у эрзи шли отцу и роду – в форме пропоя, у мокши – передавались невесте. Эрзянская невеста в своих жалобах, обращенных к матери, упрекает ее за произвол:
Вина стопкадо миимик, Be кши сускомдо cэвимик.
За стопку вина продала меня, За кусочек хлеба отдала меня. [18, 17 ]
Типологически сходные песни, в которых осуждаются родители невесты, имеются у русских:
Пьяница-пропойца (Марьюшкин) батюшка
За мед пивовару,
Пропил (Марьюшку)
За медовый стаканчик,
За винную чару,
За сладкий калачик! [6, 124 ]
По мнению некоторых ученых, развитие полигинических браков начинается с момента, когда женщина становится предметом купли-продажи и ее можно приобрести без содействия других, как это было при умыкании. Прослойка богатых людей, князьков, мурз , каназоров и кирди («князей») получает возможность удовлетворять свою прихоть в меру своих покупательных способностей [15, 150 ].
Напоминанием о сделке служит то, что, по словам П. И. Мельникова, во время запоя у терюхан идет чистая торговля: «...невестин отец запрашивает, потом уступает цену, наконец, дело слаживается. На стол невесте платится от 20 до 40 рублей асс. и никогда больше. После этой ряды начинается другая – ряда на венец (головной убор), она бывает от 30 до 60 руб. ассиг.» [9, 111 ].
О купле-продаже напоминает и такой момент, когда с прибытием свадебного поезда «братья» (или родственники) невесты бежали к воротам, чтобы задержать поезжан и заставить платить за «ворота» [13, 109 ]. Этот обычай упоминается и в песне свахи, которая перед отправлением свадебного поезда поет о том, как она выкупит ворота:
Покштнень казьсынь сиясо, Вишкинетнень пижесэ, Ортаст панжсызь келейстэ, Крышаст кепедьсызь сэрейстэ.
Я больших одарю серебром, Маленьких медью,
Откроют они ворота широко,
Крышу поднимут высоко. [20, д. 74, л. 30]
В рассуждениях свахи слышатся отзвуки старинного обычая, когда девушка была «живым товаром». Такое положение сохранялось длительное время, претерпевая различные трансформации. Есть свидетельства, что в прошлом девушка продавалась и покупалась целым родом. В Нижегородской губернии отец жениха отправлялся в дом невесты с вином для пропоя ее в сопровождении своей родни [15, 154; 9, 111]. У эрзян Самарской губернии мать жениха обязана была обойти всю родню невесты и оставить в каждом доме по ковриге хлеба [8, 75]. В мордовских селах Симбирской губернии невеста утром в день отъезда искала защиту у родственников от чужих людей, совершивших сделку продажи с отцом [8, 90].
Родовыми защитниками девушки остаются непременные участники мордовской свадьбы – урьвалят (провожатые невесты). Их обычно бывает двое: родной брат и двоюродный. Они считаются заступниками и укрывают ее от поезжан, но, подкупленные ими, предают сестру. У нижегородской мордвы-мокши цену за невесту назначали всеми уважаемые старейшие представители рода – ине атя и ине баба, выполнявшие на озксах функции организаторов и распорядителей [8, 90]. Отражением свадебной сделки в виде покупки невесты является использование в поэзии и обряде слов той, калым, невеста называется в песнях «живой товар», «купленная сноха», а сваты именуют себя купцами [2, 391].
Купля-продажа невест в отличие от умыкания запускала весь свадебный фольклорно-обрядовый цикл, начиная со сватовства, предсвадебных причитаний и завершая отгостками третьего, послесва-дебного этапа. Для этой свадьбы характерны открытость, публичность, полнота всех поэтических компонентов и многообразие произведений устного творчества народа.
Список литературы Этнографические особенности мордовского обряда бракосочетания: обычаи похищения и купли-продажи невест
- Архив Уфимской духовной консистории. 1819, 7-го июля. Д. № 14.
- Борисов, А. Г. Мордовская свадьба как историко-этнографический источник//Этногенез мордовского народа. -Саранск, 1965. -С. 389-395.
- Георги, И. Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, обычаев, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей/И. Георги. -СПб.: Тип. при Императ. АН, 1799. -Ч. 1. -178 с.
- Евсевьев, М. Е. Мордовская свадьба/М. Е. Евсевьев. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1990. -384 с.
- Евсевьев, М. Е. Мордовская свадьба//Избр. тр.: в 5 т. -Саранск, 1966. -Т. 5. -С. 7-341.
- Круглов, Ю. Г. Русские свадебные песни: учеб. пособие/Ю. Г. Круглов. -М.: Высш. шк., 1978. -215 с.
- Лепехин, И. Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 году/И. Лепехин. -СПб.: Тип. при Императ. АН, 1771. -538 с.
- Майнов, В. Н. Очерк юридического быта мордвы/В. Н. Майнов. -СПб.: Тип. М-ва внутр. дел, 1885. -267 с. -(Зап. РГО: т. XIV, вып. 1).
- Мельников, П. И. Очерки мордвы/П. И. Мельников. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1981. -136 с.
- Радаев, К. Пенза ды Сура: Кезерэнь пингень евтамот/К. Радаев. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1972. -220 с.
- Русские/под ред. В. А. Александрова и др. -М.: Наука, 1999. -828 с.
- РФ НИИГН. Папка М. Е. Евсевьева. «Мокшанская свадьба».
- Самородов, К. Т. Мордовская обрядовая поэзия/К. Т. Самородов. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1980. -168 с.
- Смирнова, Я. С. К типологии обычаев умыкания (по материалам народов Северного и Западного Кавказа)//Проблемы типологии в этнографии. -М., 1979. -С. 265-269.
- Смирнов, И. Н. Мордва: истоторико-этнографический очерк/И. Н. Смирнов. -Саранск: Тип. «Красн. Окт.», 2002. -296 с.
- Сурхаско, Ю. Ю. Карельская свадебная обрядность (конец XIX -начало XX в.)/Ю. Ю. Сурхаско. -Л.: Наука, 1977. -238 с.
- Терновский, А. Свадьбы самохотки и моляны в мордовском селе Катмисе Городищенского уезда//Пензенские губернские ведомости. -1867. -№ 33-38.
- Устно-поэтическое творчество мордовского народа. В 18 т. Т. 6, ч. 1. Эрзянская свадебная поэзия. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1972. -471 с.
- Фукс, К. Поездка из Казани к мордве Казанской губернии в 1839 г.//Журнал М-ва внутр. дел. -СПб, 1839. -Ч. 34, № 10. -18 с.
- ЦГА РМ. Ф.Р-267. Оп. 1.
- Эрзянь-рузонь валкс -Эрзянско-русский словарь/под ред. Б. А. Серебренникова и др. -М.: Дигора, 1993. -803 с.
- Ягафова, Е. А. Самарские чуваши (историко-этнографические очерки). Конец XVII -начало XX в./Е. А. Ягафова. -Самара: ИЭКА «Поволжье», 1998. -396 с.
- Paasonen, H. Mordwinische Volksdichtung/H. Paasonen. -Helsinki, 1977. -Bd. VI. -236 s.