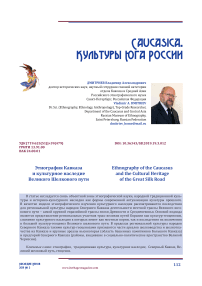Этнография Кавказа и культурное наследие Великого шелкового пути
Автор: Дмитриев Владимир Александрович
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Caucasica. Культуры Юга России
Статья в выпуске: 3 (19), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется связь объектной зоны этнографической науки, народной традиционной культуры и историко-культурного наследия как формы современной актуализации культуры прошлого. В качестве модели этнографического изучения культурного наследия рассматриваются последствия для региональной культуры народов Северного Кавказа деятельности местной трассы Великого шелкового пути - самой крупной евразийской трассы эпохи Древности и Средневековья. Основой подхода является представление региональных участков трасс великих путей Евразии как культур-геоценозов, сложение культурного наследия в которых имеет как местные корни, так и последствия их включения в большой культур-геоценоз Великого шелкового пути. В пределах региональной культуры народов Северного Кавказа такими культур-геоценозами признаются части ареалов шелководства и шелкоткачества на Кавказе и крупные ареалы высокогорья (область башенных памятников Большого Кавказа) и предгорий Северного Кавказа (районы, входившие в социально-политическое пространство Великой Черкесии).
Этнография, традиционная культура, культурное наследие, северный кавказ, великий шелковый путь, геоценоз
Короткий адрес: https://sciup.org/170174982
IDR: 170174982 | УДК: [719:625(51)]+39(479)
Текст научной статьи Этнография Кавказа и культурное наследие Великого шелкового пути
Предметом этнографической науки являются различающиеся культурные формы, которые существуют благодаря традиции. В основном этнография изучает памятники культуры, относящиеся к последним двум столетиям, что соответствует возможностям методов науки. Культуры более раннего времени изучаются с опорой на исторические свидетельства прошлого и археологические источники. Ими занимаются историческая этнография и методология исследования старописьменных культур, а также имеет свое применение этнологическая реконструкция, выводящая прошлую форму традиции из наблюдаемой исследователями формы. В целом движение от настоящего и недавнего прошлого к давнему прошлому определяется ретроспективным подходом.
Ретроспективный подход дает возможность объяснения некоторой части явлений прошлого, которые присутствуют или получили отражение в памятниках культуры, доступных нашим современникам и вызывающих у них интерес. В то же время выявляемая актуальность памятников истории, к каким бы категориям культуры они ни принадлежали, требует их трактовок более как наследия, то есть части современности с исторической оценкой их качества и происхождения.
Культура настоящего времени аккумулирует в соответствии с традицией результаты процессов и явлений, участвовавших в ее генезисе, включая как факторы собственно традиции, так и внешние влияния, и превращает обстоятельства прошлого в современные культурные формы. В этнографическом познании часть явлений прошлого, вошедшего в современную культуру, определяется как пережитки, то есть имманентные культуре остаточные элементы, актуальность которых утрачена или находится под сомнением. В состав пережитков входят реликты, дериваты и реституты, [32, с. 92–100], различие которых показывает жизнестойкость компонентов традиции, отмеченных давним генезисом. Еще одним доказательством того, что прошлое продолжает играть конструктивную роль в современности, является признание роли народной (этнической) памяти, формирующей современное групповое само- сознание [44, с. 140–167], и присутствие явлений фольклоризма, сплошь маркирующих современную народную культуру [42]. Включение в этническую сферу культуры модерна определяется тем, что культурный традиционализм не препятствует развитию модернизационных структур, но является одним из условий модернизации. [30, с. 19]. Пережитки и фольклоризм, наряду с этнически окрашенными явлениями культуры модерна, являются факторами этнического и регионального своеобразия, вследствие чего имеют преимущественно внутреннюю ценностную оценку. Третья часть современной культуры шире собственно этнического поля и частично выводится за область внутренних оценок, так как может претендовать на принадлежность к общемировой культуре. Она представляет собой категорию наследия, которая имеет локальное выражение, но была порождена воздействием более крупных феноменов. Согласно Федеральному закону № 73-Ф3 от 25.06. 2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», таковыми признаются объекты недвижимого имущества и иные объекты с исторически связанными с ними территориями и различными произведениями культуры (в самом широком смысле), возникшие в результате исторических событий и представляющие интерес для широкого комплекса наук, являющиеся историческими свидетельствами и подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. Объекты культурного наследия категоризуются как памятники (постройки и сооружения), ансамбли (комплексы памятников) и достопримечательные места (разнообразные творения природы и человека, составляющие открытый список, включающий в себя объекты этнографии / народоведения) [41]. Данный подход, ориентированный на внимание к объектам, вписанным в локальные ландшафты, может быть расширен за счет привлечения объектов нематериального наследия, сплошь и рядом, оказывающихся этнографическими реалиями. Об этом четко сообщает концепция нематериального наследия: «Нематериальное культурное наследие Российской Федерации представляет собой обычаи, формы представ- ления и выражения, навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. Нематериальное культурное наследие проявляется в таких областях, как устные традиции, исполнительские искусства, обычаи, обряды, празднества, знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами...» [21].
Одной из попыток представить этнографические реалии в виде традиций народов России как наследия далеко отстоящей во времени эпохи, актуализирующегося в проектируемых туристических дестинациях, является проект, направленный на выявление наследия Великого шелкового пути (ВШП) в традиционной региональной культуре народов России. Использование категории наследия не только позволяет преодолеть временную лакуну между историческим периодом деятельности ВШП (II в. до н. э. – XIV–XVII вв. н. э.) и современностью, но и требует это сделать.
Термин «Великий шелковый путь» был предложен немецким географом Рихтгофеном в 1877 г. для обозначения сети транспортных маршрутов, соединявших в Древности и в Средние века Восточную Азию с бассейном Средиземного моря. Эта трасса являлась крупнейшей транспортной и торговой магистралью, проходившей через весь Евразийский континент и способствовавшей созданию в свое время мощного фонда межкультурного обмена [7, с. 224–228; 14; 24; 25; 26, с. 88–100; 33; 36], который интенсифицировал процессы локального культурогенеза. Сама трасса ВШП использовала возникшие ранее в каждом регионе собственные сети локальных и дальних маршрутов, что открывало эти регионы для внешних цивилизационных воздействий [4, с. 69–75; 5, с. 330–332]. Китайские средневековые источники свидетельствуют о «северной» трассе ВШП (к северу от Каспийского моря), «средней» (через Малую Азию) и «южной» (на Дамаск и Иерусалим). Ферганский и Хо-резмийский путь закольцовывались на севере степной трассой, которую бы и следовало называть северной ветвью ВШП. В данном случае она для нас является основным гео- графическим измерением, так как пролегала по современной российской территории. При этом ее маршрут совпадал с так называемым степным коридором Евразии, что позволяет говорить об участии кочевников в поддержании деятельности дальних торговых путей континента [22, с. 56–68; 23].
Особым историческим феноменом является то, что в российском современном пространстве существует поле объединения двух великих магистралей – северной Евразии Великого Шелкового пути и Великого Волжского пути (ВВП).
Формами включения наследия ВШП и ВВП в достояние фонда культуры наших современников являются направления научной и научно-практической деятельности, такие как:
-
• проведение научно-исследовательского изучения памятников природного и культурного наследия народов России и сопредельных стран в зоне функционирования ВШП ВВП;
-
• развитие деятельности природных и историко-культурных заповедников, музее-фикация культурного наследия по трассе Великого шелкового и Великого Волжского путей Евразии;
-
• презентация местного (локального, регионального, краевого, республиканского, областного и т. д.) своеобразия, развитие внимания к повседневным формам национальной культуры, указывающим на жизненность исторического наследия;
-
• развитие туристических дестинаций, выстроенных с учетом использования и сохранения наследия исторического прошлого, [16, с. 294–313];
-
• представление региональных участков трасс великих путей Евразии как культур-геоценозов, в наследии которых обнаруживаются и местные особенности, и последствия включения в большой культур-геоценоз ВШП и ВВП. Историография ВШП и ВВП позволяет представить их как большие культурные трансландшафтные геоценозы [6, с. 330–332; 45, с. 49–64].
Важнейшими признаками такого большого геоценоза являются межэтническое взаимодействие славян, финно-угров, тюрок северной Евразии, народов Сибири и межконфессиональное взаимодействие православия, северного ислама (с центром в Татарстане и Башкирии) и северного буддизма (ламаизм Монголии, Бурятии, Тувы, Калмыкии). Северная трасса Великого шелкового пути, во взаимодействии с магистралью Великого Волжского пути, составила в исторической ретроспективе пространство территориального формирования Российской государственности. В северной трассе ВШП выделяются локальные геоценозы: Южная Сибирь, Зауралье (до Прииртышья), Нижнее и Среднее Поволжье, Кавказ и Предкавказье. Для каждого из регионов можно выделить главную цивилизационную характеристику, представляющую его в системе евразийской целостности, что является наследием дальних связей, в том числе получивших толчок в результате действия ВШП. Такими характеристиками являются:
-
• для Южной Сибири – китайское влияние в культуре и образование периферийного очага ламаизма, для позднего времени – путь торговли чаем [1; 2; 3; 18].
-
• для Южного Зауралья – активность кочевников на краю степного коридора Евразии и образование транспортных путей, в поздние времена оформившихся как Московско-Сибирский тракт и далее – Транссибирская магистраль [20; 35; 37; 38];
-
• для Поволжья – образование узла ВШП и ВВП, становление влиятельного в экономическом и культурном отношении центра Бул-гар-Казань [17; 43, с. 39–58];
-
• для Кавказа – обеспечение связи между бассейнами Каспийского и Черного морей, создание на Северном Кавказе для этого пространств со специфическим культурным наполнением (местных геоценозов ВШП) [19, с. 203, 213, 230, 267, 281–282, 306–308, 355–359, 385–386].
Во всех регионах присутствуют внебытовая и бытовая формы этнокультуры. Во внебытовой форме главными являются такие категории, как памятники, ансамбли и достопримечательные места. К ним примыкают музейные экспозиции, культурно-развлекательные центры, так называемые частные и домашние музеи.
Бытовая форма этнокультурной реальности имеет две разновидности – инновационную и традиционную. Инновационная разновидность на настоящий момент преимущественно представлена ресторанами национальной кухни, а также различного рода мероприятиями-перформансами, рассчитанными на привлечение туристов и внешне сохраняющими форму этнического праздника или разновидности традиционного промысла.
Традиционная разновидность бытовой этнокультурной реальности целиком принадлежит к категории наследия, но не имеет, на наш взгляд, необходимой в данном плане актуализации, в том числе из-за недостаточной проработки ее историзма. Внимание к наследию ВШП позволяет это сделать.
Наследие ВШП, как представляется, состоит из следующих категорий культуры современности, существующих в локальных вариантах и в пределах всего пространства трассы:
-
• прямые памятники прошлого, возникшие во время функционирования ВШП на местных транспортных путях (архитектурные памятники Древности и Средневековья, материалы, современные ВШП и перешедшие в археологические памятники и источники);
-
• региональные шелководческие и шелкоткацкие практики, индуцированные распространением шелка;
-
• региональные феномены культуры (геоценозы ВШП), вызванные внешним влиянием (вследствие связи регионов Евразии в пространстве ВШП как звеньев его цепи.
В функционировании Северокавказской ветви ВШП в Средние века играл важную роль ввоз шелковых предметов в регион. В результате находками шелковых тканей маркируются контролируемые местным населением участки перевальных путей (Дагестан, Северо-Западный Кавказ и др.)
Представим на примере северокавказского региона характеристики этнографического наследия ВШП.
Одна из них – это включение в традиционные промыслы таких занятий, как выращивание шелковичного червя и изготовление изделий из шелковых нитей. Шелководство концентрировалось в лесистых предгорьях
Северо-Восточного и Восточного Кавказа, причем для Северного Прикаспия, Кумыкии и равнинной Чечни имело большое значение производство грены. Последний промысел был доведен до такого состояния, что возникла специфическая и характерная только для данного региона мера объемовеса – наперсток с греной шелкопряда. Центральный и Западный Кавказ были зонами, в которых не практиковалось шелководство, а в Абхазии, климатически удачной для разведения шелковичного червя, даже сложился религиозный запрет на этот промысел [29, с. 70]. Шелкоткачество, в том числе набойный промысел, локализовалось в конце XIX в. на Южном Кавказе, включая Южный Дагестан. На Северном Кавказе было известно только плетение женских шалей из шелковых нитей, как в Кабарде и Осетии.
Следует также отметить присутствие в регионе ареалов промыслов обработки меди (Лагич и Шемаха) и ковроткачества, которые совпадают с пространством каспийской ветви ВШП на Кавказе. Из Лагича изделия шли по Каспийской трассе, из Шемахи – по Курин-ской долине, через которую проходила Южно-Кавказская трасса ВШП. Сходным образом цепочка ареалов ковродельческих центров Кавказа образовывала линии: азербайджано-дагестанскую по Каспийскому пути, шема-хинско-казахскую в южно-кавказском направлении и армяно-анатолийскую в продолжение южной трассы ВШП, проходившей от Китая через Центральную Азию и Иран.
Важнейшей точкой на Каспийском пути был Дербент, где сходилось несколько региональных торгово-транспортных путей Кавказа [8, с. 18–24]. Через Дербент шло снабжение северокавказского региона товарами южного происхождения, вследствие чего в нем находились перевалочные склады армянских и грузинских купцов, и сюда стекались продукты горской экономики. [39, с. 20–23]. Производным от действия трасс торговых путей, проходивших через побережье Каспийского моря, выступает концентрация пунктов меновой торговли с горцами в полосе рядом с прибрежной линией между Астраханью и Дербентом, особенно в нижнем Потеречье.
Известно, что с раннего Средневековья существовала дорога, входившая в региональ- ные трассы ВШП и уходившая в обход Каспийской трассы ВШП в центральный Дагестан и далее в Восточную Грузию, доходя до Северокавказской дороги через территорию Чечни. Качество дорог по дагестанским горам, например, имело высокую оценку, что отразилось в русских источниках высказыванием «дорога добре добра» [34].
С ареалом, существовавшим вокруг этой внутридагестанской дороги и общим воздействием кавказских трасс ВШП можно связать развитие сети аулов Дагестана, сложившихся в профилированные художественно-ремесленные центры. Данная сеть в пространстве Восточного Кавказа продолжила ареал городов Азербайджана, но уже в форме периферии городской культуры Южного Кавказа и Ирана. Косвенным доказательством причастности данной дороги к внедрению в горный Дагестан художественной культуры шелка является феномен так называемых «кайтагских вышивок» [46].
Определяющими в трактовке дагестанских аулов – художественно-ремесленных центров как явления, генезис которого связан с широким контекстом внешних связей, реализовавшихся через торгово-транспортную магистраль Каспийского пути, являются характеристики Дагестана как контактной историко-этнографической области. Дагестан является признанным перекрестком цивилизаций [27, с. 18; 11, с. 68–72], выделившимся в особенности тем, что вся его ремесленническая продукция признается художественным явлением с широчайшей областью сбыта. В оценке дагестанских ремесел как явления собственного генезиса, тем не менее, имеет большое значение признание наличия исторических художественно-технологических связей дагестанских художественных промыслов с очагами декоративно-прикладного искусства Ирана и Передней Азии, особо отразившихся в ремесленном творчестве кубачинских мастеров [9, с. 417–433; 12, с. 29–35].
При анализе прохождения ВШП в регионе Северного Кавказа обычно рассматривается Северокавказская, или так называемая Османова, дорога – трасса, проходившая от Тамани на западе до Дагестана на востоке. Тамань вместе с Крымским полуостровом со- ставляли узел, где кавказские дороги и линии трасс степной части Евразии переходили в морской путь Черного и Средиземного морей. В Дагестане Северокавказский путь вливался в Каспийский, тем самым доходя до Дербента. Признанным является также то, что от этой дороги в южном направлении постоянно использовались пути, направленные к перевалам Большого Кавказа. Сама же Северокавказская дорога проходила по линии бассейнов Кубани и Терека – фактической границе горского и степного миров. Учитывая, что для горцев линии обеих рек были символической границей их мира, следует полагать, что действие Северокавказской трассы было более в ведении кочевников Предкавказья, а ответвления входили в пространство горского мира. Однако мы полагаем, что и между линией данных рек и Кавказским хребтом были широтные пространства большой протяженности, связанные не столько с местными дорогами, сколько с их включением в зоны крупномасштабного воздействия. Подход позволяет выдвинуть гипотезу о связи с влиянием ВШП генезиса двух макрокультурных ареалов Северного Кавказа: ареала памятников материальной культуры в виде башенной архитектуры и ареала социально-властного действия, получившего название Великой Черкесии.
В выделении первого ареала на Большом Кавказе отмечено распространение специфических архитектурных конструкций, получивших по их внешнему виду название башен. Обе их разновидности, боевые и жилые башни, имеют жилищно-фортификационное назначение и датируются периодом от позднеаланского времени до начала эпохи вхождения Северного Кавказа в состав Российской империи. Большинство исследователей рассматривают их как дома-крепости, строительство которых отвечало условиям межобщинных конфликтов и, следовательно, считают материализованным признаком горского феодализма. В несколько ином отношении башенные конструкции признаются архитектурными сооружениями, реализовавшими представления горского менталитета об устремленной в небо вертикали, входящей в тот же семантический ряд, что и домашние святыни – опорной столб и очажная цепь, и формировавшей конструкции, презентирующие axis mundi в триаде низ – середина – верх, которую образуют подземный мир чудовищ и пленников-чужеземцев – земной мир людей – верхний мир богов, или временная последовательность прошлое – настоящее – будущее. [40, с. 40–54].
Мы рассматриваем башни на локальной трассе ВШП не только как укрепления, но и как реальные и символические убежища, позволяющие путешественникам осуществлять переходы между далеко заметными ориентирами. Так создавались условия и для движения караванов, и для переходов одиночек, доставляющих товары и по заказу, и для мелочной торговли. Продвижения торговцев были обеспечены обычаями гостеприимства и куначества. За покровительство торговцы рассчитывались частью товара [10, с. 23].
Мы предполагаем, что историю башенной культуры Большого Кавказа можно разделить на два периода: начальный (до второй половины XIV – начала XV в.), до начала похолодания, сдвинувшего вниз линию снегов и ледников и отмеченного линий башен как признака высокогорной трассы от Дагестана до Кубани; и финальный, когда башни строились сугубо как часть процесса культурогене-за горцев Большого Кавказа, изолированного по причинам природного и исторического характера в территориях позднесредневекового этногенеза.
Ареал башенной архитектуры занимает высокогорье в северной части Большого Кавказа выше Скалистого хребта. Это делало его защищенным от беспорядков в зонах, лежавших ниже. В западной части ареал заканчивался еще до долины верхней Кубани, где традиционно проходило ответвление трассы ВШП, уходившей к черноморскому побережью Абхазии и Западной Грузии. На востоке ареал башен постепенно размывался в горном Западном Дагестане. Восточнее внутридагестан-ской трассы, упоминавшейся выше, башенные памятники единичны и существенно меняют облик. Грузинская часть ареала ограничена Балкаро-Сванетским и Чечено-Тушетским участками Большого Кавказа. Не вызывает сомнения большой потенциал башенной архитектуры и сопутствующего ей комплекса в представлении наследия горской цивилизации Большого Кавказа.
Другой формой наследия выступает историко-культурная ситуация в эпоху позднего Средневековья, в период после завершения функционирования ВШП в предгорьях Северного Кавказа, где потребность в шелке, в значительной мере монополизировавшаяся слоем феодальной знати, демонстрировавшей также и экономику расточительства и высокомерия, должна была удовлетворяться в условиях отсутствия постоянной поставки продукта. Товар поступал на рынки торговых узлов приморской торговли, являвшихся окраинными для региона. Потребление шелка имело сугубо элитарный характер, но в условиях престижной экономики позднесредневекового Северного Кавказа тяга к дорогим импор-там была доминантой внешней торговли, деформировавшей область внутреннего обмена товарами. В конце XVIII в. для Черкесии в год поступало семь-восемь тысяч кусков шелка с черноморских факторий [31, с. 198], основными потребителями были дворяне и князь, а товар завозился торговцами-армянами, то есть на непостоянной основе.
Для зоны позднесредневекового предгорного Кавказа можно говорить о нескольких разновидностях экономики, малоэффективных для внешнеторговых операций экономики крестьянского общинного хозяйства и экономики вотчинного феодального хозяйства, и эффективной экономике фео- дального набега, дававшего изъятие части необходимого продукта из хозяйств нижних ступеней общественной лестницы, но особо захвата рабов. Последний товар вывозился как можно дальше от места его захвата и был идеальным для реализации на внешних рынках.
Набег являлся частью общественной и экономической жизни горцев, что во многом связано с их военизированным бытом и се-мантизацией через вооруженное насилие отношений выше- и нижележащих общин и что, очевидно, следует признать компонентом горской докапиталистической цивилизации. Своего высшего, этикетизированного развития он получил в субкультуре дворянства, особо черкесского и кабардинского, в эпоху позднего Средневековья. Стимуляция данного процесса, возможно, была обусловлена тем, что после середины XVI в., когда окончательно завершилась история Великого шелкового пути на Северном Кавказе и все торговые операции с импортами, в том числе шелковыми тканями, сосредоточились в прибрежных зонах морей, омывающих Кавказский перешеек, выход к центрам торговли стал обеспечиваться экономикой набега. В этом, очевидно, состоялась одна из составляющих экономического базиса образования феномена Великой Черкесии, политического союза феодальных социумов, контролировавших пространство Северного Кавказа от Приазовья до Дагестана в позднем Средневековье [15, с. 49–53].
Vladimir A. DMITRIEV
Ethnography of the Caucasus and the Cultural Heritage of the Great Silk Road
Список литературы Этнография Кавказа и культурное наследие Великого шелкового пути
- Абаев Н. В., Хомушку О. М. Духовно-культурные традиции в геополитическом и цивилизационном пространстве Центральной Азии и Саяно-Алтая. Кызыл: Изд-во Тывинск. гос. ун-та, 2010.
- Актуальные проблемы истории Саяно-Алтая и сопредельных территорий: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (30 сентября 2004 г., Абакан). Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та, 2005.
- Актуальные проблемы истории Саяно-Алтая и сопредельных территорий: науч-практ. конф. (26-27 сентября 2006 г., Абакан) Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та, 2006.
- Авдаков И. Ю. Роль наземных транспортных путей в развитии европейской торговли // Природа и культура. Вып. 10. Социоестественная история. М., 2001. С. 69-75.
- Байпаков К. М. "Великий шелковый путь": Культурные контакты в прошлом и настоящем // Вестник АН Казахской ССР. 1989. № 3. С. 18-27.