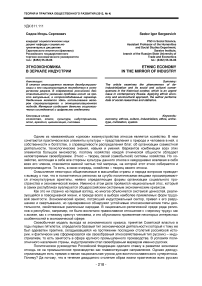Этноэкономика в зеркале индустрии
Автор: Седов Игорь Сергеевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 4, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется явление деиндустриализации и его социокультурные последствия в историческом разрезе. В современной российской действительности указанная проблема носит не просто актуальный, а острозлободневный характер. Необычным является здесь использование автором социокультурного и этноцивилизационного подхода. Материал изобилует данными социологических исследований и цифровыми сведениями.
Хозяйство, этнос, культура, индустриализм, этос, архетип, цивилизация, система
Короткий адрес: https://sciup.org/14934308
IDR: 14934308 | УДК: 811.111
Текст научной статьи Этноэкономика в зеркале индустрии
Одним из наиважнейших «срезов» жизнеустройства этносов является хозяйство. В нем сочетаются практически все элементы культуры – представления о природе и человеке в ней, о собственности и богатстве, о справедливости распределения благ, об организации совместной деятельности, технологические знания, навыки и умения. Вариантов комбинации всех этих элементов большое множество, поэтому хозяйство каждой этнической общности обладает неповторимым своеобразием. Этнос – творец своей (самобытной) системы хозяйства. Но хозяйство, воплощая в себе все стороны культуры данного этноса и каждодневно вовлекая в себя всех его членов, становится важной частью той матрицы, на которой этот этнос собирается и воспроизводится. То есть, в свою очередь, хозяйство – творец своего этноса.
Осмысление некоторых общезначимые в масштабах страны и народа вопросов приводит к выводу о том, что в полиэтничных регионах за сугубо политическими вещами просматриваются этнокультурные архетипы, неявно определяющие формы организации социального пространства и экономической жизни. Именно в этом деле проявился национальный этос, который в самих республиках вуалируется общероссийским системным экономическим кризисом.
Как это ни странно на первый взгляд, но многое объясняется системой ценностей, реализующейся в повседневной жизни, и прежде всего в выборе наиболее приемлемых форм трудовой занятости. Экономический кризис, потрясший индустриальный сектор, привел к его разрушению и свертыванию, но одновременно обнаружил устойчивые этноэкономические типы деятельности, свойственные различным народам. В национально-религиозной среде ряда регионов и республик, например, не было воспитано православное отношение к «черному труду» как к аскезе, как к «тяжкому кресту» человека, и это обусловило проявление некоторых интересных особенностей в экономической сфере.
Своеобычная модель выхода из экономического кризиса, принятая Советской властью в годы первых пятилеток, определила базовый тип экономической деятельности (который к тому же был адекватен практике, складывавшейся на протяжении последних столетий российской истории, и фактически уже сформировался как своеобразный этнохозяйственный тип русских) – индустриализм, то есть занятость в сфере крупного промышленного производства. В условиях полиэтничного населения страны, индустриализм стал своеобразным маркером именно русских.
Политическое руководство Российской Федерации сделало ставку в развитии экономики отнюдь не на промышленное производство как главенствующее направление. Однако деиндустриализация есть прямая и явная национальная угроза для восточнославянского суперэтноса. Почему? Да потому, что в течение двадцатого столетия образ жизни практически всех русских
(в широком смысле) стал сугубо промышленным (то есть присущим индустриальной цивилизации). Даже на селе, подчеркивает С. Кара-Мурза, почти в каждой семье были механизаторы. Машина с ее особой логикой, особым местом в культуре стала неотъемлемой частью мира русского человека [1, с. 100-101]. Русские же стали ядром рабочего класса и инженерного корпуса СССР. Создание и производство новой техники сформировало их тип мышления, вошло в центральную зону мировоззрения. Русские, пишет С. Кара-Мурза, по-своему организовали промышленное предприятие (завод), сформировали особый культурный тип рабочего, инженера, создали своеобычный технический стиль. Никакая другая национальная культура не была в подобной степени пропитана индустриализмом. Деиндустриализация буквально выбросила русских из их цивилизационной ниши.
Сегодня можно достаточно определенно говорить о специфических последствиях экономических трансформаций для русского (славянского) населения Российской Федерации. Приведу пример по Оренбуржью, области с наиболее высоким удельным весом татар в составе населения (7 %) среди прочих областей Российской Федерации. Группой ученых под руководством Л.М. Дробижевой в последние годы был детально исследован блок проблем, характеризующих социальное самочувствие русских и татар, проживающих в регионе.
Социальное самочувствие указанных категорий диагностировалось по ряду критериев:
-
- удовлетворенность жизнью;
-
- удовлетворенность в трудовой сфере;
-
- успешность деятельности этнической группы в различных видах деловой активности;
-
- ближайшие жизненные перспективы, в том числе в отношении доступа к власти.
Татары показали себя оптимистичней в оценке изменения жизни, нежели русские, причем пессимизм русского населения еще более проявился при оценке жизненной ситуации в целом.
Ощущающих свою жизнь как предел возможного среди русских оказалось почти 40 %, а среди татар менее 30 %. Русские намного чаще (51,1 % против 32,4 % у татар) ощущают, что их положение на работе за последние 5 лет ухудшилось [2, с. 359-361]. Здесь следует отметить, что русское население было занято преимущественно в отраслях промышленного производства (машиностроение, металлообработка, добывающие предприятия), испытывающих значительные трудности в последние годы. Сфера же занятости татар – это торговля, область различных услуг, что и обусловило такое явственное различие.
Вот какую часть русского народа деиндустриализация затронула непосредственно. В 1985 г. в Российской Федерации было 46,7 млн. рабочих. В 2005-м в промышленности, строительстве, транспорте и связи осталось примерно 16 млн. рабочих. Численность промышленных рабочих сократилась за пореформенный период с 18,9 до 8,8 млн. человек [3, с. 100-101]. Так, на крупнейших заводах г. Саратова – индустриального центра, в советское время всегда входившего в первую десятку городов Союза ССР по военно-экономическому потенциалу – трудовые коллективы сокращены в среднем в 6-7 раз. На заводе «Корпус» (общемаш) из 12,5 тысяч работников осталось менее 2 (двух), на заводе «Знамя труда» (судпром) примерно такая же картина, авиационный завод с некогда 25-тысячным коллективом полностью ликвидирован, причем единственным предприятием-изготовителем (беспрецедентный случай в мировой практике!) прекращено техническое сопровождение находящихся в эксплуатации летательных аппаратов (самолетов Як-42).
Такого рода деклассирование суть социальное бедствие и личная трагедия для миллионов наших людей. Но вместе с тем это еще и глубочайший регресс в развитии тысяч и тысяч малых городов и поселков, где остановлены заводы и фабрики, ибо промышленное предприятие стало здесь центром всего жизнеустройства.
Уместным будет напомнить здесь, что накануне Первой мировой войны царская Россия производила чуть более 4 % мировой промышленной продукции при 9 % населения планеты. Это в два раза меньше среднемирового уровня. В 1937 г. Советский Союз выпускал 13,7 % мировой промышленной продукции, имея только 8 % населения от общемирового [4, с. 51]! Бурно развивалось отечественное образование, особенно технического профиля.
В годы Великой Отечественной войны аналитики гестапо информировали руководство Третьего Рейха о том шоке, который вызвали у немцев уровень общей грамотности и техническая квалификация русских «остарбайтеров». Во многих докладах отмечалось, что рабочие из оккупированных советских областей «обнаруживают особую осведомленность во всех технических устройствах» [5, с. 25]. Они в состоянии устранить с помощью даже примитивных средств любые поломки в моторах. Вот конкретные примеры. В сообщении из Франкфурта-на-Одере говорится: «В одном имении советский военнопленный разобрался в двигателе, с которым немецкие специалисты не знали, что делать: в короткое время он запустил его в действие и обнаружил затем в коробке передач тягача повреждение, которое не было замечено немцами, обслуживающими тя- гач». В Ландсберге-на-Варте немецкие бригадиры проинструктировали советских военнопленных, большинство из коих происходило из сельской местности, о порядке действий при разгрузке деталей машин. Но этот инструктаж был воспринят русскими покачиванием головы, и они ему не последовали. Разгрузку они провели значительно быстрее и технически практичнее, так что их сообразительность очень изумила немецких сотрудников [6, с. 24-25].
А на нашем Северном флоте, находившемся в годы войны в постоянном контакте с союзниками (англо-американцами) моряки из экипажей британских подводных лодок даже простых советских матросов считали переодетыми инженерами [7, с. 76]. К слову, в июле 1942 г. нашу подлодку К-21, накануне атаковавшую флагманский корабль германского флота «Тирпиц», посетили английские офицеры с подводной лодки «Трайдент». Более всего англичан изумил дизельный отсек, сверкавший мощными двигательными установками. Союзники внимательно всмотрелись в фирменную табличку советского завода-изготовителя: «А мы думали, что у вас стоят немецкие дизеля...» [8, с. 76].
Вообще следует отметить факт необычайно эффективного выполнения программы модернизации СССР в предвоенный период времени и прежде всего, небывало высоких темпов индустриализации. Все это достигалось чрезвычайным трудовым и творческим подвижничеством народа при всеобщем энтузиазме, по силе и по чувству сходным с религиозным. Однако, подчеркивает С. Кара-Мурза, условием и в определенной мере следствием этого запредельного порыва был тоталитаризм, то есть соединение общества жесткими скрепами. И если вынужденное «закручивание гаек» в период так называемого «военного коммунизма» обусловило переход к нэпу, то советский тоталитаризм тридцатых обеспечил «чудо индустриализации». Касательно нэпа надо сказать, что к развитию индустрии он имеет косвенное отношение. Бурный расцвет делинквентных практик во время нэпа не мог стать оправданным с точки зрения экономической ни при каком стечении обстоятельств: потенциал экономического развития при нэпе как щадящем варианте индустриализации был проверен путем математического моделирования в 1989 г. и расчеты показали, что при его продолжении был бы возможен рост основных производственных фондов в интервале 1-2 % в год. При этом нарастало бы отставание не только от Запада, но и от роста населения Советского Союза (2 % в год). Указанное обстоятельство предопределяло поражение при первом же военном конфликте и внутренний социальный взрыв ввиду массового обеднения населения [9, с. 173]!
Ссылки:
Список литературы Этноэкономика в зеркале индустрии
- Кара-Мурза С. Проект «Путин». М., 2011.
- Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность. М., 2002.
- Мухин Ю. Крестовый поход на Восток. М., 2004.
- Пикуль В. Реквием каравану РQ-17. М., 1997.
- Артюхов А. Криминальные практики России сквозь призму культуры. Ростов-на-Дону, 2004.