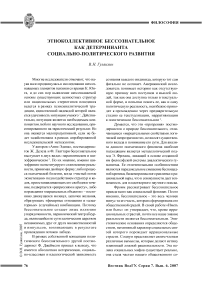Этноколлективное бессознательное как детерминанта социально-политического развития
Автор: Гуляихин Вячеслав Николаевич
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14974152
IDR: 14974152
Текст статьи Этноколлективное бессознательное как детерминанта социально-политического развития
Многие исследователи отмечают, что наука мало продвинулась в исследовании неосознаваемых элементов психики со времен К. Юнга, и до сих пор выявление неосознаваемой основы существующих ценностных структур или национальных стереотипов поведения ведется в рамках психоаналитической традиции, единственной надеждой которой является удачливость интуиции ученого 1. Действительно, интуиция является необходимым компонентом любого научного исследования, ориентированного на эвристический результат. Но она окажется малопродуктивной, если не будет задействована в рамках апробированной исследовательской методологии.
У авторов «Анти-Эдипа», постмодернистов Ж. Делеза и Ф. Гваттари бессознательное выступает в двух видах: параноическом и шизофреническом 2. По их мнению, именно шизофрения «конституирует» становление реальности, принимая двойную форму: либо процесса психической болезни, когда «чистый поток экзистенции» под воздействием структур и кодов, приостанавливающих его свободное течение, подвергается «репрессиям и аресту», либо порождения «парциальных объектов» – постоянно движущихся молекул, цепочек желания, образующих эфемерные отношения и «алеаторные» (случайные) комбинации. Поэтому бессознательное создает лишь иллюзию упорядоченности, параноический театр абсурда, являющийся по сути хаотическим царством независимых друг от друга множественностей и импульсов, возникающих в результате прохождения потоков либидо.
В рамках собственной концепции политического бессознательного другой постмодернист Ф. Джеймсон пришел к выводу, что имеется абсолютная историческая, социально-классовая и идеологической зависимость сознания каждого индивида, которую тот сам фатально не осознает. Американский исследователь понимает историю как отсутствующую причину всех поступков и мыслей людей, так как она доступна только в текстуальной форме, и попытки понять ее, как и саму политическую реальность, неизбежно приводят к прохождению через предварительную стадию ее текстуализации, нарративизации в политическом бессознательном 3.
Думается, что эти «прозрения» постмодернистов о природе бессознательного, отличающиеся «мерцательными свойствами логической непрозрачности», не вносят существенного вклада в понимание его сути. Для анализа данного психического феномена наиболее подходящим является методологический подход Э. Фромма, лежащий в основе созданной им философской системы диалектического гуманизма. Ее отличительными особенностями являются парадоксальное смешение беспощадной критики, бескомпромиссного реализма и рациональной веры, что в совокупности дает возможность для плодотворного научного поиска.
Фромм рассматривает бессознательное прежде всего как социальный феномен. По его мнению, бессознательное – это весь человек минус та его часть, которая сформирована его общественной средой. В своей работе «Иметь или быть» он утверждает, что, кроме иррациональных страстей, почти все наше знание реальности является бессознательным. Эпи-стемические основания определяются обществом, негативный характер социальных связей которого порождает иррациональные страсти. Социум представляет своим членам различные вымыслы, которые делают истину пленницей ложной рациональности. Эта пелена социальных мифов существует реально, она стала частью нашего общественного со- знания. Развеять ее можно лишь путем постижения истины, поиск которой представляет весьма сложную задачу. Процесс познания истинной природы социокультурной реальности приводит нас к проблеме социальной роли бессознательного, архетипы которого оказывают существенное воздействие на формирование духовного мира человека.
По Юнгу, проблема бессознательного заключается во взаимодействии между бессознательным и эго. Характеризуя типичные элементы бессознательного, швейцарский психоаналитик показал, как они коррелируют с сознательными установками. Психоаналитик выделял в бессознательном два слоя: личностный поверхностный, охватывающий все приобретения индивидуального существования, в том числе забытое, вытесненное, воспринятое под порогом сознания, продуманное и прочувствованное, и коллективный , возникающий из наследственной возможности психического функционирования вообще, следствием которого являются мифологические сочетания, мотивы и образы, порой проявляющие себя помимо имеющейся исторической традиции или миграции. Коллективное бессознательное «идентично у всех людей и образует тем самым всеобщее основание душевной жизни каждого, будучи по природе сверхличным»4.
В структуре бессознательного, которую предложил Юнг, следует выделить промежуточный слой: пограничную область между коллективным и личностным бессознательным, где и содержатся своеобразные архетипы или код поведения определенного этноса, который во многом детерминирует социокультурные установки субъекта в зависимости от его этнической принадлежности. Коллективное бессознательное этноса является пограничной областью между универсальным и личностным бессознательным. В его сферу влияния входят обычаи, традиции и социально-духовные формы деятельности, придающие национальные особенности общественной жизни индивида.
«Верхний» слой этноколлективного бессознательного развивается под воздействием неосознанно воспринимаемого культурного опыта человека, полученного им в своей национальной среде. Здесь вполне уместно привести оценку Г.К. Косиковым культурного бессоз- нательного: «Это не столько те знания и взгляды, которые рационально усвоены личностью в процессе воспитания, образования и т. п., сколько те, которые бессознательно ассимилируются человеком уже в силу самой его погруженности в определенный культурный мир, выступая как... невысказанный контекст этой культуры»5. Данная характеристика Коси-кова подходит и для «верхнего» слоя этнокол-лективного бессознательного, который, по сути, является для исследователя наиболее заметной частью культурного бессознательного.
«Верхний» слой этноколлективного бессознательного более индивидуализирован. В своей работе «Социальное мышление личности» К.А. Абульханова, не вступая в противоречие с теорией Юнга, делит архетипы на коллективные («мать», «отец», «смерть») и индивидуальные («самость»). По Юнгу, подобно тому как сознательные и бессознательные явления дают о себе знать практически, при встрече с ними, «самость» как психическая целостность также имеет сознательный и бессознательный аспекты. На наш взгляд, этнический аспект «самости» проявляется наиболее ярко именно на «верхнем» уровне бессознательного. Имея образный, неверба-лизируемый характер, демонстрируемый в экзистенциальных переживаниях личности, архетип «самость» образует фундамент национальной идентичности. Если нормы социокультурной среды вступают в противоречие с этим архетипом, то человек испытывает постоянную личностную тревожность, страхи и неуверенность. Но фобии исчезают, социокультурные отношения становятся целостными и гармоничными, как только общественные установки перестают противоречить архетипам этноколлективного бессознательного.
Национально-культурные нормы, рационально усвоенные человеком, и те «алгоритмы» поведения, которые сложились в его «верхнем» слое архетипического бессознательного, не могут существовать параллельно и независимо друг от друга. Они соединяются и взаимодействуют друг с другом в его внутреннем мире. Между ними могут возникать противоречия, например, когда вновь усвоенные нормативные ценности противоречат заложенной архетипической матрице. Нечто подобное мы видим в правовой и политической жизни со- временного российского общества, когда нормы общественных отношений, рационально воспринятые гражданами и закрепленные в Конституции, не становятся действенными регуляторами социального жизнеустройства. Российская Конституция напоминает, скорее, некую утопию, чем действующий нормативно-правовой акт 6.
«Нижний» слой этноколлективного бессознательного имеет психогенный характер. В его основе лежит национально-психическое начало, обязанное своим происхождением особенностям исторического пути, пройденного народом, к которому принадлежит субъект. Архетипы бессознательного этого уровня передаются следующим поколениям генетически. Иногда говорят, давая оценку качествам молодого человека, что эти свойства характера он приобрел с молоком матери. Таким образом на обыденном уровне отмечают психогенные истоки данной особенности личности.
В «нижнем» слое этноколлективного бессознательного базируются архетипы «мать» и «отец». В бессознательном мать остается могущественным первообразом, который окрашивает и даже определяет в течение индивидуальной и сознательной жизни отношение человека к матери, женщине и обществу. «Мать Германия для немцев, как и 1а douce France для французов, составляет подоплеку политики, которую нельзя недооценивать и пренебрегать которой могут лишь оторванные от жизни интеллектуалы. Всеобъемлющие недра mater ecclesia столь же мало представляют собой метафору, как и земля-матушка, мать-природа и вообще “материя”»7.
Архетип «отец» определяет отношение к мужчине, закону и государству, а также к разуму, духу и законам бытия. Отец является авторитетом, его образ тесно связан с понятиями закона и государства. По Юнгу, он – это то, что приводит само себя в движение подобно ветру, создает и управляет при помощи невидимых мыслей – воздушных образов (созидательных дуновений ветра – pneuma – spiritus – atman, дух). Образ отца распространяется на все области жизнедеятельности, которая подлежит упорядочиванию: государство, закон, долг, ответственность и разум. Юнг приходит к выводу, что по мере того как развивающееся сознание становится способным познавать, важность родительской личности тает. Место отца начинает занимать человеческое общество, место матери – семья 8. Но как общество, так и семья имеет свои национальные особенности, которые находятся в корреляции с соответствующими архетипами.
Архетипы «мать» и «отец» являются «несущими конструкциями» этноколлективного бессознательного, они определяют также характер «самости». Одним из эмпирических проявлений архетипа «мать» является образ Родины-матери, который у каждого человека имеет как нечто универсальное, исходящее из коллективного бессознательного, так и особенное, истоки которого лежат уже в этнокол-лективном и личностном бессознательном. Эмпирическим проявлением архетипа «отец» являются идеальные образы Закона, Порядка и Государства, представления о которых имеют свои национальные особенности.
Архетипы еще можно понимать как врожденные, вечные Сюжеты, не заполненные определенным культурно-национальным содержанием. Например, таким архетипом будет Сюжет: Смерть – Воскресение – Преображение. Однако у одних народов – это религиозная повесть с Христом, а у других – Птица Феникс иди Дух 9. Архетип «смерть» олицетворяет инстинкт смерти. Его наполнение начинается в этноколлективном бессознательном. Образ «смерть» является изначально наследуемой формой до-рациональной психики, постепенно развивающейся до конкретной идеи, обладающей своим национально-культурным содержанием.
З. Фрейд объяснял феномен жизни из диалектического взаимодействия инстинкта жизни и инстинкта смерти, которые сплетены в различные изменчивые, противоречивые и спутанные сочетания. Жизненная потенция обращает часть инстинкта смерти против внешнего мира, проявляясь во влечении к агрессии и деструкции по отношению к враждебным к субъекту формам. Этот инстинкт принуждается тем самым служить жизни, поскольку направлен на уничтожение всего того, что мешает человеку, а не себя самого. Фрейд пришел к выводу, что агрессивное стремление является у человека изначальной, самостоятельной инстинктивной предрасположенностью, в которой развитие культуры находит препятствие. Процесс «культивирования» состоит на службе у Эроса, желающего собрать отдельных индивидов в семьи, народы, нации, то есть в одно большое гармоничное целое, в человечество.
Таким образом, мы можем говорить об этноколлективном бессознательном как о важной детерминанте общественного поведения человека. Оно служит источником формирования его социокультурных ориентиров, во многом определяя тем самым направленность личностного развития. Этноколлектив-ное бессознательное оказывает значительное регулирующее воздействие на политическую и правовую деятельность субъекта, которое вполне сравнимо по своей силе с влиянием действующих нормативно-правовых актов государственной власти.
Список литературы Этноколлективное бессознательное как детерминанта социально-политического развития
- Дубов И. Г. Феномен менталитета: психологический анализ//Вопросы психологии. 1993. № 5.
- Deleuze G., Guattari F. Capitalisme et schizophrenie: L'Anti-Oedipe. P., 1972.
- Jameson F. The political unconscious: Narrative as a socially symbolic act. Ithaca, 1981. Р. 35.
- Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991. С. 98.
- Косиков Г.К. От структурализма к постструктурализму. М., 1998. С. 36.
- Гуляихин В.Н. Идеализм российского Основного закона как фактор правового нигилизма//Новая правовая мысль. 2004. № 4 (7). С. 19-21.
- Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. СПб., 2004. С. 124.
- Юнг К.Г. Тибетская «Книга мертвых». Психологический комментарий. СПб., 2006.
- Гумилев Л.Н. Этнос и биосфера Земли. Л., 1989. С. 86.