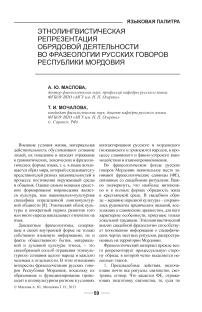Этнолингвистическая репрезентация обрядовой деятельности во фразеологии русских говоров Республики Мордовия
Автор: Маслова Алина Юрьевна, Мочалова Татьяна Ивановна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Языковая палитра
Статья в выпуске: 2, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен этнолингвистический анализ обрядовой деятельности, репрезентированной средствами диалектной фразеологии носителей русских говоров на территории Мордовии.
Диалектная фразеология, обряд, этнолингвистика, языковая картина мира
Короткий адрес: https://sciup.org/14723386
IDR: 14723386
Текст научной статьи Этнолингвистическая репрезентация обрядовой деятельности во фразеологии русских говоров Республики Мордовия
(г. Саранск, РФ)
Внешние условия жизни, материальная действительность обусловливают сознание людей, их поведение и находят отражение в грамматических, лексических и фразеологических формах языка, т. е. в языке воплощается образ мира, который складывается у представителей разных национальностей в процессе постижения окружающей среды и общения. Однако самым мощным средством формирования мировидения является культура, или национально-культурная специфика определенной лингвокультурной общности [8]. Этнический облик культуры в конкретный период развития того или иного народа накладывает отпечаток на язык.
Диалектные фразеологизмы, содержащие в своей внутренней форме не только собственно языковую информацию, но и факты общественного бытия, материальной и духовной культуры этноса, – это своеобразный способ отражения этнокультурного сознания целого народа и каждого человека в отдельности. В этом отношении интересны фразеосочетания русских говоров Республики Мордовия, поскольку их образование и функционирование происходят в поликультурном регионе в условиях
контактирования русского и мордовского (мокшанского и эрзянского) народов, в процессе славянского и финно-угорского взаимодействия и взаимопроникновения.
Во фразеологическом фонде русских говоров Мордовии значительное место занимают фразеологические единицы (ФЕ), связанные со свадебными ритуалами. Важно подчеркнуть, что наиболее интенсивно и в полных формах обрядность жила в крестьянской среде. В свадебном обряде – вершине народной культуры – сохранились рудименты архаических явлений, восходящих к славянским древностям, для него характерны особенности, присущие только локальной традиции. Этнолингвистический анализ свадебной фразеологии способствует пополнению информации о специфических чертах местных ритуалов, распространенных на территории Мордовии.
Фразеологический материал прежде всего репрезентирует процессуальную сторону обряда, в которой четко выделяется несколько этапов.
-
1. Предсвадебные действия, включающие почти все ритуалы: сватовство, смотрины, сговор. Что касается ФЕ, отражающих подготовку сватовства, то, судя по
Qiz Финно – угорский мир. 2013. № 2 употреблению ФЕ давать ( дать ) слово (о родственниках жениха), момент узнавания о согласии девушки выйти замуж порой входит в обряд сватовства: Ты слыхалъ, Тоньки словъ дали. А вот Наташка атка-зала, ей тожъ прихадили словътъ давать (Карпеловка, Торбеевский район), но иногда ему предшествует, что демонстрирует ФЕ с языка сорвать : Сначялъ с йизыка сар-вут, а патом уш сватътъ идут (Подверни-ха, Старошайговский район). Собственно ознаменование сватовства представляет ФЕ пропивать ( пропить ) невесту , т. е. праздновать согласие на свадьбу.
-
2. Обрядовые действия первого свадебного дня, происходящие непосредственно перед венчанием: давать выкуп за невесту ( окупать ворота , откупать ( покупать ) невесту ), выкупать приданое невесты ( кладку драть ). Если помолвка как обрядовое действие в предсвадебный период называется первым запоем , то второй запой – это проводы жениха и невесты в церковь. После венчания их осыпают хмелем – окупывают молодых . В день свадьбы дарят подарки. ФЕ фиксируют подношение подарков гостями жениху и невесте ( класть сыр , сыр метать , на поклон класть ( положить )) и невестой родным жениха ( на поклон , семью дарить ).
-
3. Обрядовые действия послесвадебно-го периода, представленные посещениями на второй день свадьбы родителей невесты ( на блинки звать – идти ( ходить ) на блинки ( пирожки )) и жениха. К последнему носят ветку сосны ( носить сосну ) и ищут в его доме невесту ( ярку искать ). Одним из завершающих моментов свадебных действий является обряд, определяемый ФЕ овин тушить : в избе зажигают солому, а невеста с женихом ее тушат. Считается, что это горит сор, который может накопиться в доме.
Ритуал смотрин представлен ФЕ, характеризующими хозяйственные проблемы: кладку ладить «договариваться о приданом с родителями невесты», уговариваться на-поджид «договариваться об отсрочке выплаты женихом кладки (выкупа) родителям невесты».
Сговор предполагает получение родительского одобрения будущего брака, ФЕ пойти на поклон означает пойти к родителям невесты за благословением. В ходе сговора также решаются организационные вопросы: идти с лаптями , лапти давать «договариваться о дне свадьбы (о родственниках невесты)», столом ладиться «договариваться об угощении на свадьбу». ФЕ идти с меркой отражает локальное свадебное обрядовое действие, когда идут в дом жениха измерять окна и двери, чтобы сшить занавески.
Значительное место во фразеологическом материале занимают ФЕ, представляющие действия накануне дня свадьбы: перенос в дом жениха приданого ( нести ватолу ), плач с причитаниями невесты ( волюшку вопить , красу отдавать ). Большая часть ФЕ связана с ритуалами, которые в это время совершают подруги невесты. Они относят к жениху подарки от невесты ( носить ( понести ) рубашку ), украшенную цветами ветку ( нести ( понести ) цветок ( курник )). Подругам полагается ночевать у невесты накануне торжества – мягчать перину . Обязательным этапом при подготовке к свадьбе со стороны невесты является девичник. Присутствовать на девичнике в доме невесты – поиграть вечёрку , ходить в подруги .
Ряд ФЕ отражает этап подготовки к центральному моменту свадьбы – свадебному пиру. Речь идет о приглашении в гости. Фразеологически зафиксирован факт приглашения и прихода в дом жениха родственников невесты: в горны звать – в горны идти ( пойти , ходить ). Интересно, что пришедшие (с любой стороны) на свадьбу должны платить за вино, выпитое из обвязанного красной лентой стакана, – козла окупать .
Таким образом, русская диалектная фразеология свадебного обряда на территории Мордовии отражает некоторые региональные традиции, восходящие в деталях к дохристианским истокам. При всей вариативности ритуальных действий общая структура обряда остается неизменной [7]. Почти все его основные составляющие определены в большей или меньшей степени ФЕ. Например: сватовство – пропивать (пропить) невесту, смотрины – кладку ладить, рукобитие – первый запой, вытье – волюшку вопить, девичник – мягчать перину, выкуп – окупать ворота. Этапы гуляния и свадебного пира характеризуются единичным фразеологизмом и довольно обобщенно – гулять свадьбу, т. е. праздновать. Во фразеологическом материале не содержится ФЕ, называющих собственно венчание, которое представляет собой священное действо, таинство и не предполагает каких-либо диалектных номинаций.
Похоронный обряд, как и свадебный, принадлежит к числу наиболее архаических, он сохранил многие черты традиционных воззрений на смерть. В этнолингвистических исследованиях нередко отмечается общность свадебного и похоронного обрядов, что объясняется их «переходным» характером. Фрагментарно это подтверждают диалектные фразеологизмы, представляющие ритуал плача невесты ( волюшку вопить , красу отдавать «плакать с причитаниями перед свадьбой»): Гости уш събирались, а Манькъ кросу уддовалъ (Резоватово, Ичал-ковский район). Известно, что жанр причитаний первоначально возник в похоронном обряде. Его присутствие в свадебном объясняется пониманием последнего как «условных похорон», в основе которого лежит идея смерти девушки в одном качестве и возрождения в другом.
Похоронный обряд, некогда не менее сложный по структуре, чем свадебный, сейчас предстает в сильно редуцированном виде. В настоящее время в нем просматриваются контуры старых, еще языческих ритуалов, однако заметно и то, что магическое содержание обрядового действа во многом стерлось. В диалектной фразеологии русских говоров Мордовии ФЕ указанной семантической группы представлены очень небольшим количеством единиц, которые репрезентируют ритуальные действия довольно обобщенно, практически не дифференцируя этапы обряда. Так, фразеологизмы отнести за сторожёвых , сделать траур имеют значение «схоронить, похоронить». Однако некоторые ФЕ характеризуют отдельные обрядовые комплексы, составляющие структуру погребально-поминального ритуала [4].
-
1. С предсмертным состоянием человека и моментом смерти, одеванием покойника и положением его в гроб связаны ФЕ, называющие вещи для умершего: смёртное одеянье ( одёжа ), смёртный узел . Из речи пожилого человека, заранее приготовившегося к смерти, собравшего себе смертную одежду: Смёртный узил у миня лежыт ф сундуке, в нём у миня фсё смёртнъ удея-нья. Годы утошли, хворать частъ сталъ, нады готовить смёртнъ удеянья, а то ни ровён час крамкниш, хъть нагишкъй миня в гробът клади (Суподеевка, Ардатовский район).
-
2. Вынос из дома, отпевание в церкви, погребение определяет ФЕ ногами понести . Ее значение – «схоронить, похоронить» – получено посредством метонимического переноса с номинации отдельного ритуала – выноса покойника из дома – на процесс похорон в целом. Корни традиции уходят в те времена, когда умерших выносили из дома не через дверь, а через окно или даже через специально прорубленное в стене отверстие, которое затем заделывали, чтобы душа спокойно ушла в иной мир и покойник не возвратился по своему следу (он будет знать, куда его несут, но не будет помнить, откуда).
-
3. Поминки, которые после сорокового дня переходят в поминальные ритуалы, связанные с календарной обрядностью, как и предыдущие действия, уходят своими корнями в далекое прошлое. В христианской традиции обычай поминок в основном сводится к поминальной трапезе – горячему столу . В русских говорах на территории Мордовии эта ФЕ имеет два значения: 1) «поминки после похорон». Интересно, как сами носители диалекта объясняют это выражение: Коли человек умрёт, об нём делъют поминки. Эти поминки назы-ваюццъ горячым столом. Нъ горячый стол чыловек фсю жызню пръроботъл, поэтъ-му нъ горячый стол угошчают вином, тут не грех ы выпить, нъ другех поминкъх пить нельзя (Суподеевка, Ардатовский район); 2) «горячие кушанья на поминках». Следовательно, поминки – это не просто обед, а особый ритуал, цель которого – отдать усопшему дань уважения, вспомнить о его добрых делах.
Сочетанию христианских и языческих традиций способствовали общие представления о загробном мире, продолжающейся жизни души. Умерших христиан принято называть усопшими, т. е. уснувшими. Благоговейное отношение к телу покойника напрямую связано с главным догматом христианства о всеобщем воскресении людей. По учению православной церкви, со смертью человек не исчезает, не уничтожается, он засыпает телом, а душой отправляется в дальнюю дорогу, на встречу с Богом [5]. Это отражено в ФЕ провожать на будущее со значением «отпевать покойника».
Обряд отпевания состоит из многих песнопений, отчего и получил свое название. Отпевание завершается, когда священник читает разрешительную молитву, в которой церковь молит Господа простить усопшему грехи и удостоить его Царства Небесного. Этой молитвой покойный освобождается от обременявших его запрещений и грехов
Qiz Финно – угорский мир. 2013. № 2 и отпускается в загробную жизнь примиренным с Богом и ближними. Чтение молитвы, текст которой сразу по ее прочтении вкладывается в правую руку умершего, как наиболее значимый момент обрядового действия отражен во ФЕ сидеть молитву «присутствовать на обряде отпевания усопшего».
В поминальные дни люди обязательно посещают могилы родственников, принося с собой еду, вино и как бы приглашая усопшего на ритуальную трапезу. ФЕ завтрак на кладбище носить «поминать» сохранила обычай, оставшийся от древнего похоронного обряда, который предусматривал как задабривание душ умерших, так и демонстрацию силы жизни.
Обычаи и обряды поминального цикла – проявление заботы об умерших в виде молений, особых трапез, посещения могил, поэтому для диалектоносителя важно, чтобы его похоронили с соблюдением обрядовых действий. ФЕ свалить под коноклёску «похоронить без обряда» носит пренебрежительный оттенок: …а то пъпадёш ф при-старелый дом, кто, чай, тея там съби-ратьтъ будит. Покроют какем-нибуть савънъм дъ свалют път кънаклёску (Супо-деевка, Ардатовский район).
Таким образом, даже те немногочисленные ФЕ, которые репрезентируют все этапы похоронно-поминального цикла, выступают отражением не только бытовой стороны жизни диалектоносителей, но и их архаического мировоззрения.
В диалектной фразеологии оставили свой след календарные обряды и связанные с ними обычаи и верования. Так, в русских говорах на территории Мордовии можно обнаружить упоминания церковных праздников в честь некоторых святых. В православной традиции особо отмечаются два дня памяти святителя Николая Чудотворца (Николая Угодника): 19 декабря (Никола Зимний, Холодный) и 22 мая (Никола Вешний, Теплый, Летний). В России почитание Николая Угодника приближалось к почитанию Богородицы и самого Христа, он воспринимался как национальный святой, покровитель русского народа, а также как крестьянский святой и мужицкий заступник [3]. Вплоть до начала ХIХ в. Николины дни в русских деревнях считались важнейшими праздничными днями после Пасхи. Феофан Прокопович, известный просветитель ХVIII в., жаловался, что русские люди «память святого Николая выше Господских праздников ставят» [3]. Не случайно и в исследуемом фразеологическом корпусе находим названия вёшняя микола и зимняя микола , соответствующие весеннему и зимнему Николиным дням.
Знаковое время года в народном календаре – весна. Достаточно вспомнить, что на Руси до XIV в. наступление нового года отмечалось в день весеннего равноденствия. В диалектной фразеологии проводам весны уделено особое внимание: этот период знаменовал переход к сельскохозяйственным работам, которые начинались в мае, также в этом месяце первый раз выгоняли в поле скот, открывался сезон хороводов. Окончание весны и переход к лету считались со дня Вознесения Господня (40-й день по Пасхе) [6]. Проводы весны праздновались в течение последней недели мая (по старому стилю), которую называли гулящая неделя. Весну провожали накануне Петровского поста. Последнее же весеннее вос- кресенье именовалось проводами весны и встречей русалок [2]. В исследуемых говорах этот день получил название русалкино (русальское) загванье. В конце XIX в. в гулящую неделю ни одна деревенская девушка не решилась бы пойти в лес из-за боязни русалок, которые, по народному представлению, на это время переселяются туда из речных и озерных омутов. Данный фразеологизм употребляется в шутливом контексте в значении «время, которое никогда не наступит»: Сказала иму, штоп саломки принёс, дъ вить надеждъ-тъ нъ ниво плахая, дъ русалкина загвънья ждать придёццъ (Ку-лишейка, Рузаевский район).
Проводы весны принадлежат к сельским обрядам и сопровождаются самыми разнообразными гуляньями. Посредством ФЕ сухой игриш зафиксирована народная забава, заключающаяся в обливании водой любого человека на улице на следующий день после праздника; ФЕ гранки ставить называет обычай за три дня до Троицы ставить на дорогах преграды из бревен и плетней. В этот день – седьмой четверг после Пасхи – отмечается праздник весенне-летнего календарного периода Семик. Он открывает обрядовый комплекс троицко-семицкого празднества и распространен в России повсеместно.
Среди фразеологизмов, определяющих обрядовые действия осеннего цикла, можно выделить ФЕ Кузьму сидеть , свидетельствующую об одном из обычаев, связанных с днем памяти святых Кузьмы (Космы) и Демьяна (Дамиана), который отмечается 14 ноября. Особое внимание к этим святым в сельской среде объясняется тем, что они прославились как мастера и труженики, покровители семейного очага и супружеского счастья. Вечер названного дня деревенская молодежь проводила в веселье: девушки собирались в какой-нибудь большой избе, вместе готовили пиршество, приглашали к столу парней. Такие пирушки продолжались до рассвета: Кузьму сидеть ребятъ и дефки па осени събирались (Марьяновка, Большеберезниковский район).
Как видим, диалектный фразеологический матерал русских говоров на территории Мордовии свидетельствует о том, что «календарные праздники как часть традиционной культуры тесно связаны с культурно-хозяйственными и культурноэтническими процессами и представляют собой сплав реального, основанного на богатейшем эмпирическом опыте, и ирреального – синкретизм верований, элементов древних обрядовых культов, местных мифологических преданий и пр.» [1].
Итак, диалектная фразеология является особой формой хранения и отражения национально-культурной информации – основы для порождения символических значений в ценностно-смысловом пространстве этноса.
Список литературы Этнолингвистическая репрезентация обрядовой деятельности во фразеологии русских говоров Республики Мордовия
- Кузнецова, И. В. Календарная обрядность и устойчивые сравнения//Коммуникативно-прагматические аспекты фразеологии: тез. докл. междунар. конф. (Волгоград, 28-29 сент. 1999 г.). -Волгоград, 1999. -С. 153-155.
- Максимов, С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила/С. В. Максимов. -СПб.: Товарищество Р. Голике и А. Вильворг, 1903. -529 с.
- Николин день [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www. pesnohorki.ru/nikol.htm. -Загл. с экрана.
- Похоронно-поминальные обычаи и обряды [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.funeralportal.ru/library/1111/12742.html. -Загл. с экрана.
- Православные похороны [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://ru. wikipedia. org/wiki/Похороны. -Загл. с экрана.
- Пропп, В. Я. Русские аграрные праздники/В. Я. Пропп. -СПб.: Терра -Азбука, 1995. -176 с.
- Русский свадебный обряд [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://ru.wikipedia. org/wiki/Русский_свадебный_обряд. -Загл. с экрана.
- Штейнгарт, Л. М. Особенности репрезентации языковой картины мира российских немцев (на материале пословиц и поговорок): автореф. дис.. канд. филол. наук/Л. М. Штейнгарт; Краснояр. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. -Иркутск, 2006. -22 с.