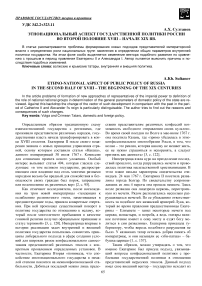Этнонациональный аспект государственной политики России во второй половине XVIII - начале XIX вв
Автор: Султанов А.Х.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 1 (39), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы формирования новых подходов представителей императорской власти к определению роли национальных групп населения в определении общих параметров внутренней политики государства. На этом фоне особо выделяется изменение вектора подобного развития по сравнению с прошлым в период правления Екатерины II и Александра I. Автор пытается выяснить причины и последствия подобных изменений.
Волжские и крымские татары, внутренняя и внешняя политика
Короткий адрес: https://sciup.org/142232593
IDR: 142232593
Текст научной статьи Этнонациональный аспект государственной политики России во второй половине XVIII - начале XIX вв
Определенным образом традиционную схему взаимоотношений государства с регионами, где проживали представители различных народов, государственная власть начала трансформировать в конце XVIII столетия. Екатерина II после своего воцарения заявила о новых принципах управления страной, основу которым составили статьи «Наказа», данного императрицей 30 июля 1767 г. Комиссии для сочинения проекта нового уложения. Особый интерес вызывает статья 494, которая гласила следующее: «в том великом государстве, распространяющем свое владение над столь многими разными народами весьма бы вредный для спокойствия и безопасности своих граждан был порок, запрещение или недозволение их различных вер» [2, c. 95].
Как отмечают исследователи, после восхождения на трон новой императрицы «тенденция к ослаблению религиозного гнета, наметившаяся в предшествующие годы, приняла конкретные очертания. При ней произошел существенный поворот в политике государства по отношению к исламу, который после многолетнего пребывания в качестве гонимой религии получил официальное признание и статус терпимой» [3, c. 120]. Императрица впервые в истории реализации задач внутренней и внешней политики государства попыталась совместить принципы либерального подхода в сфере создания условий для широких рамок конфессионального самосознания представителей различных этносов с конкретным проявлением определенных установок. В частности, Екатерина Вторая «понимала, что спокойствие многонационального государства в немалой степени покоится на межконфессиональной стабильности. Добиться последней можно лишь предо- ставив представителям различных конфессий возможность свободного отправления своих культов». Во время своей поездки по Волге в мае-июне 1767 г. она посетила Казань, где «зримо убедилась в этно-конфессиональном многообразии Росси, в том, что ислам – это реалия, которая никому не мешает жить, ее не нужно страшиться и искоренять, а следует признать как данность» [3, c. 122].
Императрица взяла курс на преодоление последствий прошлого, когда разрушались мечети и проводилась политика насильственной христианизации. В этом плане весьма характерны свидетельства очевидцев. 24 мая 1767 г. Екатерина II посетила развалины города Болгар. По свидетельству сопровождавших ее лиц 4 версты она прошла пешком. Здесь возле развалин она лицезрела церковь, перестроенную из мечети. Рядом располагались несколько разрушающихся мечетей. По ее убеждению ответственность за подобное нес казанский архиерей Лука, который во время правления предшественницы Екатерины – Елизавете – занял некоторые мечети под церкви, монастыри, и погреба, а ведь «татары великое почтение имеют к сему месту и ездят богу молиться в сии развалины». Екатерина приказала губернатору, чтобы впредь подобного разрушения не было. У казанских татар осталась добрая память об императрице, и они называли ее «эби-патша» – бабушка царица» [1, c. 157].
Таким образом, можно утверждать о том, что именно Екатерине был присущ подход, увязывавший вопросы конфессиональной политики с проблемами государственной политики в отношении представителей нерусских этносов. Данный подход имел свое внешний вектор – государство исходит из

признания необходимости освоения новых территорий. Как отмечают исследователи, «самодержавие начинает делать ставку на ислам как на силу, способную содействовать укрепления его влияния на востоке. Одними насильственными методами добиться желаемого результата было невозможно. Поэтому с начала 80-х годов XVIII в. правительство берет на вооружение политику «двойного стандарта». Ограничивая всяческими мерами влияние ислама в Среднем Поволжье и других «цивилизованных» районах империи, оно в то же самое время всеми силами содействует его пропаганде в «азиатских» областях, видя в нем действенное средство привлечения тамошних народов в российское подданство и удержания их в повиновении. Строительство мечетей должно было сыграть в этом не последнюю роль. Не случайно, получив от оренбургского губернатора барона Игельстрома сообщение об открытии подобных сооружений в Оренбурге и Троицке, Екатерина II выразила уверенность в том, что «таковое сооружение мест для публичной молитвы привлечет и прочих в близости кочующих или обитающих к границам нашим; сие и может послужить со временем к воздержанию их от своевольств лучше всяких строгих мер» [3, c. 126-127].
Осторожную политику императрица проводила в отношении крымских татар, лишь недавно вошедших в состав российского государства. Н. Бессарабова отмечает этой связи, что «даже иностранцы, нередко критически относившиеся и к Екатерине, и к территориальным приращениям России в Причерноморье, отмечали ее стремление «кротостью» удерживать татар в повиновении, предоставив им свободу исполнения религиозных обрядов и освободив их на 10 лет от налогов. Правителю Таврической области В.В. Каховскому Потемкин писал: «…новые подданные, ни языка, ни обычаев наших неведущие, требуют всякой защиты и покровительства… в таком положении не вздумали бы они оставлять земли отцов своих; предприемлемое некоторыми удаление из Тавриды доказывает их неудовольствие».
В данном случае «светлейшему» было чего опасаться. Муллы отнюдь не выражали восторга по поводу перехода в новое подданство, памятуя о негативном отношении к неправославному населению и со стороны Петра I, и со стороны Елизаветы Петровны. К тому же простые люди опасались, что на них распространяться обязанности нести военную службу, отбывать другие повинности. Князь Потемкин «сам предлагал Екатерине, что «татар тревожит посеянный от турков очаковских… слух, что браны будут в них рекруты… Ежели, матушка, пожалуете указ, освобождающий их от сего, то они совсем покорны будут. Также просят неотступно, чтобы платить им подать не по душам, а с земли, и со всего – десятину». Естественно, предлагалось одновременно уравнять в правах с российским дворянством татар- ских князей и мурз. Императрица согласилась с данными предложениями [1, c. 159-160].
Однако, несмотря на все восторженные эпитеты в адрес императрицы со стороны ее ближайшего окружения, необходимо исходить из прагматической составляющей политики Екатерины. Нельзя не согласиться с мнением отдельных авторов: «своим благосклонным отношением Екатерина располагала инородцев не только к себе лично, но и делала их лояльными к русской власти. Недаром в декабре 1787 г., незадолго до путешествия в Крым, в разговоре с А.В. Храповицким «о мечетях, для киргизцев поставленных, и о повелении, данном для печатания Алькорана, сказано, что сие не для введения магометанства, а для приманки на уду» [1, c. 156]. Центральная власть в лице императрицы осознанно шла на внешнеполитическое «прикрытие» попыток либерального подхода в сфере учета этнических и конфессиональных особенностей населения обширных пространств, вошедших в состав Российской империи после завоевательных походов Ивана Грозного и постепенного вхождения в состав государства народов, населявших Урал и Сибирь.
С именем Александра I связана первая попытка сформулировать и создать специфическую форму управления в отдельных регионах. В противовес мнению своих приближенных и представителей дворцовых кругов европейских стран он объявляет о создании Царства Польского с особым статусом правления, со своим парламентом. В данном случае у него созревает и получает свое логическое оформление план «конституционализации» Польши. Полет творческой мысли императора в области государственного строительства воистину поражает по широте своего охвата. В течение 1816-1818 гг. он неод-

нократно заявляет о намерении предоставить определенный конституционный статус прилегающим к Царству Польскому российским губерниям. Уместно вспомнить в этой связи и о его «мягком» подходе к проблеме предоставления определенной автономии Княжеству Финляндскому. Александр I в данном случае откровенно выступал против сложившегося в высших слоях общества предубеждения в отношении польского населения. Как известно, польские части принимали активное участие в сражениях с русской армией на стороне Наполеона. Даже члены семьи императора выступали против самой идеи предоставления какой–либо формы государственности той части Империи, где преобладало польское население. Меттерних неоднократно убеждал российского самодержца в пагубности подобного шага.
С другой стороны, необходимо отметить, что вокруг императора сложилась определенная атмосфера свободного поиска новых идей в области государственного управления в регионах, где преобладало нерусское население. В качестве примера сошлемся на его ближайшего сподвижника М.М. Сперанского. Как известно, в результате дворцовых интриг он был отправлен в политическую ссылку. На этом отрезке времени ему пришлось губернаторствовать в Сибири. Здесь уместно вспомнить о проекте М.М. Сперанского, который впервые ввёл понятие «инородцы» и об его планах управлении ими в Сибири. Первый документ, свидетельствовавший о новых подходах сибирского губернатора, получил название «Устав об управлении сибирских инородцев». Примечательной особенностью данного документа было то, что здесь предусматривалось деление коренного населения Сибири на различные категории по образу жизни – на оседлых, кочевых и бродячих. Соответственно этому делению определялись их права и порядок управления ими. Ранее местные жители Сибири подводились царским правительством под одну общую характеристику и назывались иноверцами или ясашными. Сперанский назвал их новым словом – «инородцы». Среди других проектов, составленных непосредственно Сперанским или под его руководством, были: «Устав об управлении сибирских киргизов», «Положение о долговых обязательствах между крестьянами и инородцами» [4, c. 328].
Ранее Михаил Михайлович активно приобщился к процессу определения статуса Финляндии, вошедшей в состав Российской империи в результате войны со Швецией. В своих проектах политического устройства Финляндии, которые по своему объему составили целый том, Сперанский исходил их того, что «Финляндия есть государство, а не губерния». Он способствовал в значительной степени сохранению в этой стране местных органов власти и, как писали в тот период, «туземных традиций». За указанные заслуги перед Финляндией Сперанскому был предложен диплом на финляндское дворянство, но он отказался от него [4, c. 430]. Подобное изменение общего вектора государственной политики связано, на наш взгляд, несколькими факторами. Следует отметить, определенное воздействие идеологии европейского просвещения на формировании общей доктрины управления государством в период правления Екатерины II и Александра I. Об этом свидетельствуют их первые шаги в сфере реализации задач внешней и внутренней политики.
Непосредственное изменение подхода императорской власти к проблемам многонационального населения России, как представляется, было связано с тем обстоятельством, что на престоле появились лица, не связанные ни родственными признаками, ни национальной принадлежностью к ранее правившей династии. Широко известно, как Екатерина II интенсивно принимала на себя обязательства по полнокровному познанию языка, обычаев и традиций русского народа. С одной стороны, у нее не было поверхностного отношения к представителям других народов исключительно как к подданным державы. С другой, именно она вносит определенный элемент прагматизма в это важнейшее направление внутренней политики государства. Представляется, что с этого периода указанный аспект становится важным компонентом для определения параметров и реализации задач во внешней политике России.
Список литературы Этнонациональный аспект государственной политики России во второй половине XVIII - начале XIX вв
- Бессарабова Н. Путешествие Екатерины Великой по России: от Ярославля до Крыма. - М.: Эксмо, 2014.
- EDN: VCDDUZ
- Конституционализм: исторический путь России к либеральной демократии. М., 2000.
- Ногманов А.И. Самодержавие и татары. Очерки истории законодательной политики второй половины XVI - XVII веков. Казань, 2005.
- EDN: QPCZHT
- Томсинов В. Сперанский. - M.: Молодая гвардия, 2006.