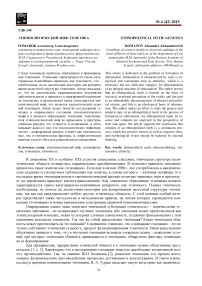Этнополитический миф: генетика
Автор: Романов Александр Александрович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 4 (42), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме образования и формирования этнонации. Этнонация характеризуется таким категориально-понятийным термином, как этничность, что - необходимая, но не достаточная категория для вычерчивания целостной структуры этнонации. Автор доказывает, что на мистическом, иррациональном восприятии действительности и прошлого в неразрывной взаимосвязи этнических и политических начал синтезируется энополитический миф, что является идеологической основой этнонации. Автор делает попытку исследования генезиса и современного состояния этнополитического мифа и в процессе образования этнонации. Анализируется этнополитический миф во временном и пространственном ракурсе, его сущность и содержание, и обосновывает вывод о том, что этнополитическое мифотворчество - непрерывный процесс и имеет как положительные, так и отрицательные факторы, и, мифологическое видение следует обуздать рациональным мышлением.
Этнополитический миф, этничность
Короткий адрес: https://sciup.org/142233772
IDR: 142233772 | УДК: 340
Текст научной статьи Этнополитический миф: генетика
В динамизме XX и особенно XXI столетия социальная, классовая, этническая структура полиэтнических обществ подверглась кардинальным преобразованиям. В политико-правовом лексиконе прижилось такое понятие как «этнонация». Если еще в начале 2000 г. оно употреблялось в академических изданиях и узконаучных публикациях как понятие, в основе которого – логичная метафора, то в последнее время этнонация вошла в терминологический арсенал политико-правовых наук и претендует на нормативно-правовую институцианализацию. Как этническое образование этнонация всецело характеризуется таким категориально-понятийным аппаратом, как этничность. Однако этничность необходимая, но отнюдь не достаточная категория для вычерчивания целостной структуры этнонации, так как она предопределяет любую другую этническую общность. С этой позиции особый интерес представляет также методология и методические приемы, на основе которых зарождаются концепция «этнонации» и новые юридические конструкции правовой коммуникативистики.
Оперирование одним лишь понятием этнической субстанции «этничность» – перечисление этнических признаков – не исчерпывает изучение этнонации, ибо этнонация может представляться как этнокультурный комплекс, некая культурная сложная совокупность, созданная функционально с ней связанным исходным элементом. Так что же собой представляет этнонация? Какая этническая общность может претендовать на это название? Совершенно очевидно, что содержание этнонации – это не только собственно этническая сущность, продукт функционирования этничности. Наши рассуждения объективно привели к тому, что в изучении этнонации возникла очередная задача – выявление условий, при которых этническая общность превращается в этнонацию, обнаружить факторы, влияющие на ее формирование.
Для превращения, перерастания этнической общности в этнонацию нужны объективные предпосылки [1, c. 3]. Характерно, что в исследовании этнонации зачастую преобладает когнитивный подход противодействия. Так, по мнению Ж.Н. Халимана [2], рождение этнонации это, прежде всего, мощное функциональное противодействие процессам деэтнизации и аккультурации. В таком ключе, исследуя причины возникновения этнонации, В. А. Тураев выделяет такую категорию как националь- ный гнет [3, c. 47], когда не доминирующая этническая общность испытывает дискриминацию в той или иной форме и пытается преодолевать фактический или психологический дискомфорт. В условиях ограниченного ресурса, в отличие от доминирующей этнической общности они постоянно испытывают страх и нехватку удовлетворения нужд, и представляют свою защищенность в институцианализа-ции своей этничности.
Этнонациональные побуждения являются протестом против этнонационального неравноправия. Такую тенденцию мы наблюдаем в истории Австро-Венгерской и Оттоманской империи. Дополнительными условиями сложения этнонации могут служить степень социального развития общества, уровень развития производительных сил и производственных отношений. Вполне ясно, что аборигенов, ведущих племенной образ жизни, которым недоступны даже примитивные орудия труда, никак нельзя считать этнонацией. Среди других факторов исследователи называют закон возвышающихся социальных ожиданий. Справедливо пишет О.А. Бельков: «По мере того как народы втягиваются в процесс модернизации и добиваются на этом пути определенных результатов (растет образовательный уровень, формируется национальная интеллигенция, улучшаются материальные условия жизни), расширяется и диапазон их потребностей» [4].
Этнонация не рождается в одночасье. Вместе с прогрессом социальной и материальной жизни в обществе постепенно растет этнонациональное самосознание, которое является гарантом сохранения этнических ценностей, самобытности, свободного развития этничности. Этноспецифические черты и атрибуты и социально-экономические обстоятельства являются необходимым, но не достаточным условием для сплочения этнонации. Внешние условия являются питательной средой для возникновения соответствующей идеи, ставящей своей целью «восстановление справедливости».
Между тем, как любое социальное образование, так и этнонация в соответствии с закономерностями общественного развития в процессе генезиса основана на социальных и материальных факторах (демография, экономика, территория, этничность и т.д.), прежде всего, низкий социальноэкономический уровень жизни или существенное падение темпов экономического развития, дефицит ресурсов и т.д. В качестве сопутствующих условий формирования и бытия этнонации рассматриваются такие элементы как природно-географо-территориальные, государственно-правовые, экологические, этнокультурные и т. п. (пересмотр существующих границ, требования пересмотра конституции, договоров, расширения социальных функций языка и т.д.). С позиции теории этногенеза, причиной возникновения и развития этничности является пассионарный толчок, первоисточники которого находятся будто бы далеко за пределами земли, а практическими организаторами процесса формирования этнического – инициативные и деятельные представители – пассионарии.
Теоретическая ясность и стройность такого научного построения несомненна, но не более отчетлива, чем любая другая научная концепция этнонациональной дивергенции. Трудность сопряжена с тем, что нацеленная на решение определенных методологических задач формализованная оценка производства, динамики природной среды и ее ресурсов и т.д. имеют узкоприкладное значение и не удовлетворяет строгим требованиям научного анализа.
Наша задача усложняется еще и тем, что этнонация как бы априори подразумевает некие исходные, первоначальные данные, которые отвергают любую альтернативу. Гегель заметил, что некая зримость единства может соблюдаться «не столько в силу реально существующих связей, сколько благодаря воспоминанию о существовании этих связей в прошлом» [5, c. 65]. На обширном отдаленном прошлом строится внеисторическая конструкция, требующая слепую веру и представляющая этнонацию вечной и континуальной, с такими неизменными сакральными субстанциями как «этнонаци-ональный дух» и «этнонациональная духовность», которые возвышают данную этнонацию в свете современной эпохи морально-нравственного разложения.
На мистическом, иррациональном восприятии действительности и прошлого в неразрывной взаимосвязи этнических и политических начал синтезируется энополитический миф. Как разрабатывается этнополитический миф, кем являются его творцы и носители, какие цели они преследуют, в чем сущность и содержание, какова структура и глубинный смысл этнополитического мифа, каким образом этногенетический и этноистрический мифы преобразуются в этнополитический миф, как распространяется и воспринимается этнонацией, какова же его политикоправовая роль? – все это отнюдь не праздные вопросы, и требуют самого тщательного изучения. В силу своей полисемичной смысловой природы, неопределенности не только правового, но и политического характера, на этом нам придется несколько предметно остановиться. Не случайно в последние десятилетия анализ этнополитических мифов находится в поле пристального внимания ученых самой разной специальности [6; 7, c. 325-341; 8].

Однако, в настоящее время в междисциплинарном научном изучении универсальное понимание этнополитического мифа все еще не выработалось. Большинство исследований выполнены в русле эвристики «case study»: зачастую представленные работами в области истории, этнологии, весьма интересной и просторной эмпирикой. Существенным ядром предложенных «case study» является идеализация этнонации и/или сакрализация национального государства, где миф представлялся описанием подлинных для подражания событий. Современные исследователи рассматривают миф как «иносказательную историю», трактующую символическими образами, метафорами и аналогией индуктивно обобщенный до архетипичности позитивная и негативная эмпирия реализации той или иной значимой потребности общности [10, c. 28]. В определении английского ученого Кристофера Флада этнополитический миф – идеологизированное повествование, претендующее на статус истинного (правильного) представления о событиях как прошлого, так и настоящего и прогнозируемого будущего, с учетом того, что сама общность в общих чертах воспринимает как достоверный [11, c. 43].
Еще Жульен Сорель сформулировал понятие политического мифа, предназначение которого заключается в отображении «инстинктов», «ожиданий» и «страхов» [этно]национального движения, в придании ему некой завершенности на основе привлекательного цивилизационного подхода [12, c. 325-340]. В таком ракурсе Политическое мифотворчество, как политическая технология, стремительно росло в XX веке в Германии и СССР выстраиванием новых мифологем, пронизанных иррациональными, эмоциональными субстанциями, в разрез с западными рациональными идеологиями XIX века, где во всех социальных сферах, включая политику, главенствует разум. Конструкция государственных мифологем оказалась столь действенной не просто в силу природы сознания человека, а в силу того, что в нестабильной общественной жизни в периоды кризисов и острой социальной тревожности, доступные рациональные методы недостаточны для познания окружающего мира. Следуя такому логическому построению, этнополитические мифологемы нацелены на снижение тревожности людей в переходных социальных условиях, точно так же как у первобытных людей мифы объясняли и снимали страх перед стихией природы. Однако, при таком моделировании остается открытым вопрос – почему в условиях относительной социальной стабильности создаются этнополитические мифы.
Если традиционные мифы как логическое моделирование связанного и организованного сюжетного построения нацелены на разрешение некоего противоречия, то современные, как полагает Р. Барт – имеют цель «натурализации» противоречий посредством оправдания эпизодичных событий. И поэтому современный этнополитический миф – дискретен, не более чем набор стереотипов (как пишет Р. Барт), целостных коммуникативных событий (как пишет известный исследователь коммуникации Маршалл Маклюэн [13, c. 31]), но еще более коварное мифическое, стоит предопределить требуемый дискурс, и этнополитический миф сконструируется в соответствии с заданной установкой.
Этнополитический миф всегда делает акцент на два момента – расцвет и катастрофу, приведшую данный народ в упадок. В полном отрыве от социальных закономерностей этнополитический миф в отдаленном прошлом обнаруживает Золотой Век, что, как правило, в силу ограниченности доступных альтернативных археологических источников, представляется неопровержимым достижением этнонации и доказательством ценностей своей этнической цивилизации. Например, для грузин Золотой Век связан с именем царицы Тамары, татары с не меньшим энтузиазмов вспоминают о Золотой Орде. Наличие государственности и фонетической письменности в древности из всевозможного наследия выставляются самоочевидным фактом устанавливающим истинность, при том неважно насколько это древнее государство было «свое» и было ли «свое» вообще. На протяжении последних нескольких десятилетий на Украине выросло целое поколение, воспитанное на той «бесспорном» установке, что Киевская Русь была исконно украинским государством, что даже не требует особого доказательства: ведь она была на территории современной Украины. В таком ракурсе вклад других народов в общечеловеческое культурное наследие или замалчивается, или приписывается незначительная роль.
В то же время неудачи и порабощения умалчиваются, не вспоминаются и ущербные предки и исторические события, которые мешают созданию этнополитического мифа о самобытной этнично-сти, а если историческая память народа отягощена трагическими событиями, то упоминаются только в том случае, если в доминирующем народном освоении историография традиционно наделяет их негативным клише. На первый взгляд вызывает недоумение: ведь заангажированные историки или околонаучные дилетанты с особым энтузиазмом берутся отредактировать историю и спрятать исторические факты под пылью ветхих страниц неисповедимой истории «экстравагантной наукообразной мифологемой» [14]. Однако, дегероизированные предки вполне вписываются в логику этнополитического мифа и выполняют еще одну немаловажную функцию в унисон с теорией вырождения.
Действительно, в логическом умозаключении, кажется, открытым вопрос – где осталось бывалое величие этнонации-культуртрегера, после великих завоеваний, расцвета собственной государственности, по какой причине катастрофический поворот в истории прервал поступательное развитие и она оказалась молчаливым потребителем современных достижений. Предлагаемый ответ столь же тривиальный. В качестве последнего выступает кризис «этнонационального духа» и разложение «эт-нонациональной духовности», и как результат предательство, разобщенность, утеря государственности. Например, евреи помнят не только строительство Первого храма X в. до н.э., но и разрушение Второго храма, сокрушение государственности (I в н. э.) и Холокост XX века. Самыми ключевыми для армян историческими моментами являются как эпоха Тиграна великого, так и геноцид 1915 г.
Тем самым этнополитический миф по принципу моноцентризма в поиске мессианизма, с целью интерпретации мистических аргументаций избранности данной этнонации, обладания необычайным творческим, интеллектуальным потенциалом, в отличие от всех других себе подобных. Охотно включают в список своих славных предков отвечающих актуальной этнополитики наиболее знаменитые мыслители древних времен: поэтов, музыкантов, полководцев, что является доказательством творческой активности и объясняет, почему именно данная этнонация должна вести за собой все остальные народы. В результате одни и те же исторические персонажи оказываются героями разных народов, тем самым еще один камень раздора во взаимоотношениях с соседями. Один из чеченских авторов считает, что создатель армянской фонетической письменности V века М. Моштоц, кто едва ли единственная опора армянской исторической этнической идентичности, имел нахское происхождение [15]. В 1994 г. после объявления Северной Осетии Аланией карачаевцы в Карачаево-Черкесии и балкарцы в Кабардино-Балкарии выражали массовые протесты, как посягательство на свое этническое наследие [16, c. 355]. Греки никогда не смирятся с негреческим происхождением Александра Македонского. Все это, несомненно, свидетельствует о важности исторического персонажа, в то же время доказательством того, что исторические факты у разных народов трактуются весьма по-разному в зависимости от этнонациональных интересов [17].
Этнонация изображается органически монолитным единством «Духа» вне пределов контроля отдельного человека и без внутренних противоречий. И наоборот, противопоставляется «Враг», который не мифический, а конкретика дихотомической оппозиции: добро–зло, свой–чужой. Такая дихотомия не только выполняет объединительную функцию, но и служит психологическим измерением индивидуального восприятия объективной действительности. В такой психовоспринимаемой «духовности» любое альтернативное мнение в адрес своей этнонации звучит как заведомо унизительно, как на личностном, так и на групповом уровне. По мнению венгерского историка и философа И. Бибо, построенная на подобной конструкции идеология истощает моральные резервы народов [18]. Сознательно разжигаются этнические чувства, а затем эксплуатируются и сталкиваются между собой те, кто на протяжении многих лет считали себя единым народом, раздуваются незначительные этнические и политические особенности, прошлые мнимые и не мнимые обиды и несправедливости, для того, чтобы вызвать вражду между людьми и народами.
Выбор образа врага, так же как выбор образов героев зачастую абсолютный априоризм. Неоднозначная оценка в этнополитической мифологии одних и тех же исторических лиц умоляет его самоценный характер и превращает в средство утверждения образа «Врага», тем самым усугубляя водораздел между народами. Армяне видят национального героя Андраника символом борьбы за свободу, славного руководителя национально-освободительного движения конца 19 – начало 20 века, направленного против Османской империи, а турецко-азербайджанские ученые считают его разбойником и грабителем. Кроме того, в зависимости от политической конъектуры один и тот же политический персонаж может наделяться несовместимыми этностереотипными чертами – сходствами или диаметральными различиями с другими народами, зачастую в отрыве от доминирующего представления основной части этнонации. Более чем убедительно показал французский историк Марк Ферро, что одни и те же исторические факты весьма по разному изложены в учебниках в разных странах [17].
В основе мировосприятия лежит этнический ареал, «родина предков», отраженные в мифе об этногенетических первопредках и на благоприятной почве фантазии представляется в сакральном свете. В этом свете этнополитический миф, во первых, всегда включает посягательство не только на чужое прошлое, чужих предков, но и на чужой этнический ареал. Во-вторых, служит аргументом за контроль над данной территорией и ее природными ресурсами. В-третьих, оправдывает право этнона-
ции на данную территорию, следовательно, право государственности на этой территории. В-четвертых, придает когнитивную обоснованность легитимности экономических претензий и политического суверенитета этнонации.
Этнополитический миф действительность представляет тусклым и на основе частных, зачастую противоречивых фактов синтезирует «единственно правильную» историю. Из всевозможных исходных гипотез выбирается «единственно доказанная» для освещения одного и того же исторического события, опираясь на методы, которые присущи для псевдонауки, повсеместным применением таинственных символов и мифических ритуалов. Впоследствии такое господство этнонационального подхода ведет к популярной среди заангажированных специалистов псевдонаучной теории, расистской и деструктивной этнонациональной пропаганде и, таким образом, формированию нового направления в науке, следовательно, об общепринятой версии истории не может идти речи [19, c. 15–16; 20, c. 151–154].
Несомненно, этнополитическое мифотворчество – непрерывный процесс и имеет как положительные, так и отрицательные факторы, однако, как утверждают исследователи, мифологическое видение следует обуздать рациональным мышлением [21, c. 20–22], по следующим соображениям:
во-первых, если наука как систематизированное познание закономерностей объективного мира стремится к постижению истинной сущности явлений и процессов, то мифотворец в «порыве самозабвения» манипулирует разными этноцентрическими версиями истории и противопоставляет исторические факты с применением негодных методов исследования проблемы для достижения целей этнополитической мифологии;
во-вторых, если наука допускает дискуссию и всегда открыта для новых данных и мышлений, то подобного рода этнополитический миф демонстрирует свою безальтернативность;
в-третьих, к поиску альтернативных путей преодоления социальной дисфункции включаются повсеместно как профессиональные правоведы, политологи, историки, лингвисты, этнографы т.д., так и подвизающиеся рядом с наукой журналисты, деятели художественной культуры, для которых не существует сдерживающих начал, или ученые, чья профессия связана с иными сферами научного познания. Тем самым, в отрыве от реальности создаются самые неимоверные этноисторические построения, трактующие диаметрально одни и те же исторические события, игнорирующие общепринятые в профессиональной науке закономерности;
в-четвертых, этнополитический миф, ограниченный рамками принятых в науке методических приемов, способен воспитать в людях взаимное уважение, сплотить этнонацию, наделить созидательной энергией, с целью приграничного, гармоничного сосуществования и достижения развития духовного и материального мира этнонации.
Список литературы Этнополитический миф: генетика
- Семенов Ю.И. Этнология и гносеология / Этнографическое обозрение. 1993. № 6.
- Халиман Ж.Н. Трансформация этнической идентичности вынужденных переселенцев в современной России: На примере Приморского края: дис. … канд. социол. наук.
- Тураев В.А. Этнополитология: учеб. пособие. М., 2004.
- EDN: QOCQWJ
- Бельков О.А. Антиномии национализма/ НАВИГУТ. 2005. № 5.
- Гегель. Политические произведения. М., 1978.