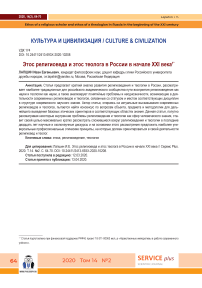Этос религиоведа и этос теолога в России в начале XXI века
Автор: Лапшин Иван Евгеньевич
Журнал: Сервис plus @servis-plus
Рубрика: Культура и цивилизация
Статья в выпуске: 2 т.14, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья предлагает краткий анализ развития религиоведения и теологии в России, рассматривает наиболее традиционные для российского академического сообщества пути восприятия религиоведения как науки и теологии как науки, а также анализирует понятийные проблемы и неоднозначности, возникающие в деятельности современных религиоведов и теологов, связанные со статусом и местом соответствующих дисциплин в структуре современного научного знания. Автор статьи, опираясь на актуальные высказывания современных религиоведов и теологов, пытается найти консенсус по вопросам объекта, предмета и методологии для дальнейшего выведения базовых этических ориентиров в соответствующих областях знания. Данная статья, попутно рассматривая некоторые внутренние проблемы религиоведения и теологии как сфер человеческого знания, ставит своей целью максимально кратко рассмотреть сложившиеся вокруг религиоведения и теологии в последние двадцать лет научные и околонаучные дискурсы и на основании этого рассмотрения предложить наиболее универсальные профессиональные этические принципы, на которые должен ориентироваться в своей деятельности религиовед и теолог.
Этика, религиоведение, теология
Короткий адрес: https://sciup.org/140249741
IDR: 140249741 | УДК: 174 | DOI: 10.24411/2413-693X-2020-10208
Текст научной статьи Этос религиоведа и этос теолога в России в начале XXI века
Submitted: 2020/03/12.
Accepted: 2020/04/13.
Введение. В современном российском академическом мире последних двадцати лет горячо обсуждается вопрос о статусе теологии как науки. Преподаватели, чиновники от науки, церковные и общественные деятели озвучивают большое количество аргументов как поддерживающих, так и оспаривающих этот статус. Наверное, не будет преувеличением сказать, что это пространство самых активных дискуссий в мире современного русскоязычного гуманитарного знания. Неудивительно, что в тени этих дискуссий остается множество смежных и не намного менее важных вопросов. Один из таких вопросов — вопрос о взаимоотношении и взаимоположении религиоведения и теологии, двух близких областей с очень разной историей и разным научным и социальным статусом; связан с этим вопросом и другой — вопрос об этических нормах, на которые должен ориентироваться религиовед и теолог. И в то время как с возрастающим распространением программ подготовки теологов в российских вузах несколько утратил свою остроту вопрос о статусе теологии как науки — или, по крайней мере, теологии как вузовской специальности, ведь первый государственный образовательный стандарт в России появился в 2002 году, почти двадцать лет назад, и за это время в стенах отечественных вузов было подготовлено немалое число специалистов-теологов — озвученный нами вопрос в каком-то смысле только сейчас «выплывает из тени» (а вместе с ним и вопрос об этике). Несколько иначе дело обстоит с религиоведением, но, как мы увидим дальше, российское религиоведческое сообщество также очень молодо. Представляется, что объем русскоязычных теоретических текстов, написанных на соответствующие темы, весьма значителен — с учетом того времени, за которое эти тексты появились. Посему хотелось бы максимально устраниться от сложных и подробных теоретических построений, а ограничиться лишь самым необходимым для наиболее общих выводов относительно корректных и некорректных практик в рамках одной и другой сферы. Данная статья не претендует на сколько-либо исчерпывающее рассмотрение проблем демаркации названных областей знания, целесообразности присутствия теологии среди вузовских специ-
2020 Том 14 №2

альностей и т.п. Ее цель иная: по возможности кратко рассмотреть сложившийся за последние десятилетия статус названных дисциплин в России и попытаться сформулировать базовые профессиональные этические принципы, на которые должен ориентироваться в своей деятельности религиовед и теолог.
-
I. Вопросы о том, что допустимо и что недопустимо в той или иной профессиональной области, обычно начинают задаваться не намного позже возникновения соответствующих областей — за исключением, возможно, некоторых очень старых профессий, возникших в те времена, когда представления о том, что такое профессионализм, значительно отличались от нынешних (с учетом всей условности такого воображаемого контекста). Систематическая и продолжительная деятельность в конкретной области раз за разом выводит на одни и те же вопросы, ответы на которые требуют этической рефлексии. Должен ли врач раскрывать тяжелобольному прогноз его болезни? Какими методами рекламы допустимо пользоваться для продвижения рекламируемого продукта? Подобные вопросы, с одной стороны, никогда не теряют актуальности и на них не получается дать единожды и навсегда окончательный ответ (такова специфика этики как формы человеческой рефлексии), с другой стороны, у большинства таких вопросов есть история — с вариантами ответов на них и соответствующими обоснованиями. В этом смысле «возврат к истокам», как правило, является разумным ходом для исследователя этики конкретной профессии. Но в случае с религиоведением и теологией сложности начинаются уже на этом этапе. Вопрос о времени возникновения религиоведения как науки представляется сравнительно простым: наибольшая часть современных авторов признает классиками религиоведения Ф.М. Мюллера, Р. Отто, К.П. Тиле, Д.Д. Фрезера и некоторых других исследователей, живших и творивших в середине-второй половине XIX века, в то время как в контексте разговора об отечественном религиоведении чаще всего фигурируют последние десятилетия советского времени. Сам вопрос о «возрасте» религиоведения редко становится предметом серьезных научных дискуссий, но, тем не менее, многие современные ученые, рассуждая на смежные темы, мимоходом формулируют тезисы, не сочетающиеся с озвученными выше представлениями о возникновении религиоведения: «так, заведующая кафедрой религиоведения философского факультета Санкт-Петербургского университета профессор Марианна Шахнович полагает, что российское религиоведе-
ние имеет «многовековую традицию, которая идет еще от М.В. Ломоносова и сформировалась в конце XIX в». Соредактор журнала «Религиоведение» доцент Александр Красников, напротив, утверждает, что эта наука существует всего десять лет» [1]. Митрополит Иларион (Алфеев) ставит знак равенства между временем существования религиоведения и теологии в России, говоря в обоих случаях о 1990-х годах [2, с. 225]. Возможно, многие заподозрят православного иерарха в конфессиональной предвзятости и стремлению «омолодить» религиоведение, которое иногда воспринимается как «конкурирующая» с теологией область знаний, но к похожему мнению склоняется и М.Г. Писманик, один из авторов «Атеистического словаря», замечая, что «возраст религиоведения как дисциплинарного комплекса — едва ли не отроческий по сравнению с теологией, в энциклопедическом своде которой сосредоточен огромный массив знаний о религиозной вере и практике» [3, с. 284]. Впрочем, если мы зададимся вопросом о возрасте теологии как области знания, мы испытаем не меньшие затруднения: даже среди небольшого числа уже приведенных авторов есть сторонники разных взглядов — как отталкивающиеся от рубежа XIX-XX веков, так и ссылающихся на средневековых русскоязычных богословов или даже на классическое восточнохристианское богословие.
-
II. По всей видимости, ответ на вопрос о времени существования одной или иной области знания будет зависеть от того, что именно мы понимаем под соответствующими терминами. Попытаемся несколько погрузиться и в этот вопрос (не забывая, впрочем, об исходной цели). Очевидно, что в случае с теологией нас действительно ждут затруднения: само слово «теология» достаточно древнее и имеет долгую историю, и потому теологией может называться и собственно богословие в строгом смысле этого слова. Возможно, стоит исходить из того понимания термина «теология», которое актуально для современного российского образования — то есть из такого, насчет которого согласились бы и умеренные сторонники, и умеренные противники теологии как образовательной программы, и которое предполагало бы практическую реализуемость такой программы: теология — это некий взгляд на религию — конкретную — «изнутри», из глаз верующего или по крайней мере «сочувствующего», не предполагающий, однако, обязательного участия в отправлении культа, в противовес религиоведению, которое изучает религии — как таковые — «снаружи», с соответствующими
2020 Том 14 №2
методологическими различиями у одной и другой области знания. Нечто похожее озвучивал К.М. Антонов: «Пространство теологии определяется категориями конкретного и должного, пространство религиоведения — категориями общего и сущего. Теологи пытаются понять, во что должны верить члены конкретной Церкви, религиоведы — во что реально верят (верили) люди, к какой бы религии они ни принадлежали» [4, с. 201]. Но даже с таким «мягким» определением не согласятся многие известные и цитируемые авторы: «главный признак подлинной христианской теологии, тем более православной теологии — воцерковленность… внецерков-ное положение теологии по своему существу абсурдно, опустошенно, лишено самого «объекта» и «материала» исследования» [5, с. 74]; «теология — конфессиональное религиоведение» [6, с. 116]; иногда появляются редкие и «авторские» термины, употребление которых явно непросто согласовать с представлениями других исследователей: «теологическое религиоведение» и «светская теология» [1]; можно найти упоминания философской теологии, которая «в широком смысле слова соотносится со всем спектром позитивных отношений между философией и религией» [7], но при этом «философские теологии различных конфессий составляют лишь частичные «ведомственные фрагменты» в сфере несравненно более обширной религиозной философии» [3, с. 287].
Не проще обстоит дело и с религиоведением и его взаимоотношениями с теологией, философией религии и другими смежными областями (отчасти это уже было заметно по приведенным выше цитатам): с одной стороны, за религиоведением традиционно признается некая религиозно-компаративистская сфера исследования религии, свободная от теологии и предполагающая поиск общего религиозного опыта (во всяком случае, к такому пониманию религиоведения стремился Ф.М. Мюллер): «целью теологического исследования является не компаративный социо-культурный анализ религиозного феномена, что осуществляет религиовед, а выявление внутренних закономерностей его существования и функционирования» [8, с. 69]. С другой стороны, более углубленное изучение отечественных научных публикаций может поставить в тупик даже хорошо подготовленного читателя: «выявление… внутренних закономерностей существования и функционирования религиозного феномена предметом религиоведения не является» [9, с. 23]; «теология во многом обуславливает развитие религиоведения как компаративной «над- стройки», существенно использующей выработанные теологией как наукой архетипы и категории осмысления религиозного опыта» [9, с. 27] Часто встречаются и другие, также ставящие в тупик высказывания: «философия религии — метатеория религиоведения» [3, с. 282]; феноменология религии то называется «одной из базовых дисциплин в религиоведческом комплексе» [10, с. 65], то отделяется от собственно религиоведения [11, с. 124]. Вопросы о «месте» возникают даже относительно такой традиционной области как история религий [12, с. 109].
-
III. Возможно, более очевидный путь к формулированию базовых этических принципов новой профессии или специальности (или не новой, но претерпевшей существенные изменения в последнее время — такое уточнение вроде бы должно позволить нам говорить о теологии и религиоведении в одном ключе) проходит через прояснение объекта и основополагающих методов данной специальности. Действительно, прояснив, как и с чем имеет дело та или иная область знания, можно определить, какие именно этические затруднения могут возникать в ходе соответствующей деятельности. Но и здесь затруднений не меньше: например, К.М. Антонов, рассуждая о теологии, предполагает, что «наилучшим вариантом могло бы быть ее определение как науки о вере церкви или просто о церкви как некоторой фактической данности» [4, с. 201]. При этом Е.С. Элбакян пишет о том, что «любая теология, как известно, это учение о Боге и его самообнаружении в мире» [13, с. 124]; по мнению Ф.Г. Овсиенко, «цель (теологии) — обосновать и утвердить религиозное откровение» [1]. Аналогичным образом дело обстоит и с религиоведением, как мы уже отчасти показывали: «религиоведение изучает закономерности возникновения, развития и функционирования религии, ее строение и различные компоненты, ее многообразные феномены, как они представали в истории общества, взаимосвязь и взаимодействие религии и других областей культуры» [14, с. 5]; «выявление… внутренних закономерностей существования и функционирования религиозного феномена предметом религиоведения не является» [9, с. 23]. У Е.С. Элбакян получается и вовсе нечто вроде порочного круга: изначально определив, что предметом теология является Бог (положение, которое, как представляется, достаточно легко оспорить), исследователь затем на основании этой неоднозначной аксиомы делает следующий вывод: «однако достаточно взглянуть на паспорт специальности «Теология», чтобы
2020 Том 14 №2
увидеть что в нем содержатся далеко не теологические аспекты. Так, в формуле специальности, наряду со специфичным для теологии раскрытием ее содержания и основных разделов и источников теологического учения, находятся сугубо религиоведческие «основы вероучения и религиозных обрядов, исторические формы и практическая деятельность религиозной организации, ее религиозное служение, религиозное культурное наследие в различных контекстах». И далее: «Теологическое исследование направлено на выявление, анализ и интерпретацию значимых аспектов религиозной жизни и их соотнесение с нормами конкретной религиозной традиции. Важной областью предметного поля специальности «Теология» является изучение истории и современного состояния отношения религиозной организации к другим конфессиональным учениям и организациям, а также к государству и обществу». Все это, как нетрудно заметить, подлежит научному познанию и является сферой науки — религиоведения» [13, с. 125]. Избегая «войны авторитетов», заметим лишь, что образовательные дисциплины «апологетика» и «литур-гика» вполне могут быть описаны предлагаемыми словосочетаниями «основы вероучения» и «религиозное служение» соответственно. При этом и апологетика, и литургика являются обязательными дисциплинами в составе любой или практически любой программы по специальности «(христианская) теология» и навряд ли часто присутствуют в программах по специальности «религиоведение».
В завершение этого раздела приведем высказывание, которое, казалось бы, совершенно однозначно не может вызывать несогласие и попросту фиксирует достаточно бесспорное обстоятельство: «все-таки у большинства известных специалистов отнесенность теологии к сфере гуманитарных наук сомнений не вызывает» [4, с. 202]. И тем не менее, С.А. Колесников пишет: «вообще, гуманитарная маркировка теологии в актуальном научном классификаторе — парадокс современности. «Слово о Боге» отнесено к гуманитарным дисциплинам, к дисциплинам, изучающим человека, наукам о человеке: ограниченность современной научной парадигмы не позволяет отнести теологию ни в какой иной «научно-методический» регистр. Но — теология, как это очевидно, не говорит о человеке, вернее, говорит не только о человеке, а потому не вмещается в прокрустово ложе современной гуманитаристики» [5, с.27].
В целом необходимо признать разобщенность нынешнего российского как религиоведческого, так и теологического сообщества. Порой ученые, опубликовавшие совместную публикацию, в своем дальнейшем «раздельном» творчестве формулируют несовместимые с теориями своих недавних соавторов тезисы. На уже упоминавшемся выше круглом столе в МГУ ставился вопрос о состоянии религиоведческого сообщества в России, и также были высказаны некоторые соображения насчет достижения возможного единства этого сообщества. В качестве одной из основных проблем была обозначена теоретическая разнородность тех текстов, авторы которых определяли их как религиоведческие: «по оценке соредактора журнала «Религиоведение» Андрея Забияко, еще рано говорить о «корпорации коллег с общими интересами», а религиоведческое сообщество больше похоже на «лоскутное одеяло, распростертое над страной». Он полагает, что издаваемый им журнал является своеобразным «индикатором» состояния российского «местечкового» религиоведения: по сравнению с 15 существующими в мире англоязычными узкоспециализированными журналами этой тематики, российский журнал не имеет четкой теоретической платформы и отличается широтой охвата проблем» [1]. О подобной разобщенности можно сказать и применительно к теологическим сообществам [15].
-
IV. Исходя из множественности взглядов на одни и те же вопросы, крайне сложно сформулировать какие-то универсальные этические ориентиры в данных профессиональных областях. Тем не менее, с учетом упомянутых выше противоречий, попытаемся это сделать.
Первое и, наверное, наиболее важное требование к работе как теолога, так и религиоведа — честность . Конечно, не существует научных областей (да и вообще областей человеческой деятельности), в которых это качество было бы несущественным, но в данном случае оно особенно важно в настоящий момент. С одной стороны, девяностые годы прошлого столетия с повально не проверяемыми цитатами в религиозно-исследовательской литературе, как кажется, далеко позади. С другой стороны, нередки случаи не вполне корректного цитирования, когда цитирующий автор искажает мысль цитируемого, что вскрывается при обращении к первоисточнику и наводит на некоторые подозрения (мы не приводим соответствующие цитаты в этом тексте в силу ряда причин; об одной из них будет сказано дальше).
Второе — открытость к диалогу с представителями других школ и сторонниками других мнений и терпимость по отношению к ним. При чтении некото-
2020 Том 14 №2
рых пар авторов складывается впечатление, что если вдруг они окажутся, скажем, на одной конференции, между ними неминуемо произойдет конфликт, причем с выходом за рамки академического общения (иногда такое действительно и происходит). Представляется, что изучение религий в XXI веке, изнутри ли, или снаружи, должно само по себе располагать исследователей к конструктивному и доброжелательному диалогу.
Третье соображение — наоборот, нетерпимость к безапелляционным заявлениям и явным искажениям фактов и готовность устраняться от неконструктивных дискуссий . Несмотря на то, что для нормального функционирования двух обсуждаемых областей исследования необходима достаточно большая степень свободы в высказываниях, эта свобода должна иметь разумные рамки. Опровергать общеизвестные и многократно подтвержденные факты можно только после очень хорошей подготовки. В тех же случаях, когда обсуждение ведется на недостаточном научном уровне и в нем звучит множество сомнительных или странных утверждений, желательно не принимать в подобном участия, чтобы не создавать ненужные прецеденты.
Четвертое — отказ от лоббирования тех или иных социально-политических запросов, откуда бы они ни исходили. Деятельность теолога и религиоведа — это всегда деятельность исследователя и ученого, который должен безусловно стремиться искать истину, и даже если мы отказываем одной (или другой) области в научном статусе, религия — одна из основных сфер неутилитарного человеческого сознания, поэтому это требование должно соблюдаться хотя бы из уважения к своей области исследования. Этот пункт также особенно актуален сегодня, в связи с изменениями, происходящими в российской системе образования. Но, в свою очередь, надо также всячески избегать выдвигать обвинения в подобном лоббировании и в адрес других исследователей — исключая случаи, когда тому есть веские подтверждения. Безосновательные или слабо обоснованные обвинения такого рода также негативно влияют на академическую среду в этих двух областях.
Автор выражает надежду, что спустя какое-то время опыт этой статьи удастся повторить таким образом, что противоречия в основополагающих понятиях и терминах между ведущими или просто влиятельными авторами можно будет найти, только если специально задаться этой целью.
Список литературы Этос религиоведа и этос теолога в России в начале XXI века
- В МГУ проходит круглый стол «Актуальные проблемы религиоведения». URL: http://www.religare.ru/2_8254_1_21.html (Дата обращения: 25.12.2019).
- Митрополит Иларион (Алфеев). Теология в современном российском академическом пространстве // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2016. №3 (34).
- Писманик М.Г. Религиоведы и богословы: нужны и возможны ли диалоги? // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2010. №3.
- Антонов К.М. «Теология - это наука о церкви как некоторой фактической данности...» ответы на вопросы редакции // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2016. №3 (34).
- Колесников С.А. Современная теология и современная наука: перспективы сотрудничества // Христианское чтение. 2018. №5.
- Никольский В.С. О признании теологии в качестве отрасли научного знания // Высшее образование в России. 2010. №5.
- Теология философская // Новая философская энциклопедия. URL: https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH01b7ebf0f48dba4572128fb7 (Дата обращения: 25.12.2019).
- Колодин А. К новым рубежам // Высшее образование в России. 2000. №4.
- Польсков К. Теология и религиоведение в контексте возрождения гуманитарной науки в современной России // Вестник ПСТГУ. Серия 4: Педагогика. Психология. 2006. №3.
- Кузьмина Е.В. Сравнительный метод в изучении религии. Общие особенности теоретических поисков // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2017. №1.
- Пылаев М.А. Пролегомены ко всякому будущему религиоведению, могущему возникнуть в качестве христианского религиоведения // Вестник ПСТГУ. Серия 1: Богословие. Философия. 2018. №80.
- Кузьмина Е. В. «История религий»: между религиоведением и теологией // Вестник ОмГУ. 2012. №3 (65).
- Элбакян Е.С. Теология в земных реалиях // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2016. №1.
- Основы религиоведения. Учебник / под ред. И. Н. Яблокова. — М., 1994.
- Церковь и время. URL: https://mospat.ru/church-and-time/1376 (Дата обращения: 25.12.2019).