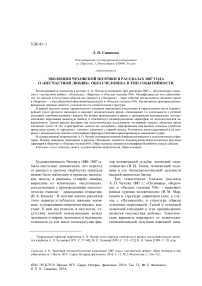Эволюция чеховской поэтики в рассказах 1887 года о "несчастной любви": образ человека и тип событийности
Автор: Синякова Людмила Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются изменения в поэтике А. П. Чехова на материале трех рассказов 1887 г., объединенных сюжетом о «несчастной любви»: «Полинька», «Верочка» и «Рассказ госпожи NN». Модифицируется тип событийности: от эпизода и отсутствия события как такового в «Полиньке» - через событие несчастливого свидания героев в «Верочке» - к бессобытийной фиктивной реальности в «Рассказе госпожи NN». Раздвигаются пространственно-временные границы события, усложняется его семантическая структура. В первом рассказе сюжет драматического свидания персонажей локализован в определенном месте (галантерейный отдел крупного магазина) и занимает незначительное время, совпадающее по длительности с речевой ситуацией «любовно-делового» диалога. Во втором произведении и время, и пространство континуальны, что предоставляет персонажам сюжетную свободу и способствует индивидуализации характеров, их психологической завершенности. Третий рассказ выстроен как психологическое исследование «остывания чувств»; сюжетное время составляет почти 10 лет, а пространство делится на «усадебное», маркированное ощущением «счастья» (действие происходит летом), и «городское», «зимнее», связанное с утратой надежд. Рутинность жизни персонажей и их смирение с неизменностью личного существования формирует бытийно-ориентированную концепцию судьбы. В художественной антропологии А. П. Чехова усиливается влияние биофизиологического и психологического факторов. Ролевое поведение персонажей в рассказе «Полинька» сменяется индивидуально-психологическим рисунком характеров в «Верочке» и «Рассказе госпожи NN». Образ человека становится изоморфным бытийному смыслу события.
Событие, сюжет, художественная антропология, образ человека, literary аnthropology
Короткий адрес: https://sciup.org/147219519
IDR: 147219519 | УДК: 82-3
Текст научной статьи Эволюция чеховской поэтики в рассказах 1887 года о "несчастной любви": образ человека и тип событийности
Художественность Чехова в 1886–1887 гг. была настолько динамичной, что переход от раннего к зрелому творчеству писателя можно было наблюдать в пределах нескольких недель, а рассказы «старой» манеры, выросшие из комических «мелочишек», соседствовали с произведениями психологически емкими – «рассказами открытия» (В. Б. Катаев) 1. В поэтике многих рассказов этого периода углубляется значение чеховских художественно-антропологических констант. К ним мы отнесем, в частности, отсутствие внятной коммуникации между человеком и миром, человеком и человеком; телесность (в том числе плотскую) как фак- тор человеческой судьбы; чеховский «персонализм» (В. И. Тюпа), полагающий человека в его биопсихологической цельности высшей ценностью бытия.
Три тематически близких рассказа А. П. Чехова 1887 г.: «Полинька», «Верочка» и «Рассказ госпожи NN» – выявляют разные «уровни человечности» (В. М. Маркович) в структуре характеров (или, в случае с «Полинькой», в структуре образа) основных персонажей. Темой и основной сюжетной ситуацией в этих произведениях является «несчастная любовь». Тематические варианты варьируют от комически-сентиментальной ситуации взаимной заин- тересованности («Полинька»), слегка иронической, но в то же время драматичной реализации «непонимания» («Верочка») – к потенциально трагичной философии «остывания» любви («Рассказ госпожи NN»). Чехов еще колеблется в авторском самоопределении: «Полинька» и «Рассказ госпожи NN» подписаны «А. Чехонте», а «Верочка» – «Ан. Чехов». Не учитывать смены авторских имен и стоящей за этим смены авторской позиции или авторского поведения при анализе поэтики рассказов невозможно, поэтому предварительно можно заметить, что «Верочка» воспринимается ее создателем в качестве произведения более серьезного, чем «Рассказ госпожи NN» и философия «скуки жизни» 2.
«Полинька», несомненно, соотносится с ранними рассказами писателя и сюжетно выстроена как забавный эпизод, увиденный (точнее, подсмотренный и подслушанный) нейтральным повествователем. Рассказ можно определить как «очерк нравов». Описывается встреча двух персонажей в крупном торговом заведении. Топос «общественного места» становится отрицательной детерминантой эпизода. Среди «однообразного шума» происходит жизненно важный для обоих фигурантов разговор, в котором Полинька – пришедшая якобы за галантерейными мелочами дочь модистки – никак не может решить, кто ей дороже: ее собеседник, приказчик Николай Тимофеевич, или некий студент. Николай Тимофеевич пугает девушку разницей социального положения, корыстолюбием студента и будущим несчастьем в совместной жизни: «Бросит он вас, Пелагея Сергеевна! А если и женится когда-нибудь, то не по любви, а с голода, на деньги ваши польстится. Сделает себе на приданое приличную обстановку, а потом стыдиться вас будет. От гостей и товарищей будет вас прятать, потому что вы необразованная <…> Вы для них модистка, невежественное существо!» [Чехов, 1985. С. 55] 3. Полинька хоть и признается, что неравно- душна к сопернику Николая Тимофеевича, умоляет оскорбленного в своих чувствах приказчика посетить ее вечером, потому что «вы один только… меня любите, и, кроме вас, мне не с кем поговорить» (С. 56). На протяжении всего эпизода несчастная девушка то пытается сдержать слезы, то начинает потихоньку плакать. Действие происходит возле прилавка. Полинька делает вид, что выбирает кружево, плюмаж и проч., и прагматика речи в эпизоде представляет собой две постоянно сталкивающиеся речевые ситуации: с одной стороны, продавец – покупатель и соответствующая этой практике «торгово-деловая» речь, с другой – мело-драматически-сентиментальная, релевантная сюжету о «несчастной любви» модистки и приказчика. Последняя речевая практика передает сюжетную ситуацию «расставания навеки». Столкновение этих речевых манер генерирует комический эффект: «Есть два сорта кружев, сударыня! Бумажные и шелковые! Ориенталь, британские, валенсьен, кроше, торшон – это бумажные-с, а рококо, сутажет, камбре – это шелковые… Ради Бога, утрите слезы! Сюда идут!
И, видя, что слезы все еще текут, он продолжает еще громче:
– Испанские, рококо, сутажет, камбре… Чулки фильдекоксовые, бумажные, шелковые…» (С. 57) 4.
Приведенная цитата завершает рассказ. «Полинька» – трагикомический очерк, относящийся к типу чеховского рассказа, который Г. П. Бердников назвал «комедией нравов» [1994. С. 26–39]. Заметим лишь, что ученый рассматривал ранние рассказы писателя («Толстый и тонкий», «Смерть чиновника» и др.), а в переходной «Полиньке» «комедия» смягчается сочувственной интонацией автора 5 и социальное вытесняется персональным.
Этологический модус остается, однако «комедия нравов» сменяется «мещанской драмой». Действующие лица – носители социально-психологической «характерности», но уже не маски, а индивидуально отмеченные персонажи. Они не статичны, их эмоциональное состояние переменчиво и в какой-то мере сложно, обусловлено необходимостью соблюдать приличия в подобающем месте. Их беседа лишь намечает столкновение разнонаправленных интересов, но не приводит к сюжетно-композиционному завершению. Авторская интенция в рассказе – наблюдение над каждодневно случающейся «житейской мелочью», по-своему драматичной для участников истории. Собственно, эта интенция не изменяется в своем инвариантном значении на протяжении всего дальнейшего творчества писателя.
Рассказ «Верочка» был также опубликован в феврале 1887 г. 6 Заглавие рассказа соотносимо с заглавием предыдущего произведения: антропоним в уменьшительной форме, – однако инерция восприятия в данном случае обманчива. Исследователи, в основном, видят в «Верочке» «онегинский» сюжет: пылкая думающая девушка наталкивается на холодное непонимание «столичного» человека – правда, далеко не денди, а рядового статистика. Так, А. Д. Степанов замечает: «Самыми простыми “силами в себе” для героев Чехова оказывается страсть или привычка, которые часто неразличимы. <…> “силой”, на которую жалуется человек, могут оказаться <…> холодность и бессилие (“Верочка”)» [2005. С. 253]. Р. Б. Ахметшин упоминает героиню рассказа в ряду других мятущихся чеховских натур: «Они проходят целою галереею, все эти трогательные образы Чехова – очаровательные Верочки, шепчущие холодному человеку свои первые признания, милые, тоскующие три сестры, кроткая Соня, Чайка…» [2007. С. 528]. М. М. Одесская склонна относить рассказ «Верочка» к тургеневской традиции, причем иронически осмысленной. По мнению исследовательницы, в рассказе реализуется ситуация «“русский человек на rendez-vous”, превратившаяся в штамп» [2011. С. 341]. Верочка – это литературный тип девушки, усвоившей книжные идеалы, которые она пытается реализовать на свидании с «уче- ным сухарем», «отнюдь не склонным к борьбе» [Там же. C. 341–342]. В любом случае, основной интенцией в рассказе признается нежелание слышать друг друга.
Однако в «Верочке» не менее важна сугубо антропологическая и узнаваемо чеховская тема – отсутствие страсти или влечения как глубинная причина нежелания понять собеседника. Это более легкий и житейски распространенный вариант чеховской антропологии страсти – темной, неотвязной или внезапной, но столь же неодолимой («Драма на охоте», «Ведьма», «Тина», «Володя», «Воры», «Ариадна» и др.). Занимающийся статистикой молодой человек из Петербурга, Иван Алексеич Огнев, перед тем как покинуть некий уезд в одной из губерний, где он все лето собирал данные, выслушивает неожиданное признание в любви от дочери председателя земской управы – Верочки Кузнецовой. Будучи обласканным в семье Кузнецовых как добрый сосед и гость, Иван Алексеич не может себе представить иных отношений к Верочке, кроме почтительно-дружеских. Верочка – «по обыкновению грустная, небрежно одетая и интересная» – относится к числу тех женских натур (автор подчеркивает, что описывает «девушек»), «которые много мечтают и по целым дням читают лежа и лениво все, что попадается им под руки, которые скучают и грустят» (С. 71). Вполне возможно, что Верочка придумала себе какого-то «сочиненного» Огнева, а не того доброго малого, каковым он являлся на самом деле.
Во всяком случае, девушка произносит отчасти заимствованный из народнической литературы монолог: «Я не могу здесь оставаться! – сказала она, ломая руки. – Мне опостылели и дом, и этот лес, и воздух. Я не выношу постоянного покоя и бесцельной жизни, не выношу наших бесцветных и бледных людей, которые все похожи один на другого, как капли воды! Все они сердечны и добродушны, потому что сыты, не страдают, не борются… А я хочу именно в большие, сырые дома, где страдают, ожесточены трудом и нуждой…» (С. 78–79). Эту тираду Вера Гавриловна адресует Огневу, который несколько минут назад признался ей, что представить себе невозможно ничего лучше той жизни, что он видел (и, судя по его восторженному настроению, эмоционально принял) в уезде: «Не понимаю, зачем это умные и чувствующие люди теснятся в сто- лицах и не идут сюда? Разве на Невском и в больших сырых домах больше простора и правды, чем здесь?» (С. 75). Рассуждения Веры о бедных показались Огневу «приторными и несерьезными» и сразу нарушили испытываемую им гармонию с окружающим миром. В определенной степени героиня рассказа глуха к своему избраннику и слышит только себя и свое горе.
Огнев испытывает сначала смущение, потом испуг («Огнев в сильном смущении отвернулся от Веры <…> и вслед за смущением почувствовал испуг» (С. 77)), а затем какое-то гнетущее и неприязненное чувство (автор-повествователь определяет произошедшее с внутренним существом героя событие как «ошеломившую его катастрофу»). Верочка вторглась в его благодушное настроение любви к целому уезду. Героиня, как не странно, привнесла что-то ложное и натужное в его мироощущение: «Грусть, теплота и сентиментальное настроение <…> вдруг исчезли, уступив место резкому, неприятному чувству неловкости» (Там же). Он «решительно не знал, что ему говорить, а говорить было необходимо. Сказать прямо “я вас не люблю” ему было не под силу, а сказать “да” он не мог, потому что, как ни рылся, не находил в своей душе даже искорки…» (С. 78).
Огнев знал, что «лицо у него было глупо, виновато, плоско, что оно было напряжено и натянуто» (С. 79). Рассудочное самоубеждение в достоинствах Веры не трогает Огнева: «Ах, да нельзя же насильно полюбить! <…> Когда же я полюблю не насильно? Ведь мне уже под 30! Лучше Веры я никогда не встречал женщин и никогда не встречу… О, собачья старость! Старость в 30 лет!» (Там же). Хотя «у него болела совесть» и он «чувствовал, что с Верой ускользнула от него часть его молодости» (С. 80), и даже вернулся к темному дому и дважды его обошел, это не меняет основной ситуации рассказа: Огнев, которому Вера нравилась как существо «хорошее и поэтичное, чего именно не хватает у женщин неискренних, лишенных чувства красоты и холодных» (С. 72), равнодушен к ней в целом.
Таким образом, в персонажной схеме рассказа реализуется и «отрицательная» коммуникация, и разнонаправленная психологическая и биологическая энергия действующих лиц. Если в этюде «Полинька» пер- сонажи были заинтересованы друг в друге и действие напоминало пусть драматический, но флирт, то в рассказе «Верочка» происходит событие нелюбви. (Напомним, что в «Полиньке» событие как таковое отсутствует 7.) Раздвигается пространство и становится длительным время; постепенно, в течение нескольких часов, наступает туманная августовская ночь, «вечер настоящий романтический, с луной, с тишиной». Дорога от дома до леса, по которой идут персонажи, занимает полверсты; затем они возвращаются к усадьбе, и Огнев вновь совершает путь от дома Кузнецовых до леса и вновь возвращается, затем уходит в недальний городок, где собирает наконец вещи к отъезду. Эти передвижения занимают вечер и часть ночи, а пройденный Огневым путь измеряется верстами. Читатель вполне погружен в сопереживание длительности события.
Образ человека в рассказе «Верочка» совсем иной, чем в предыдущем анализируемом нами произведении. Биологическая детерминанта становится заметной в существовании (более или менее) сложной человеческой личности, психология персонажа – динамичной и неоднородной, ее процессуальность обнаруживается как во внутренней речи героя, так и в его точке зрения: «Весь мир, казалось, состоял только из черных силуэтов и бродивших белых теней, а Огнев, наблюдавший туман в лунный августовский вечер чуть ли не первый раз в жизни, думал, что он видит не природу, а декорацию, где неумелые пиротехники, желая осветить сад бенгальским огнем, <…> вместе со светом напустили в воздух и белого дыма» (С. 71) и т. п. Повторим: Огнев не испытывает влечения к Вере. Психобиологический фактор становится значимым в поэтике А. П. Чехова именно в 1886–1887 гг. и в позднейшем творчестве писателя входит в число его важнейших художественно-антропологических детерминант.
«Рассказ госпожи NN» был опубликован в «Петербургской газете» 25 декабря 1887 г. под заглавием «Зимние слезы (Из записок княжны NN)». Дата публикации отсылает к рождественскому тексту русской литературы, однако рассказ невозможно определить как рождественский. Требуемого жанром чуда и преображения героев не происходит – напротив, событийность в рассказе выстроена таким образом, чтобы доказать неизменность, рутинность существования человека, подверженного инерции «обыкновенного» порядка вещей.
Испытываемое героями воодушевление во время летней грозы, объяснение Петра Сергеича в любви, уверенность рассказчика – госпожи NN в счастливом будущем постепенно, по мере течения повседневной жизни, бесследно исчезают. Все «необыкновенное» одномоментно и случайно. Если бы не гроза, не буйство стихии, возможно, Петр Сергеич не решился бы признаться героине в любви – синергия природного и психобиологического начал укрепляет решимость персонажа. Героине наутро после грозы жизнь кажется «богатой, разнообразной, полной прелести» (С. 452). Впрочем, она испытывает восхищение от того, что «свободна, здорова, знатна, богата», что ее любят, «а главное, что <…> знатна и богата» (Там же). Все эти жизненные ценности в конце рассказа обратятся в ничто, а событие остывания любви займет девять лет (рассказ начинается предложением с обстоятельственной семантикой: «Лет девять назад, как-то раз перед вечером, во время сенокоса, я и Петр Сергеич, исправляющий должность судебного следователя, поехали верхом на станцию за письмами» (С. 450)).
Фиксируются стадии остывания чувства, превращения необыкновенного в привычное: «Меня любили, счастье было близко, <…> я жила припеваючи, не стараясь понять себя, не зная, чего я жду и чего хочу от жизни, а время шло и шло…»; «Умер отец, я постарела; все, что нравилось, ласкало, давало надежду <…> стало одним воспоминанием, и я вижу впереди ровную, пустынную даль <…>»; Петр Сергеич «немножко постарел, немножко осунулся», «давно уже перестал объясняться в любви», «чем-то болен, в чем-то разочарован, махнул на жизнь рукой и живет нехотя» (С. 452–453). Прекращение движения, отсутствие события, в первую очередь психологического, фор-мульно выражается в сюжетном маркёре: «А потом что было? А потом – ничего» (С. 452). Рассказ так и кончается – ничем. Княжна сожалеет о том, что «погибла жизнь», почти равнодушный к героине и совершенно безучастный ко всему остальному Петр Сергеич намеревается что-то сказать, но не говорит, а только «молча» качает головой и уходит: «Бог с ним!» (С. 454).
Время в рассказе распадается на одномоментное, «летнее», связанное с переживанием счастья, и постоянное, «зимнее» (основная повествуемая история происходит на протяжении многих зим, когда Петр Сергеич наезжает по делам в город). Так же контрастно и пространство: летнее, «усадебное», позволяющее сметать социальные границы, и зимнее, городское, связанное с «нормой»: «Деревенские знакомые очаровательны только в деревне и летом, в городе же и зимою они теряют половину своей прелести. <…> И в городе Петр Сергеич иногда говорил о любви, но выходило совсем не то, что в деревне» (С. 452).
В «Рассказе госпожи NN» ослабление и затем утрата чувства любви обусловлены течением жизни. Человек стремится к счастью, но неизменность жизненного порядка гасит его порывы, и надо всем властвует «стена» обстоятельств 8. В структуре образа человека эмоциональность уступает место рассудочности, событийность напоминает затухающие колебания, при которых энергия, в данном случае эмоциональная, гасится, не получая импульса извне.
Подводя итоги, мы можем отметить в чеховской поэтике 1887 г. укрупнение событийности, в частности, расширение пространственно-временных границ события 9, а в структуре характеров – переход от эмоциональности к переживанию экзистенциальной несостоятельности или нереали-зованности личности. В концепции человека наблюдается смена ролевого поведения (персонажи «Полиньки», Верочка Кузнецова) индивидуализирующим биопсихо-логическим процессом, выражающимся в мыслях, мимике, жестах и поступках персонажей (Огнев и оба героя в «Рассказе госпожи NN»). Возрастает сложность характера и побудительных мотивов действий героев, включая биофизиологические. Сюжет о «несчастной любви», позволяющий автору в «Полиньке» и «Верочке» балансировать на грани иронии, в последнем рассмотренном нами рассказе становится бытийно-пессимистическим. Поэтика писателя становится узнаваемо «чеховской», многомерной и многосмысленной.
Список литературы Эволюция чеховской поэтики в рассказах 1887 года о "несчастной любви": образ человека и тип событийности
- Ахметшин Р. Б. Современники о смерти А. П. Чехова. (Письма, дневники, пресса)//Чеховиана. Из века XX в век XXI.
- Итоги и ожидания. М.: Наука, 2007. С. 510-576.
- Бердников Г. П. А. П. Чехов. Идейные и творческие искания. М.: Худож. лит., 1984. 511 с.
- Громов М. П. Чехов. М.: Молодая гвардия, 1993. 394 с.
- Одесская М. М. Чехов и проблема идеала. М.: РГГУ, 2011. 496 с.
- Разумова Н. Е. Творчество А. П. Чехова в аспекте пространства. Томск: Том. гос. ун-т, 2001. 522 с.
- Степанов А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова. М.: Языки славянской культуры, 2005. 400 с.
- Тамарченко Н. Д. Литература как продукт деятельности: Теоретическая поэтика//Тамарченко Н. Д., Тюпа В. И., Бройтман С. Н. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика: В 2 т. М.: Академия, 2004. Т. 1. 512 с.
- Тюпа В. И. Художественность чеховского рассказа. М.: Высш. шк., 1989. 135 с.
- Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М.: Наука, 1971. 291 с.
- Шатин Ю. В. Русская литература в зеркале семиотики. М.: Языки славянской культуры, 2015. 344 с.