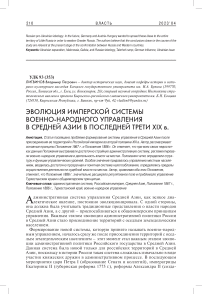Эволюция имперской системы «военно-народного» управления в Средней Азии в последней трети XIX в
Автор: Литвинов В.П.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме формирования системы управления в Средней Азии после присоединения ее территорий к Российской империи во второй половине XIX в. Автор рассматривает основные принципы Положения 1867 г. и Положения 1886 г. Он отмечает, что при всех своих недостатках данные Положения выстраивали достаточно стройную административную систему, регламентировали военно-народное управление и деятельность власти на местах. Положения четко определяли структуру и функции управленческих уровней. Особое значение придавалось управлению местным населением, вводилась достаточно прозрачная и понятная система налогообложения, определялись пределы осуществления деятельности судебной власти на местах. Автор, сравнивая оба этих Положения, отмечает, что Положение 1886 г. значительно расширяло регулятивное поле и приближало управление Туркестанским краем к общеимперским принципам.
Административная система, российская империя, средняя азия, положение 1867 г, положение 1886 г, туркестанский край, военно-народное управление
Короткий адрес: https://sciup.org/170199979
IDR: 170199979 | УДК: 93 | DOI: 10.31171/vlast.v31i4.9744
Текст научной статьи Эволюция имперской системы «военно-народного» управления в Средней Азии в последней трети XIX в
А дминистративная система управления Средней Азии, как всякое диалектическое явление, постоянно эволюционировала. С одной стороны, она должна была учитывать традиционные представления о власти народов Средней Азии, а с другой – приспосабливаться к общеимперским принципам управления. Важным этапом эволюции административной политики России в Средней Азии стало присоединение территорий с оседлым земледельческим населением.
Формирование новой системы, которую принято называть военно-народным управлением, началось сразу же после присоединения территорий с оседлым земледельческим населением – этот момент стал важным этапом эволюции административной политики Российского государства в Средней Азии. Данная система была новой только для российских территорий в Средней Азии, поскольку в истории России такая система сложилась изначально в виде участия княжеских дружин в административном процессе. В последующем мероприятия царя Петра I (образование Сената и коллегий), императрицы Екатерины II (губернская реформа 1775 г.), реформы Александра II (созда- ние военно-окружной системы) снизили роль военных в управлении государством, но не повсеместно. Например, в Кубанской и Терской областях Русского Кавказа военно-народное управление сохранялось вплоть до падения царизма.
В Средней Азии начало ему положил царский указ об образовании Туркестанской области, изданный 12 февраля 1865 г.1 Документ отмечал, что она входит в состав Оренбургского края (генерал-губернаторства) и указывал: «Военного Губернатора подчинить в военном отношении Командующему войсками Оренбургского края, а в гражданском – Оренбургскому Генерал-Губернатору»2. Летом того же года был принят новый правовой акт – «Временное положение об управлении Туркестанской областью», который развивал уже принятые ранее установления: в частности, ст. 4 документа определяла, что «местное заведование областью возлагается на Особого Военного Губернатора, которому подчиняется как военное, так и военно-народное управление оной»3. В статье 31 пояснялось, что военный губернатор имеет право «утверждать в должности и смещать с оных лиц из местного населения… киргизских родоправителей, биев, манапов, сартовских аксакалов, раисов и казиев»4.
Как видно из документа, военный губернатор области имел весьма широкие полномочия. Однако далеко не все так очевидно с так называемым военнонародным управлением, поскольку сам факт сосредоточения в одних руках гражданской и военной власти еще не означал ее безраздельной слитности. Каждый высший администратор Русского Туркестана (это касается и периода, когда область входила в состав Оренбургского генерал-губернатора, и позже, когда было образовано Туркестанское генерал-губернаторство/край), был един в двух лицах, при этом каждое из этих лиц имело свои четко определенные законом функции и полномочия. При этом необходимо пояснить, что определения «генерал-губернатор» и «военный губернатор» относились исключительно к гражданским функциям высшего управленца Туркестаном. Как гражданский управленец генерал-губернатор имел свою канцелярию, занимавшуюся исключительно гражданскими делами. Как высшее военное должностное лицо в Туркестане он именовался «командующим войсками Туркестанского военного округа»; текущими проблемами военного управления ведал Штаб войск Туркестанского военного округа. Кроме этого, при генерал-губернаторе для решения гражданских дел функционировал совещательный орган – Совет туркестанского генерал-губернатора. Для решения проблем военного управления при командующем Туркестанского военного округа действовал Военный совет ТуркВО.
Нельзя сказать, что мы первыми обратили внимание на соотношение гражданской и военной составляющих во властных полномочиях высшего должностного лица Туркестана. Однако, как правило, исследователи Средней Азии либо не касаются этой проблемы, либо не видят большой разницы между этими функциями, соединенными в одних руках. Надо отметить, что первым на эту проблему обратил свое внимание современный исследователь П.П. Литвинов [Литвинов 2007].
Кроме двух приведенных выше названий должностей, в правовых источниках встречается и еще одно – «главный начальник края». Что скрывается за этим весьма громким названием? Дело в том, что полное официальное название высшей должности в Русском Туркестане выглядело следующим образом: «главный начальник военно-народного управления в Туркестанском генерал-губернаторстве», оно также относилось к гражданскому управлению. Для того чтобы окончательно понять проблему объединения должностных военных и гражданских функций, укажем на тот факт, что за каждую из должностей высшее управляющее лицо края получало отдельную зарплату. П.П. Литвинов в приложении к своей монографии приводит документ, согласно которому за исполнение функций по гражданскому управлению краем управляющее краем лицо получало почти в 4 раза больше, чем за исполнение военных функций [Литвинов 2007: 508].
Определив тот факт, что совмещение военной и гражданской власти в руках туркестанского генерал-губернатора являлось частью административной системы военно-народного управления в Средней Азии, необходимо отметить, что это было только ее высшим выражением. Безусловно, основной частью этой системы была система местного самоуправления, которое было выборным. Однако пока завоеванные М.Г. Черняевым территории Средней Азии находились в составе отдельной области, т.е. в период с 1865 по 1867 г., на должности по самоуправлению «туземным» населением назначали по усмотрению военной администрации области. Таким образом, реальной системы военно-народного управления на этих территориях не было. Правда, в отдельных документах – нормативно-правовых актах правительства в этот период – уже встречаются формулировки, которые свидетельствуют, что правительство избрало систему военно-народного управления в качестве стержневой административной модели на среднеазиатских территориях.
Предполагая преобразование Туркестанской области в одноименное генерал-губернаторство (край), правительство образовало специальную Степную комиссию, возглавляемую сенатором Ф.К. Гирсом. В ее состав вошли видные знатоки Средней Азии, не исключая генерал-майора М.Г. Черняева, отставленного с должности военного губернатора Туркестанской области в марте 1866 г. за либерализм в отношении ислама и его духовенства. Труды Степной комиссии были направлены на создание реальной модели военно-народного управления, которая утверждала бы особую систему взаимоотношений военной администрации с «туземным» населением Средней Азии через избранных им же лиц. На изменение административной системы российское правительство сподвигла проведенная в начале 1850-х гг. ревизия казахских земель под руководством генерал-адъютанта Н.Н. Анненкова. Казахстанский исследователь Г.Т. Мусабалина отмечает, что «ревизия Анненкова Н.Н. выявила многочисленные нарушения в деятельности управления сибирской администрации – нерешенные дела, “ясачные недоимки”, злоупотребления чиновников, ликвидация которых была возложена на генерал-губернатора Западной Сибири Г.Х. Гасфорда (1851–1860)» [Мусабалина 2012: 52]. Следует особо отметить, что в своей «Записке» по итогам ревизии Н.Н. Анненков указывал на необходимость изменения подходов в колонизации территорий. Г.Т. Мусабалина пишет: «Значение ревизии Анненкова заключалось в том, что она заметно активизировала деятельность западносибирской администрации, которая выступила с очередной инициативой проведения административной реформы в крае [Мусабалина 2012: 52].
Деятельность комиссии была направлена на разработку нового законодательства, учитывавшего региональную специфику и стратегические планы России в регионе. В начале работы члены комиссии настаивали на необходимости со- здания единого управления всеми степными территориями, для чего должно быть создано генерал-губернаторство с центром в Туркестане, Чимкенте или Ташкенте на выбор. Однако позже Ф.К. Гирс писал: «В настоящее время, когда большинство казахов принадлежит России, соединение в одно управление напомнило бы им о их народной силе и могло бы возбудить мысль о самостоятельности» [Мусабалина 2012: 52]. Позиция Ф.К. Гирса стала преобладающей, поэтому был решено не объединять все казахские земли в составе общей административной единицы, подчиненной одному центральному ведомству. Члены Степной комиссии предложили два варианта. Согласно первому, предполагалось формирование нового степного генерал-губернаторства в составе земель сибирских и оренбургских казахов, а также территорий Уральского и Сибирского казачьих войск. Столицей нового генерал-губернаторства предлагалось сделать г. Омск. Существовал и второй вариант, в соответствии с которым предполагалось создать четыре области – Уральскую, Туркестанскую, Семипалатинскую и Оренбургскую (Оренбургское генерал-губернаторство).
В 1867 г. по инициативе военного министра Д.А. Милютина был создан Особый комитет, которой занимался разработкой положений проектов по управлению восточными окраинами. Милютин изложил свое в и дение административной реформы. Проект Милютина предполагал объединение территорий сибирских киргизов (казахов) и Семипалатинской области под началом губернатора Иртышской области. Данный проект был направлен в Степную комиссию. Часть наработок Особого комитета были приняты к сведению и использованы в процессе подготовки нового Положения 1868 г., которое предполагало деление Степного края на четыре области: Акмолинскую, Семипалатинскую, Тургайскую и Уральскую.
Отдельным образом обсуждалась административная реформа южных районов Средней Азии. Изначально оренбургский генерал-губернатор Н.Н. Крыжановский ратовал за подчинение этих территорий своей власти на тех же условиях, на которых ему ранее подчинялась Туркестанская область. Однако против этого выступило большинство членов Особого комитета. В частности, полковник Полторацкий указывал, что «существование Туркестанской области показало все неудобства подчинения ее Оренбургскому Генерал-Губернатору», поскольку Оренбург находится от Ташкента в 1 900 верстах и «каждая поездка Главного Начальника Края [Крыжановского. – В.Л.] обходится в 20–30 тысяч рублей серебром»1.
К апрелю 1867 г. императору Александру II был представлен «Всеподданнейший доклад об устройстве наших среднеазиатских областей». В докладе были отражены все точки зрения, однако большинство членов Комитета высказывались за образование отдельного Туркестанского генерал-губернаторства с центром в г. Ташкенте. Что касается основных принципов управления территориями, то в докладе отмечалось: «Ближайшее внутреннее управление туземным населением по всем делам, не имеющим характера политического, может быть предоставлена выборным из среды самого народа, применяясь к его нравам и обычаям»2. 11 апреля 1867 г. после ознакомления с докладом император надписал на нем: «По вопросам, возбудившим разногласие, утверждаю мнение большинства, на все прочее согласен»3. Только после утверждения этого документа началась выработка проекта «Положения об управлении в Семиреченской и Сырдарьинской областях».
Проект Положения 1867 г. предполагал введение административной модели военно-народного управления на российских территориях Средней Азии. Как правило, в отношении этого законопроекта в официальной и исследовательской литературе используется в названии определение «временный», что справедливо, поскольку данный законопроект так и не был принят в установленном законом порядке. Законопроект поступил в Комитет министров, который на заседании 4 июля 1867 г. указал: «Комитет находит, что проект этот, не согласованный с Министерствами финансов и юстиции, в настоящее время утвержден быть не может». Вместе с тем в «Журнале Комитета Министров» отмечалось, что, принимая во внимание заявление военного министра Д.А. Милютина о политическом и административном значении этого документа, правительство сочло возможным «испросить Высочайшее соизволение Его Императорского Величества на приведение ныне же в исполнение» положений проекта и ряда других мер по организации Туркестанского генерал-губернаторства. В тот же день, 4 июля 1967 г. император Александр II надписал на документе: «Исполнить»1.
Работа над новым проектом об управлении Туркестанским генерал-губернаторством была возложена на назначенную правительством краевую администрацию. 11 июля 1867 г. Александр II утвердил указ об образовании Туркестанского края2. Кроме того, он учредил одноименный военный округ3. Правовой акт предполагал образовать Туркестанский военный округ, придав генерал-губернатору звание командующего войск в округе, а военным губернаторам – звание командующих войсками в областях Семиреченской и Сырдарьинской4.
Таким образом, назначенный генерал-губернатором генерал-адъютант К.П. фон Кауфман становился одновременно и командующим войсками Туркестанского округа, а военные губернаторы областей края, согласно законам от 11 и 13 июля 1867 г., стали командующими войсками во вверенных им пределах. 13 июля 1867 г. также последовало высочайше утвержденное «Положение о военном управлении в областях Туркестанского Военного Округа»5. Данный документ определял основные принципы военно-народного управления, более конкретно об управлении в областях указывалось в «Особом положении». В итоге, российское правительство, отклонившее проект «Положения об управлении в Семиреченской и Сырдарьинской областях», вынуждено было просить императора разрешить его временное применение. Как известно, ничто не бывает в России более долгим, чем временное. Данное положение применялось вплоть до законодательно утвержденного в 1886 г. нового «Положения об управлении Туркестанским краем»6 и действовало без малого 20 лет.
На наш взгляд, проект Положения 1867 г. мог быть специально проваленным в правительстве, поскольку на территориях, недавно вошедших в состав Российского государства, оно еще не до конца понимало, как ему следует действовать по отношению к новым подданным. По этой причине власть остав- ляла назначенному генерал-губернатору и себе поле для маневра в тех или иных обстоятельствах. Поэтому и был избран вариант, при котором существовала некая законодательная «болванка», позволявшая правительству импровизировать в новых владениях. Очевидно по этой причине Александр II предоставил туркестанскому наместнику Кауфману так называемую золотую грамоту, дававшую ему практически неограниченные полномочия по управлению Туркестанским краем. Содержание «золотой грамоты» касалось во многом внешнеполитической деятельности генерал-губернатора, т.е. его общения с правителями сопредельных государств.
Система, сложившаяся в Туркестанском крае в 1860-х гг., для Российского государства была в те времена уже достаточно своеобразной. В большинстве административно-территориальных подразделений государства после создания военно-окружной системы гражданская власть отделилась от военной. Гражданская власть находилась в руках генерал-губернаторов, а военная – командующих военными округами. «Общее губернское учреждение» было изменено – вводился новый порядок взаимоотношений между гражданскими и военными властями территорий. Кроме Туркестанского края, объединение военной и гражданской власти в одних руках оставалось только на Кавказе и в Оренбургском генерал-губернаторстве (до 1881 г.).
Если говорить о принципах вводимой в Русском Туркестане административной системы – военно-народного управления, то можно выделить несколько важных аспектов этой проблемы. Во-первых, она предполагала сосредоточение в одних руках военной и гражданской власти, на что мы уже указывали выше. Во-вторых, указанная административная модель имела историческую связь с общеимперскими принципами управления, была соединена с общим губернским учреждением, встроена в регулирование всего государственного механизма. В-третьих, эта система предоставляла возможность осуществлять местное управление и самоуправление с учетом сложившихся у местного населения традиций. В-четвертых, вводимая система сохраняла сложившиеся среди коренного населения традиционные институты осуществления правосудия – суды казиев по мусульманскому праву (шариату) и суды биев – по обычному праву (адатам кочевников).
Таким образом, Положение 1867 г., при всех своих недостатках, выстраивало достаточно стройную административную систему, регламентировало военнонародное управление и деятельность власти на местах. Четко определялись структура и функции управленческих уровней. Большое значение придавалось управлению местным населением, вводилась достаточно прозрачная и понятная система налогообложения, определялись пределы осуществления деятельности судебной власти на местах.
Выше мы отметили, что проект Положения 1867 г. во временном своем статусе просуществовал вплоть до 1 января 1887 г., пока, наконец, в 1886 г. не было принято новое Туркестанское положение. Нельзя сказать, что правительство не пыталось разработать всеобъемлющий документ по управлению Туркестанским краем. Если рассматривать этот процесс в развитии, то становится ясным, что данной процесс носил перманентный характер. Было несколько проектов Туркестанского положения, которые обсуждались в правительстве. Так, при составлении проектов Положения в 1871 и 1873 гг. К.П. фон Кауфман пытался максимально расширить свои полномочия1.
Предполагалось учредить в крае органы отдельных министерств, однако подчинить их деятельность военному ведомству. Понятно, что данная идея не находила поддержки у профильных центральных министерств – например, резко против этой идеи выступили министерство финансов, иностранных дел, ну и, конечно, извечный соперник Военного министерства по управлению краем – Министерство внутренних дел. В 1880-х гг. начался новый раунд подготовки интерпретаций Туркестанского положения, в связи с чем в правительство в 1881 г. был направлен проект, разработанный специальной комиссией во главе с врио генерал-губернатора генерал-лейтенантом Г.А. Колпаковским (Кауфмана в марте того же года поразил инсульт, и он полностью отошел от дел). В правительстве документ не получил поддержки, но мысль о новом Туркестанском положении не покидала нового российского императора Александра III. Вновь назначенный туркестанский генерал-губернатор М.Г. Черняев убедил царя назначить правительственную ревизию края, которую возглавил упоминавшийся нами выше сенатор Ф.К. Гирс. Предполагалось, что собранные ревизией материалы должны лечь в основу нового «Положения об управлении Туркестанским краем». Наконец, 20 января 1884 г. последовало высочайшее повеление об образовании Особой комиссии, которая должна была заняться изучением результатов ревизии в Туркестанском крае и на основании изучения этих результатов выработать окончательный проект положения о его управлении. Комиссию возглавил известный российский бюрократ, недавний министр внутренних дел Н.П. Игнатьев, а членами комиссии стали представители различных министерств и ведомств. В работе комиссии принял также участие и только что назначенный туркестанский генерал-губернатор Н.О. Розенбах.
Комиссия Игнатьева, безусловно, учла положения предыдущих документов, однако при составлении проекта нового Туркестанского положения внесла в него серьезные дополнения. В частности, она планировала несколько изменить территориальный состав областей. Кроме того, предлагалось разъединить общекраевую палату уголовного и гражданского судов и создать подобные учреждения в каждой из двух областей. Еще одним важным отличием стало решение аграрного вопроса. Если проект Гирса предполагал передать используемую местным населением землю в частную собственность, то проект Игнатьева решал этот вопрос в пользу государства. Комиссия Игнатьева согласилась с основными положениями налоговой системы, разработанными Гирсом, однако настаивала на скорейшем ее введении без всякого переходного периода.
Новое «Положение об управлении Туркестанским краем», подготовленное комиссией Игнатьева, поступило для обсуждения в Государственный совет 29 марта 1885 г., после чего долго «шлифовалось» на его заседаниях. В итоге, 12 июня 1886 г. оно было высочайше утверждено и вступило в действие с 1 января 1887 г.
Важнейшим отличием нового Положения 1886 г. стало включение в административную систему, кроме упоминавшихся нами звеньев, еще и управления отдельными частями центральных ведомств. Таким образом, полномочия краевой и областных администраций расширялись. Еще одним нововведением стала проблема принадлежности чиновников к военному ведомству. Проект 1867 г. вообще не касался этой проблемы, но новое Туркестанское положение 1886 г. четко устанавливало, что все должности по управлению краем могут замещаться как военными, так гражданскими чинами. Исключение составляли только должности главного начальника края, военных губернаторов областей и начальника Амударьинского отдела, на которые могли назначаться только военные. Все чиновники управления Туркестанским краем обязаны были носить армейскую форму. Таким образом, регион полностью оставался в ведении военного министерства.
Что касается функций главного должностного лица края – генерал-губернатора, то они получили в Положении 1886 г. окончательное закрепление. По мнению Д.В. Васильева, сохранились «полномочия генерал-губернатора, фактически присвоенные им в процессе двадцатилетней деятельности» [Васильев 2018: 536]. От себя добавим, что первый генерал-губернатор Туркестанского края К.П. фон Кауфман был личностью неординарной во всех отношениях – прекрасный управленец, человек, который смог найти общий язык с местным населением и центральными властями. Еще дореволюционная историография уважительно называла Кауфмана «первоустроителем» края. Во многом широкие полномочия, которые зафиксированы в Положении 1886 г., были заслугой Кауфмана, его авторитета как управленца. Не менее важным нововведением указанного Положения стало учреждение совета генерал-губернатора, в который входили военные губернаторы областей, управляющие Контрольной и Казенной палатами, чиновник от министерства финансов, управитель канцелярии генерал-губернатора и начальник штаба военного округа. При обсуждении профильных вопросов на заседание Совета привлекались председатели областных судов и прокуроры при них, главный инспектор училищ и др. Исследователь Д.В. Васильев полагает, что «появление туркестанского совета не следует рассматривать в ракурсе обособления государственной окраины. Истинная причина нововведения кроется в несовершенстве туркестанской административной системы, в невозможности в короткий срок без социальных потрясений инкорпорировать край в состав единой империи и придать среднеазиатской окраине ординарный губернский характер» [Васильев 2018: 537]. Новое положение также оговаривало, что в отсутствие туркестанского генерал-губернатора временным высшим должностным лицом в крае становился военный губернатор Сырдарьинской области.
В Положении 1886 г., в отличие от своего аналога 1867 г., отдельно прописывались должностные обязанности управляющего канцелярией генерал-губернатора. Управление финансовое, контрольное, учебное, а также почтово-телеграфное осуществлялось на основании общеимперских законов. Новое Положение значительно расширяло медицинскую часть, подчиненную Главному военно-медицинскому управлению. Все медицинские услуги оказывались в соответствии с общеимперскими санитарно-гигиеническими установлениями и законами. Впервые отдельно было прописано заведование лесной частью и государственными имуществами.
Таким образом, можно констатировать, что Положение 1886 г. значительно расширяло регулятивное поле, с одной стороны, а с другой – пыталось приблизить систему управления Туркестанским краем к общеимперским принципам. Все это было отражением как сложившихся условий на местах, так и эволюции имперской системы власти. При этом очевидно, что царское правительство все время запаздывало с введением новых мер, что стало причиной целого ряда восстаний и разного рода волнений в Средней Азии в конце ХIХ – начале ХХ в.
Список литературы Эволюция имперской системы «военно-народного» управления в Средней Азии в последней трети XIX в
- Васильев Д.В. 2018. Бремя империи. Административная политика России в Центральной Азии. Вторая половина XIX в. М.: Политическая энциклопедия. 638 с.
- Литвинов П.П. 2007. Органы департамента полиции МВД в системе "военно-административного" управления Русским Туркестаном (по архивным, правовым и иным источникам). Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина. 539 с.
- Мусабалина Г.Т. 2012. Колонизационные проекты и практики Российской империи в Казахстане во второй половине XIX в.: региональный аспект. - История и краеведение Западной Сибири: проблемы и перспективы изучения: материалы 4-й региональной научно-практической конференции с международным участием. Ишим, 07-08 ноября 2012 г. Ишим: Изд-во Тюменского государственного университета. C. 51-58.