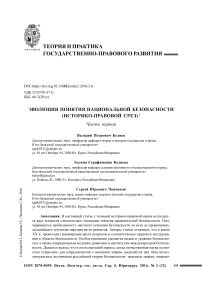Эволюция понятия национальной безопасности (историко-правовой срез). Часть первая
Автор: Беляев Валерий Петрович, Беляева Галина Серафимовна, Чапчиков Сергей Юрьевич
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Теория и практика государственно-правового развития
Статья в выпуске: 3 (32), 2016 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье с позиций историко-правовой науки исследуется круг вопросов относительно эволюции понятия национальной безопасности. Подчеркивается необходимость научного освоения безопасности во всех ее проявлениях, дальнейшего изучения перспектив ее развития. Авторы статьи отмечают, что в конце XX в. происходит расширение круга вопросов и соответственно предмета исследования в области безопасности. Особое внимание уделяется видам и уровням безопасности, а также операционным моделям, режимам и институтам международной безопасности. Делается вывод, что в постсоветский период, когда отечественная наука полностью открылась для сотрудничества с внешним миром, выделяется три типа интеллектуальных источников российской теории безопасности: западные теории, опирающиеся на традиционные парадигмы реализма, либерализма и глобализма; российские немарксистские теории; реформированный марксизм, близкий к европейской социал-демократии.
Национальная безопасность, государство, личность, общество, национальные интересы, официальные документы
Короткий адрес: https://sciup.org/14973338
IDR: 14973338 | УДК: 327(470+571) | DOI: 10.15688/jvolsu5.2016.3.6
Текст научной статьи Эволюция понятия национальной безопасности (историко-правовой срез). Часть первая
DOI:
Предваряя ретроспективный анализ заявленной темы, следует сразу заметить, что проблема правового регулирования национальной безопасности в настоящее время представляется для России одной из ключевых, являясь, по сути, как условием, так и целью проведения реформирования во всех сферах государственной и общественной жизни, что в конечном итоге должно быть подчинено обеспечению и всестороннему укреплению суверенитета России, сохранению ее территориальной целостности и обеспечению национальных интересов.
В то же время надо сказать, что в общей теории права пока отсутствует единое представление как о правовой природе и сущности национальной безопасности, ее содержательных характеристиках, так и механизме ее правового регулирования. В отличие от западной науки, где изучение проблем безопасности является самостоятельным разделом теории международных отношений (security studies) и даже преподается в качестве отдельной учебной дисциплины, в России эта сфера научного знания пока находится в стадии становления и до конца не определилась со своим предметом и спецификой по сравнению с другими смежными отраслями политической науки (конфликтология, изучение проблем войны и мира и пр.) 2.
Как представляется, нерешенность указанной проблемы создает существенные пробелы и противоречия в действующем российском законодательстве и правоприменительной практике, что, в свою очередь, предопределяет тенденцию к нарастанию угроз безопасности России. В этой связи значительный интерес представляет проведение комплексного исследования становления и развития национальной безопасности в Российском государстве, исторического отечественного опыта, который позволит дать оценку перспективам развития и дальнейшего совершенствования правового обеспечения национальной безопасности в России.
Подчеркнем, что безопасность (во всех ее проявлениях – государственная, национальная, экономическая, экологическая, информационная, демографическая и т. д.) является одной из важнейших категорий современной науки и практики. Являясь доминантой жизнедеятельности общества, безопасность не может оставаться неизменной в различных условиях его трансформации, поэтому ее содержание нуждается в постоянном уточнении.
В Древнем мире понимание безопасности человеком не выходило за рамки обыденного представления и трактовалось им как отсутствие для него опасности или зла; в таком значении термин «безопасность» употреблялся, например, древнегреческими философами: Платоном в его философско-правовых рассуждениях о структуре и целях идеального государства (диалог «Государство»); Аристотелем, который главную угрозу социальной устойчивости видел в неправильном государственном устройстве [33].
В Cредние века, согласно словарю Робера, под безопасностью понимали «спокойное состояние духа человека, считавшего себя защищенным от любой опасности» (цит. по: [4]). Однако в этом значении данный термин не вошел прочно в лексику народов Европы и до XVII в. использовался редко.
Широкое распространение понятие «безопасность» приобретает благодаря философским концепциям Т. Гоббса, Д. Локка, Ж.Ж. Руссо, Б. Спинозы, Г.В.Ф. Гегеля и других мыслителей XVII–XVIII вв., в трудах которых безопасность рассматривается как состояние спокойствия, появляющееся в результате отсутствия реальной опасности (как физической, так и моральной). Конечно, несколько преждевременно говорить о формировании полноценного понимания национальной безопасности в тот период, однако в последующих научных исследованиях были актуализированы идеи названных выше мыслителей о взаимосвязи безопасности общества и личности, о роли государства в их обеспечении и о пределах его компетенции, о взаимоотношении государства и общества в данной сфере.
Так, согласно высказыванию Т. Гоббса «могущество... есть благо, ибо это средство обеспечения безопасной жизни, а на безопасности покоится наш душевный мир» [6]. Локк, напротив, допускает противопоставление «безопасности народа и безопасности государства» [17].
В политико-правовых разработках Иммануила Канта четко просматривается необходимость выделения внутренней и внешней безопасности государства и гражданского общества, взаимозависимость национальной безопасности каждого государства с безопасностью международного сообщества, учение о всеобщем мире как единственно надежной основе безопасности [13].
Гегель рассматривал государство как «обладающую самосознанием нравственную субстанцию». Разрушение общественной нравственности, по его мнению, через подрыв основ семьи, моральную деградацию личности, утерю религиозного чувства и т. п. ведет к распаду духовных основ, обеспечивающих устойчивость государства как перед внешними угрозами, так и перед внутренними противоречиями [5].
В Российской империи термин «национальная безопасность» долгое время вообще не употреблялся, понятие «безопасность» стало полноценным объектом теоретической и практической политологии и юриспруденции только во второй половине XIX в., хотя уже в начале данного столетия в своем Плане государственного преобразования М. Сперанский отмечал, что общим предметом для всего правового регулирования является учреждение общей безопасности лиц и имущества. «Безопасность лица и имущества, – по его словам, – первое и неотъемлемое достояние всякого человека, входящего в общество» [32].
Данное положение корреспондирует точке зрения одного из первых отечественных теоретиков права А.П. Куницына, по мнению которого основной целью объединения людей в общество служит их безопасность и необходимость защиты собственности. Своим соглашением члены общества передают верховной власти лишь часть своих прав (право обес- печивать безопасность, право наказывать нарушителей и др.). Поэтому власть не должна быть безграничной и не распространяться на те права, которые люди сохранили за собой и не отдали в общее распоряжение ни по договору соединения, ни по договору подданства. Формы правления по А.П. Куницыну могут быть различными, но лучшая та, которая предоставляет государству и его подданным большую безопасность; для России это конституционная монархия, которая способна дать всем гражданам справедливые законы и в лучшей степени обеспечить безопасность граждан и государства [15].
Б.Н. Чичериным государство определяется как осуществление нравственной идеи, а его внутренняя цель как высшее сочетание свободы с разумным порядком, служение идеалу общего блага, охрана свободы и прав личности и собственности. Политическим идеалом Чичерина выступало централизованное государство, призванное всеми средствами сдерживать противоборствующие стороны и частные силы при господстве «правды распределяющей» и тем самым обеспечивать устойчивость, стабильность социальной сферы и безопасность государства [37].
А. Градовский, автор «Начал русского государственного права», также считал, что отсутствие безопасности вызывает гибель государства [8].
В свою очередь П.И. Новгородцев, последователь гегелевского идеала государства, выдвинул идею правового государства, объединяющего «все классовые, групповые и личные интересы в целях общей жизни», «сочетая частные интересы единством общего блага», обеспечивая этим путем безопасность нации [20]. Далее в труде «Кризис современного правосознания» ученый анализирует диалектику стабильности государства и нравственно-правовых ориентаций личности. Он подчеркивает, что кризис правосознания неизбежно оборачивается кризисом государства и наоборот [21].
Социально-философские концепции Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, С.Л. Франка второй половины XIX в. также внесли значительный вклад в развитие понимания суверенных прав личности, необходимых условий защиты ее внутреннего мира перед угрозами тотального контроля [3; 34] как условиями безопасности личности.
Таким образом, на основе анализа соотношения общества и государства (при приоритете государственного начала как стержневой идее русской истории) русскими философами и правоведами XIX в. была сконструирована своеобразная модель процесса становления и эволюции социальных структур, их значимости в процессе организации государственного управления, обеспечения безопасности общества и государства, что впоследствии привело к созданию специальной отрасли социологического знания – социологии права.
В энциклопедических источниках Российской империи понятие «безопасность» толковалось как «состояние, при котором не угрожает опасность» [30]; «защита от опасности; отсутствие всякой опасности; сохранность, надежность» [10].
Что же касается официальных документов того времени, то в них речь шла в основном об «охранении общественной безопасности», под которой понималась деятельность, направленная на борьбу с государственными преступлениями. Так, в Положении о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия от 14 августа 1881 г. категории «государственная безопасность» и «общественная безопасность» употребляются как синонимичные [26]. Таким образом, обеспечение безопасности граждан признавалось предметом регулирования полицейского права, то есть относилось к предупреждению опасности от внутренних угроз.
В Советской России «безопасность» фактически отождествлялась с государственной безопасностью, ее официальное понятие было введено в нашей стране в 1934 г. при образовании в составе НКВД Главного управления государственной безопасности, которому были переданы функции ОГПУ при ликвидации последнего. При этом следует отметить, что термин «государственная безопасность» в известной мере отражал официальную точку зрения военно-политического руководства страны о приоритете интересов государства диктатуры пролетариата перед интересами общества в целом и интересами личности («общество для государства»).
В 1936 г. термин «государственная безопасность» был официально включен в текст Конституции СССР (п. «и» ст. 14 гл. 2) и начал употребляться в официальных актах органов Советского государства и в советской юридической литературе.
Заметим, что с момента официального закрепления на протяжении длительного времени термин «государственная безопасность» в нашей стране использовался без каких-либо разъяснений его значения, и только в 50-е гг. прошлого столетия в юридической литературе появились попытки анализа указанной проблемы.
В рамках советского периода в самом общем виде можно выделить три этапа развития теории безопасности – «ортодоксальный», «модернизированный» и «этап нового политического мышления».
В период господства ортодоксального марксизма-ленинизма (до середины 1970-х гг.) отечественные теории безопасности практически отсутствовали. В то же время рассматриваемая проблема являлась объектом познания некоторых разделов научного коммунизма и исторического материализма [1].
На втором этапе развития теории безопасности в советский период (середина 1970-х до середины 1980-х гг.) в работах советских ученых появляются частично заимствованные из западной философии и политологии теории и методологические подходы, в частности, системный подход и связанный с ним структурнофункциональный анализ (в марксистской интерпретации); теория международных режимов, взаимозависимости, баланса сил, геополитики и другие [25; 27; 29].
Данный этап характеризуется становлением советской теории международных отношений, в рамках которой и возникает теория безопасности [14; 28; 31]. Особую популярность и в некотором роде самостоятельную направленность приобретает тема разоружения [11; 18; 19].
Третий этап, именуемый «новое политическое мышление», существенно модернизировал советские теории безопасности и практически избавился от классового подхода к интерпретации безопасности. В основу методологии исследования были положены заимствованные на Западе либеральные, соци- ал-демократические и глобалистские теории, в частности, экономическая, политическая и культурная взаимозависимость мира, бессмысленность дальнейшей гонки вооружений, необходимость прекращения конфронтации между двумя общественно-политическими системами, а также разоружения и конверсии, приоритетность общечеловеческих интересов и настоятельная необходимость сотрудничества по решению глобальных проблем [7; 9].
Как результат, советская юридическая наука сформировала определенный фундамент для дальнейшего научного освоения категории «безопасность» и таких ее проявлений, как «государственная безопасность», «международная безопасность», «общественная безопасность» и т. д.
Вместе с тем в «советском наследии» имели место и такие составляющие, которые были лишь «ограниченно годными» для использования в постсоветской России, и вот почему.
Во-первых, это идеологизированный (классовый) подход к анализу проблематики безопасности, неприменимый в новых демократических условиях развития Российского государства.
Во-вторых, неиспользование (игнорирование) советской наукой категории «национальная безопасность». Понятия «национальные интересы», «национальная безопасность» были для советских ученых «буржуазными измышлениями», изобретенными «апологетами» политического реализма для обоснования агрессивной империалистической политики Запада. В тех же случаях, когда речь шла об интересах СССР или других стран социализма, советские исследователи предпочитали использовать государствоцентричные термины – «безопасность СССР», «государственная безопасность», оставляя в стороне такие важнейшие компоненты национальной безопасности, как безопасность общества и личности. Даже новое политическое мышление, претендовавшее на выход за рамки классового подхода, не смогло преодолеть этот недостаток традиционного марксизма, в результате чего российским ученым и политикам пришлось осваивать категорию «национальной безопасности» фактически «с нуля» и в острых дискуссиях решать, каким конк- ретным содержанием наполнить это достаточно абстрактное понятие.
В-третьих, советские концепции безопасности отличались не только «идеологизированным» характером, но и были выстроены «для нужд» периода конфронтации между двумя общественными системами, эпохи «холодной войны». В новых условиях, когда изменилось само понятие международной безопасности, геополитическая ситуация в мире, поменялись внешнеполитические приоритеты России и система ее военно-политических союзов, старые концепции просто перестали соответствовать современным реалиям.
В 1990-е гг. продолжается расширение круга вопросов и соответственно предмета исследований в области безопасности. Особое внимание уделяется видам и уровням безопасности, а также операционным моделям, режимам и институтам международной безопасности. Ряд работ посвящен российской проблематике – национальным интересам и национальной безопасности РФ, роли России в системе международной безопасности и отдельных режимах безопасности (региональных и функциональных) [16; 22; 35; 36].
В постсоветский период, когда отечественная наука полностью открылась для сотрудничества с внешним миром, можно выделить три типа интеллектуальных источников российских теорий безопасности:
-
а) западные теории, опирающиеся на традиционные парадигмы реализма, либерализма и глобализма, а также их антипод – постпозитивизм. Учитывая характер проблем, стоящих перед Россией, наибольшей популярностью пользовались реализм и геополитика;
-
б) российские немарксистские теории (евразийство, идеи Н. Данилевского, славянофильство, взгляды русской религиозной философской школы конца XIX – начала XX в. и пр.);
-
в) реформированный марксизм, близкий к европейской социал-демократии.
Список литературы Эволюция понятия национальной безопасности (историко-правовой срез). Часть первая
- Арбатов, Г. А. Идеологическая борьба в современных международных отношениях/Г. А. Арбатов. -М.: Политиздат, 1970. -349 с.
- Аристотель. Политика/Аристотель//Соч. В 4 т. Т. 4/Аристотель. -М.: Мысль, 1984. -С. 375-644.
- Бердяев, Н. А. Судьба России/Н. А. Бердяев//Родина. -1989. -№ 2. -С. 62-66.
- Вечканов, Г. С. Концептуальные аспекты экономической безопасности России/Г. С. Вечканов//Социальные технологии и современное общество. -СПб.: СПбГИЭУ, 2003. -С. 86-89.
- Гегель, Г. В. Ф. Философия права/Г. В. Ф. Гегель//Энциклопедия философских наук. В 3 т. Т. 3. -М.: Мысль, 1977.
- Гоббс, Т. Основ философии часть вторая. О человеке/Т. Гоббс//Соч. В 2 т. Т. 1/Т. Гоббс. -М.: Мысль, 1990. -С. 219-269.
- Горбачев, М. С. Перестройка для нашей страны и всего мира/М. С. Горбачев. -М.: Политиздат, 1987. -271 с.
- Градовский, А. Национальный вопрос в истории и литературе/А. Градовский//Собр. соч. В 9 т. Т. 6/А. Градовский. -СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1901. -С. 225-263.
- Громыко, А. А. Новое мышление в ядерный век/А. А. Громыко, В. Б. Ломейко. -М.: Междунар. отношения, 1984. -292 с.
- Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т./В. И. Даль. -3-е изд. -СПб.; М.: Товарищество М.О. Вольфа, 1903.
- Иванченко, Н. С. Природоохранительный аспект международно-правовой проблемы разоружения/Н. С. Иванченко. -Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. -135 с.
- Ильин, И. А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948-1954 годов/И. А. Ильин. -М.: Рарог, 1992. -616 с.
- Кант, И. К вечному миру/И. Кант//Соч. В 6 т. Т. 6/И. Кант. -М.: Мысль, 1966. -С. 257-311.
- Кукулка, Ю. Проблемы теории международных отношений/Ю. Кукулка. -М.: Прогресс, 1980. -319 с.
- Куницын, А. П. Право естественное/А. П. Куницын. -Спб.: Тип. Иос. Иоаннесова, 1818. -Ч. 1. -135 с.
- Лазутин, Л. А. Меры укрепления доверия как институт права международной безопасности: автореф. дис.. канд. юрид. наук/Лазутин Лев Александрович. -Л., 1990. -19 с.
- Локк, Д. Два трактата о правлении/Д. Локк//Соч. В 3 т. Т. 3/Д. Локк. -М.: Мысль, 1988. -С. 137-405.
- Милитаризм и разоружение: справочник. -М.: Политиздат, 1984. -350 с.
- Мир и разоружение. Научные исследования: материалы II Всесоюз. конф. ученых по проблемам мира и предотвращения ядер. войны (Москва, 27-29 мая 1986 г.)/гл. ред. П. Н. Федосеев. -М.: Наука, 1986. -216 с.
- Новгородцев, П. И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве/П. И. Новгородцев. -М.: Университ. тип., 1901. -248 с.
- Новгородцев, П. И. Кризис современного правосознания/П. И. Новгородцев. -М.: , 1908. -393 с.
- Обеспечение безопасности населения и территории (организационно-правовые вопросы)/отв. ред. О. Л. Дубовик, Н. Г. Жаворонкова. -М.: Изд-во ИГиП РАН, 1994. -149 с.
- Петровский, В. Ф. Разоружение: концепция, проблемы, механизм/В. Ф. Петровский. -М.: Политиздат, 1982. -335 с.
- Платон. Государство/Платон//Собр. соч. В 4 т. Т. 3/Платон. -М.: Мысль, 1994. -С. 79-420.
- Поздняков, Э. А. Системный подход и международные отношения/Э. А. Поздняков. -М.: Наука, 1976. -159 с.
- Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. -Спб.: Гос. тип., 1885. -Т. I, № 350.
- Процесс формирования и осуществления внешней политики капиталистических стран/под ред. В. И. Гантмана. -М.: Наука, 1981. -487 с.
- Санакоев, Ш. П. О теории внешней политики социализма/Ш. П. Санакоев, Н. И. Капченко. -М.: Междунар. отношения, 1977. -296 с.
- Система, структура и процесс развития современных международных отношений/под ред. В. И. Гантмана. -М.: Наука, 1984. -422 с.
- Словарь церковно-славянского и русского языка: в 4 т. -Спб.: Тип. Императ. Акад. наук, 1847.
- Современные буржуазные теории международных отношений: критический анализ/под ред. В. И. Гантмана. -М.: Наука, 1976. -486 с.
- Сперанский, М. План государственного преобразования графа М. М. Сперанского (Введение к Уложению государственных законов 1809 г.)/М. Сперанский. -М.: Типо-лит. товарищества И.Н. Кушнерев и К. Пимен., 1905. -359 с.
- Фарамазян, Р. Разоружение и экономика/Р. Фарамазян. -М.: Прогресс, 1981. -172 с.
- Франк, С. Л. Непостижимое/С. Л. Франк//Соч./С. Л. Франк. -М.: Правда, 1990. -С. 183-560.
- Хусейн, Х. М. Роль ООН в обеспечении гуманитарной безопасности (международно-правовой аспект): автореф. дис.. канд. юрид. наук/Хусейн Аль-Хусейн Мохамед. -М., 1993. -23 с.
- Циварев, Л. Е. Международно-правовые аспекты обеспечения безопасности Индии в Южной Азии: автореф. дис.. канд. юрид. наук/Циварев Леонид Евгеньевич. -М., 1994. -16 с.
- Чичерин, Б. Н. Курс государственной науки. В 3 ч. Ч. 2. Социология/Б. Н. Чичерин. -М.: Тип. товарищества И.Н. Кушнерев и Ко, 1896. -437 с.