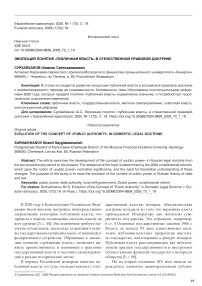Эволюция понятия «публичная власть» в отечественной правовой доктрине
Автор: Сурхайханов Ш.С.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Исторический опыт
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется развитие концепции публичной власти в российской правовой доктрине с дореволюционного периода до современности. Актуальность темы обусловлена конституционными реформами 2020 года, которые придали понятию «публичная власть» нормативное значение, и потребностью теоретического осмысления изменений.
Публичная власть, государственная власть, местное самоуправление, советская власть, конституционная реформа
Короткий адрес: https://sciup.org/140310545
IDR: 140310545 | УДК: 342.5 | DOI: 10.52068/2304-9839_2025_72_1_19
Текст научной статьи Эволюция понятия «публичная власть» в отечественной правовой доктрине
В 2020 году в Конституцию Российской Федерации были внесены поправки, непосредственно закрепившие категорию публичной власти, что привело к новому пониманию системы власти на всех уровнях [3, с. 44]. Эти изменения требуют научного осмысления, поскольку затрагивают основы государственно-муниципальных отношений и федеративного устройства. Обращение к эволюции понятия «публичная власть» позволяет выявить преемственность и изменения в трактовке государственной власти и местного самоуправления в разные исторические эпохи.
В период Российской империи понятие публичной власти, по сути, отождествлялось с госу- дарственной властью монарха. Абсолютистская доктрина исходила из того, что верховная власть принадлежит Императору как носителю суверенитета государства. Это отражено, например, в ст. 4 Основных государственных законов 1906 г. Вплоть до начала XX века единственным носителем публично-властных прерогатив выступало государство, воплощенное в фигуре монарха. Публичная власть рассматривалась как неотъемлемый признак государственности и инструмент осуществления функций государства в интересах общества [5, с. 89].
Но во второй половине XIX века начали зарождаться элементы децентрализации публич-
ной власти. Великие реформы 1860-х годов учредили выборные органы местного самоуправления (земства). Земства получили ограниченные полномочия по ведению местных хозяйственных и социально-общественных дел, что означало появление на местном уровне особой публичной власти. Хотя земские учреждения действовали под надзором царской администрации и не обладали суверенитетом, их создание можно расценивать как первый шаг к дифференциации публичной власти на уровни. Отечественные правоведы конца XIX – начала XX века постепенно пришли к осмыслению необходимости распределения власти: появились проекты конституционных преобразований, созван первый представительный орган – Государственная дума (1906), началось оформление системы разделения властей. Однако в целом дореволюционная правовая доктрина не вырабатывала самостоятельного понятия «публичная власть» – этот термин почти не употреблялся, поскольку публичная власть полностью сливалась с понятием государственной (царской) власти.
Коренной перелом в понимании публичной власти произошел после Октябрьской революции 1917 года. Прежние институты монархической власти были упразднены, и утвердилась концепция советской власти – власти Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Советская государственность провозгласила принцип «Вся власть – Советам», означавший, что публичная (государственная) власть принадлежит трудовому народу, организованному в Советы. Марксистско-ленинская теория объясняла государственную (публичную) власть как политическую власть господствующего класса, которая в социалистическом государстве должна выражать волю рабочего класса и крестьянства. Предполагалось, что по мере построения бесклассового коммунистического общества публичная государственная власть утратит политический характер.
Советская правовая доктрина, следуя марксистским идеям, фактически отождествляла публичную власть с государственной властью Советского государства. Конституция РСФСР 1918 г. и последующие советские конституции (1924, 1936, 1977 гг.) закрепляли, что вся власть в стране принадлежит народу, который осуществляет её через Советы народных депутатов на всех уровнях. Тем самым была выстроена единая система органов власти – от сельских и городских Советов до Верховного Совета Союза ССР, соединённых принципом демократического централизма. Демократический централизм предполагал, с одной стороны, выборность нижестоящих Советов наро- дом, а с другой – подчинение нижестоящих органов вышестоящим решениям. По сути, данный принцип обеспечивал строго иерархичное, централизованное осуществление публичной власти.
Следует отметить, что в официальной терминологии СССР термин «публичная власть» почти не фигурировал, однако по своему содержанию советская государственная власть охватывала то, что в современной теории именуется публичной властью. Принцип демократического централизма, закреплённый, например, в ст. 3 Конституции СССР 1936 г. (в форме единства системы Советов), во многом предвосхищает современный принцип единства системы публичной власти. Как отмечает И.В. Иванов, организационный принцип осуществления советской власти – демократический централизм – по своей правовой природе близок к провозглашённому ныне принципу единства системы публичной власти [3, с. 43–44].
Советская концепция публичной власти трансформировала дореволюционное понимание – от личной власти монарха к безличной власти народа, реализуемой через Советское государство, но сохраняла монолитность: власть народа была едина и неделима, воплощена в единой системе Советов. С распадом СССР и формированием Российской Федерации в начале 1990-х гг. возникла необходимость переосмысления природы публичной власти. Конституция РФ 1993 года заложила новые принципы организации власти, в том числе принцип разделения властей и принцип самостоятельности местного самоуправления (ст. 12 Конституции РФ). Впервые в отечественной практике была институционально разделена государственная власть и власть на местном уровне. Это ознаменовало отход от советской модели единой государственной власти. Одновременно Конституция (ст. 3) провозгласила народ единственным источником власти в Российской Федерации, подчёркивая, что и государственная, и муниципальная власть основываются на народном суверенитете.
В постсоветский период понятие «публичная власть» постепенно возвращается в научный оборот и получает разнообразные толкования. Интерес к публичной власти как государственноправовому институту проявился относительно недавно – с начала 2000-х годов – по мере развития конституционной практики и осмысления роли местного самоуправления [1, с. 94]. Отечественные исследователи выдвинули ряд подходов к определению содержания и структуры публичной власти. Наиболее распространённой стала точка зрения, согласно которой публичная власть – более широкое понятие, чем государственная власть: она включает в себя всю власть, осуществляемую от имени общества, в том числе власть государства и власть органов местного самоуправления.
Согласно коллективистско-волевой концепции, разработанной В.Е. Чиркиным, публичная власть возникает в территориальных сообществах как особый вид социальной власти, источником которой выступает народ [1, с. 100]. В рамках этой концепции были выделены различные уровни (формы) публичной власти народа: суверенная государственная власть и несколько несуверенных уровней публичной власти – субъекты федерации, автономии, муниципальные образования и т. д. [1, с. 101]. Так, В.Е. Чиркин предложил классификацию пяти форм публичной власти: 1) суверенная власть государства; 2) государственноподобная публичная власть субъекта федерации; 3) автономная публичная власть в автономных образованиях; 4) муниципальная власть местного сообщества; 5) иные территориальные формы публичной власти (например, власть коренных малочисленных народов) [1, с. 102]. Данная модель отражает многоуровневую природу публичной власти в современном государстве и исходит из единства источника власти (народа) при разнообразии ее носителей.
Альтернативный акцент делает С.А. Авакьян, который фокусирует внимание на носителях (субъектах) публичной власти. Российский народ, согласно Конституции, является верховным носителем власти, формируя ее органы на разных уровнях [1, с. 123–125]. Соответственно, система публичной власти современной России складывается из институтов государственной власти (президент, парламент, правительство, суды и др. на федеральном и региональном уровнях) и институтов местного самоуправления (население муниципалитетов и избираемые ими органы); по мнению профессора, все эти органы, действующие на разных уровнях, призваны реализовывать власть от имени единого носителя – многонационального народа РФ и поэтому обладают публично-правовым характером [1, с. 139–140].
В доктрине долгое время обсуждался вопрос о соотношении государственной и муниципальной власти. Традиционно отечественная конституционно-правовая наука поддерживала идею единства системы публичной власти, несмотря на организационную обособленность местного самоуправления [2, с. 251]. В то же время признавалось, что организационное отделение местного самоуправления (по ст. 12 Конституции) требует особого баланса: единая природа публичной вла- сти должна сочетаться с самостоятельностью и ответственностью местного уровня [2, с. 260]. Конституционный Суд РФ в своих решениях также указывал на необходимость согласования принципа единства публичной власти с положениями о самостоятельности муниципальной власти. В Постановлении КС РФ от 1 декабря 2015 г. № 30-П отмечалось, что отделение органов местного самоуправления не опровергает единой природы публичной власти, исходящей от народа, и не препятствует взаимодействию различных ее уровней во имя интересов населения.
На рубеже 2010-х годов, по мере накопления практического опыта, в научной среде оформился консенсус о желательности более четкого конституционного закрепления понятия публичной власти и единства ее системы. Это было обусловлено стремлением повысить эффективность государственного управления и преодолеть разрывы между государственными и муниципальными органами. Ученые указывали, что отсутствие в Конституции прямого упоминания единой системы публичной власти породило теоретическое противопоставление государственной и муниципальной властей [4, с. 122]. В частности, указывалось на целесообразность конституционного признания единства публичной власти при сохранении организационной самостоятельности местного самоуправления [4, с. 123]. Эти идеи в итоге получили отражение в конституционной реформе 2020 года.
Поправки к Конституции РФ, одобренные в 2020 г., нормативно закрепили понятие публичной власти и принцип единства ее системы. Одновременно усилена координирующая роль главы государства: Президент РФ теперь официально обеспечивает согласованное функционирование органов, входящих в единую систему публичной власти (ч. 2 ст. 80 Конституции РФ) Эти изменения законодательно оформили теоретические положения, выработанные доктриной. Как отмечается в литературе, конституционное признание единой системы публичной власти устранило давнее противоречие между сущностным единством публичной власти и организационным дуализмом государства и местного самоуправления [6. с. 5]. Вместе с тем оно ставит новую задачу – выработать оптимальный механизм реализации данного принципа, не нарушая гарантии самостоятельности местного самоуправления. Таким образом, современная доктрина публичной власти в России характеризуется стремлением объединить в единую концепцию разные уровни власти (государственный и муниципальный), определяя их как элементы целостной публично-властной системы, основанной на народном суверенитете и конституционных принципах.
Развитие представлений о публичной власти в России происходило в постоянном взаимодействии с зарубежной политико-правовой мыслью. Еще в эпоху Империи российские государствове-ды заимствовали отдельные теоретические конструкции из работ западноевропейских авторов. Так, теория суверенитета Ж. Бодена (XVI в.), утвердившая идею верховной государственной власти как неотъемлемого атрибута государства, оказала влияние на формирование самодержавной концепции власти в России. Впоследствии идеи Ш. Монтескье о разделении властей (XVIII в.) и народном представительстве стимулировали либеральные круги Российской империи к переосмыслению природы верховной власти. Первые проекты конституционных реформ в России в начале XX века опирались на западные конституционные модели, предполагающие ограничение монаршей власти парламентом. Таким образом, уже дореволюционная эволюция понятия государственной (публичной) власти отчасти происходила под влиянием зарубежных концепций верховной публичной власти и конституционализма.
В советский период официальная идеология отвергала «буржуазные» теории разделения властей, однако международный опыт государств, тем не менее, изучался. Марксистско-ленинское учение о государстве базировалось на критическом осмыслении зарубежной (европейской) государственно-правовой теории, включая работы К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, которые сами были частью европейской политико-философской традиции. Например, знаменитое положение К. Маркса о том, что при уничтожении классов «публичная власть утратит свой политический характер», являлось интернациональным теоретическим вкладом в понимание перспектив эволюции государства. В то же время в практическом плане советская модель власти повлияла на ряд других стран социалистического лагеря, установив в них схожие принципы организации публичной власти (единство государственной власти, ведущая роль партии, совмещенные функции местных органов и т. д.). Этот обратный экспорт идей из советской системы показывает, что развитие концепции публичной власти имеет наднациональный характер, выходящий за рамки одной страны.
После 1991 года российская правовая наука и государственное строительство испытали значи- 22
тельное влияние западных демократических моделей, особенно в части разграничения уровней публичной власти и обеспечения местного самоуправления. Вступление России в Совет Европы и ратификация Европейской хартии местного самоуправления подтвердили приверженность страны принципам автономии местных властей. Реализация положений Хартии в российском законодательстве упрочила в отечественной доктрине понимание местного самоуправления как самостоятельного уровня публичной власти, действующего в интересах населения на принципах субсидиарности, но в рамках единого правового пространства государства. Таким образом, европейские концепции децентрализации и субсидиарности оказали прямое воздействие на развитие отечественного института публичной власти, особенно в части разграничения государственной и муниципальной власти.
Зарубежные конституционные модели послужили эмпирическим материалом для российской доктрины при обсуждении вопросов организации публичной власти. Сравнительно-правовые исследования отмечают, что в федеративных государствах (например, Германия, США) и унитарных децентрализованных странах (например, Франция, Испания) сложились свои варианты распределения публичной власти между центром и территориями. Так, в Федеративной Республике Германия существует концепция «öffentliche-Gewalt», охватывающая всю власть публичноправовых образований – федерации, земель и коммун – при конституционном разграничении их компетенций. Во Франции традиционное понятие puissancepublique (публичной власти) связано с деятельностью государства по обеспечению общего блага; исторически pouvoirspublics означали совокупность государственных органов Республики.
Кроме того, зарубежный опыт показал значимость институциональных противовесов в системе публичной власти. Американская концепция checksandbalances, изложенная, в частности, в «Федералистских письмах» А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея, ориентирована на разделение государственной (публичной) власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви для недопущения её узурпации. Эта идея лежит в основе конституционных систем большинства демократических стран и была воспринята Россией в 1993 году при формировании собственной модели разделения властей.
Взаимное влияние идей наблюдается и в обратном направлении: современная российская концепция единой системы публичной власти привлекает зарубежных исследователей, сравнивающих её с моделями интегрированной публичной власти в других странах. Например, принцип единства публичной власти, закрепленный в Конституции РФ, имеет созвучие с принципами китайской государственной системы, где все органы власти формируют единую вертикаль, подотчетную Всекитайскому собранию народных представителей. Хотя исторические и политические контексты различны, сравнительное правоведение отмечает общую тенденцию ренессанса интеграционных моделей власти в ряде государств.
В целом, развитие отечественной концепции публичной власти нельзя рассматривать в отрыве от мировых идей. Российская правовая доктрина творчески восприняла многие зарубежные концепции – от идей народного суверенитета и разделения властей до принципов автономии местной власти и субсидиарности. Одновременно российский исторический опыт (самодержавие, советская власть) обогатил общую теорию государства примерами крайних форм централизации и децентрализации публичной власти. Современная теория публичной власти в РФ продолжает развиваться во взаимодействии с зарубежными аналогами, что позволяет учитывать как успешные практики, так и риски чрезмерной централизации или фрагментации власти.
В настоящее время понятие «публичная власть» прошло сложный путь эволюции в отечественной правовой доктрине. В дореволюционный период оно фактически не отделялось от государственной власти монарха, отражая монолитность и неразделенность власти в условиях самодержавия. Советский период трансформировал содержание публичной власти: она понималась как власть трудового народа, реализуемая через систему Советов, однако сохраняла единый централизованный характер – публичная власть отождествлялась с государственной властью социалистического государства. В постсоветской России возникло новое осмысление публичной власти, учитывающее многоуровневую организацию власти в демократическом правовом государстве.
Принятие поправок 2020 года и включение публичной власти в конституционный лексикон закрепили итог многолетних теоретических дискуссий, утвердив принцип единства системы публичной власти. Это решение отражает стремление обеспечить согласованность действий всех уровней власти в интересах населения, устранить разрыв между государственными и муниципальными институтами.
Основные выводы исследования свидетельствуют о преемственности и цикличности в развитии концепции: современная Россия, по сути, стремится соединить преимущества прежних моделей – единое пространство власти (как в советской модели) и демократическую децентрализацию (как в модели 1993 года). В перспективе дальнейшего развития концепции «публичная власть» ключевой задачей станет оптимальное соотношение централизации и децентрализации. Закрепив единство публичной власти, важно не допустить чрезмерной концентрации полномочий на верхнем уровне и ослабления органов местной власти. Предстоит совершенствование законодательства, регулирующего организацию публичной власти в субъектах федерации и муниципалитетах, развитие механизмов взаимодействия между различными звеньями власти.
Влияние зарубежных идей на отечественную доктрину будет сохраняться, обеспечивая сравнительно-правовую перспективу для оценки российских реформ. Таким образом, эволюция понятия публичной власти продолжается, отражая динамику государственного развития России. Закрепление этого понятия на конституционном уровне служит прочной основой для дальнейшего научного анализа и практического совершенствования системы публичной власти в интересах народа – носителя суверенитета Российской Федерации.