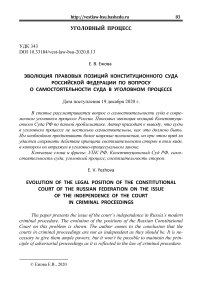Эволюция правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации по вопросу о самостоятельности суда в уголовном процессе
Автор: Ежова Елена Владимировна
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Уголовный процесс
Статья в выпуске: 4 (8), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о самостоятельности суда в современном уголовном процессе России. Показана эволюция позиций Конституционного Суда РФ по данной проблематике. Автор приходит к выводу, что суды в уголовном процессе не настолько самостоятельны, как это должно быть. Им необходимо предоставить более широкие полномочия, но при этом вряд ли удастся сохранить действие принципа состязательности сторон в том виде, в котором он отражен в уголовно-процессуальном законе.
Упк рф, конституционный суд рф, самостоятельность суда, уголовный процесс, состязательность сторон
Короткий адрес: https://sciup.org/142232167
IDR: 142232167 | УДК: 343
Текст научной статьи Эволюция правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации по вопросу о самостоятельности суда в уголовном процессе
Вопрос о самостоятельности суда в уголовном процессе остается одним из самых обсуждаемых в научной литературе. Потребности современного общества и постоянное реформирование стадий уголовного процесса ставят перед судом все новые задачи, а уголовно‐процессуальный закон наделяет его все новыми полномочиями. Очень часто изменения в УПК РФ вносятся именно после вынесения решений Конституционным Судом РФ, который, следуя за динамично развивающимися общественными отношениями, изме‐ нил свое отношение и к рассматриваемому нами вопросу.
Первоначально Конституционный Суд РФ оставлял за судом ровно столько самостоятельности, сколько укладывалось в классическую модель принципа состязательности сторон, который предполагает, что уголовное пре‐ следование возлагается на предусмотренные законом специальные органы и должностные лица, а также на потерпевшего, к ведению же суда относится «проверка и оценка правильности и обоснованности сделанных ими выводов по существу обвинения». При этом суд должен реализовывать свои функции объективно и беспристрастно (определение от 6 марта 2003 г. № 104‐О). Дан‐ ная правовая позиция неоднократно подтверждалась и развивалась Конститу‐ ционным Судом РФ в целом ряде решений, из нее закономерно вытекали, на‐ пример, следующие выводы:
-
1) пределы судебного разбирательства (ст. 252 УПК РФ) определяют его границы и предполагают обязанность суда проводить разбирательство только по предъявленному обвинению. Отсюда следовал запрет на ухудше‐ ние положения обвиняемого в судебном заседании суда первой и после‐ дующих инстанций (определения от 21 декабря 2006 г. № 561‐О, от 23 сен‐ тября 2010 г. № 1217‐О‐О, от 24 февраля 2011 г. № 145‐О‐О);
-
2) возвращение дела прокурору для устранения существенных нару‐ шений уголовно‐процессуального закона допускалось только когда не воз‐ никало необходимости устранить неполноту проведенного предварительно‐ го следствия либо дознания (постановление от 8 декабря 2003 г. № 18‐П).
Данными решениями активность суда в уголовном процессе ограничи‐ валась. Хотя традиционно российский законодатель никогда не отводил суду роль пассивного арбитра, наделяя его правом самостоятельно проводить следственные и иные процессуальные действия, направленные на собира‐ ние и проверку имеющихся в деле доказательств, поскольку именно судье предстоит вынести окончательное решение по уголовному делу (определе‐ ния от 6 марта 2003 г. № 104‐О, от 20 ноября 2003 г. № 451‐О).
Однако выработанная с годами практика рассмотрения и разрешения уголовных дел показала, что существующих у суда полномочий не всегда достаточно, чтобы эффективно восстанавливать нарушенные права участников как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. Поэтому постановлением от 2 июля 2013 г. № 16-П Конституционным Судом РФ был изменен подход к определению самостоятельности суда в уголовном процессе. В качестве основных идей данного постановления можно выделить следующие:
-
1) признание лица виновным в совершении преступления - исключительная компетенция суда, поэтому он вправе самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли оценивать представленные материалы дела, не вторгаясь в функцию обвинения, и выбирать подлежащую применению норму права;
-
2) однозначное следование инициативе участников уголовного процесса и зависимость судьи от их позиции по делу является недопустимым ограничением самостоятельности суда как носителя публичной власти;
-
3) вынесение решения, направленного на исправление допущенных органами предварительного расследования нарушений уголовного или уго‐ ловно-процессуального закона или ошибок, которые могут затрагивать интересы как обвиняемых, так и потерпевших, не считается принятием на себя судом не свойственной ему функции обвинения.
Исходя из этих основных идей, Конституционный Суд РФ сформулировал новую, переломную, на наш взгляд, для современного уголовного процесса России правовую позицию, согласно которой суд вправе самостоятельно и независимо от кого бы то ни было выбирать норму уголовного закона, подлежащую применению по делу, если им будет установлено, что органы предварительного расследования в итоговых документах следствия либо дознания неверно квалифицировали деяние и в действиях лица усматрива‐ ются признаки совершения более тяжкого преступления, либо в случае, когда данный факт будет установлен судом самостоятельно в ходе проведения раз‐ бирательства (постановление от 2 июля 2013 г. № 16-П). В этом случае дело подлежит возвращению прокурору.
Таким образом, Конституционный Суд РФ определил границы самостоятельности суда первой инстанции, которая только в условной степени теперь зависит от выраженного в обвинительном заключении (постановлении, акте) обвинения в совершении лицом преступления.
С дальнейшим реформированием стадии апелляционного пересмотра судебных решений возник вопрос о том, насколько суд зависим от позиций сторон, выраженных в апелляционной жалобе (представлении), и о его праве самостоятельно решить вопрос об ухудшении положения лица при вынесе‐ нии решения. Ведь основной посыл, который был дан в постановлении Кон- ституционного Суда РФ от 2 июля 2013 г. № 16-П, заключается в том, что суд, выносящий решение по делу и берущий на себя ответственность за его пра‐ восудность, не должен зависеть от требований сторон в уголовном процессе.
Свою позицию по данному вопросу Конституционный Суд РФ выразил в определении от 14 января 2016 г. № 15-О, в котором пришел к следующему выводу: суд апелляционной инстанции вправе по собственной инициативе вернуть уголовное дело прокурору при наличии в деянии лица признаков бо‐ лее тяжкого преступления, но только при сочетании следующих двух условий: наличие апелляционной жалобы потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и (или) представителей или представления прокурора, а также содержащаяся в них просьба об ухудшении положения обвиняемого, не обязательно связанная с оценкой фактических обстоятельств дела.
Однако остается открытым вопрос о том, как поступить суду в случае подачи жалобы иным лицом, не имеющим права требовать ухудшения положения лица, и обнаружения им во время судебного заседания признаков более тяжкого преступления. Очевидно, что в такой ситуации суд вряд ли уполномочен привести решение в соответствие с требованиями законности, обоснованности и справедливости.
Нужно отметить, что в какой-то мере и Верховный Суд РФ подтвердил свободу судов вышестоящей инстанции от позиции сторон (правда, только при наличии таких нарушений законности, которые влекут улучшение положения лица), когда в п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 19 предоставил суду кассационной инстанции право не удовлетворять ходатайство об отзыве жалобы или представления, поступивших уже после назначения судебного заседания (в порядке сплошной кассации) либо принятия судьей решения об их передаче с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании (в порядке выборочной кассации).
Таким образом, вопрос о самостоятельности суда в уголовном процессе остается открытым, поскольку все чаще судьи сталкиваются с ситуациями, когда им не хватает предоставленных законодателем полномочий по проверке материалов уголовного дела или же полномочий по устранению уже выяв‐ ленных нарушений или ошибок со стороны органов, осуществляющих уголовное преследование, или нижестоящих судов. А это, на наш взгляд, требует пересмотра отношения к принципу состязательности сторон, поскольку на данный момент этот принцип предполагает невмешательство суда в деятель‐ ность стороны обвинения и защиты. Однако, исходя из сегодняшних реалий, нельзя не отметить, что суд так или иначе осуществляет и ту и другую функцию. Например, когда по собственной инициативе улучшает положение обвиняемого, осужденного или лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, или когда возвращает дело прокурору при наличии признаков более тяжкого преступления в деянии лица, чем то, которое ему было предъявлено органами предварительного расследования. Хоть в этом случае суд сам не может ухудшить положение лица, он предоставляет возможность стороне обвинения исправить свою ошибку.
Поэтому, на наш взгляд, нужно признать, что если основная задача суда, по мнению законодателя и Конституционного Суда РФ, вынести законное, обоснованное и справедливое решение по уголовному делу, то ему должны быть предоставлены все необходимые полномочия по устранению выявлен‐ ных нарушений, независимо от позиции сторон по делу. Но пытаться при этом еще и сохранить действие принципа состязательности сторон в том виде, в котором он отражен в уголовно-процессуальном законе, на наш взгляд, не совсем верно.