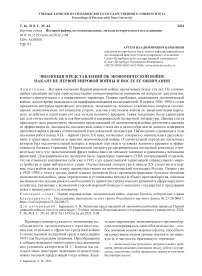Эволюция представлений об экономической войне накануне Первой мировой войны и после ее окончания
Автор: Барынкин А.В.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Историография, источниковедение и методы исторического исследования
Статья в выпуске: 8 т.46, 2024 года.
Бесплатный доступ
История изучения Первой мировой войны насчитывает более ста лет. По сложившейся традиции авторы преимущественно концентрировали внимание на вопросах дипломатии, военно-стратегического и оперативного характера. Однако проблемы, касающиеся экономической войны, долгое время находились на периферии внимания исследователей. В период 1920-1930-х годов предметом интереса правоведов, историков, экономистов, военных становились вопросы соотношения экономических потенциалов сторон, усилия участников войны по реорганизации народного хозяйства и адаптации его под нужды военного времени. Такая тенденция была характерна как для отечественной, так и для британской и американской экспертной литературы. Данная статья преследует цель рассмотреть эволюцию представлений об экономической войне, различия в оценках ее эффективности, законности, последствий, самого понятия и целесообразности данного измерения противостояния в рамках отечественной и англоязычной литературы. Наблюдения, сделанные в ходе изучения работ конца XIX первой трети XX века, позволяют говорить о значительных расхождениях в трактовках понятия и практик экономической войны. Отличительной чертой англоязычных авторов был исключительный интерес к морской торговле в условиях военного времени и эффективности блокады Германии. В британской литературе сформировался негласный консенсус относительно того, что экономический фронт войны имел не меньшее значение в сравнении с военными фронтами. Для американских экспертов было характерно оценивать США пострадавшей стороной, что не отменяло восприятия себя уже в 1915 году единственной защитницей справедливого мироустройства и прав нейтральных стран. Отечественная литература в начале XX столетия и в первые годы войны делала ставку преимущественно на экономический потенциал России. Однако уже в 1920-1930-е годы в трудах новой плеяды экспертов было продемонстрировано большое значение экономической войны, даны определения и установлены методы и объект противоборства, описаны вызванные последним риски и необходимость принятия стратегических решений в сфере народного хозяйства, связанные с возможной угрозой морской блокады Советского государства в преддверии нового неминуемого столкновения.
Первая мировая война, экономическая война, морская блокада, нейтральные страны
Короткий адрес: https://sciup.org/147244803
IDR: 147244803 | УДК: 93 | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.1108
Текст научной статьи Эволюция представлений об экономической войне накануне Первой мировой войны и после ее окончания
Примеры концептуального понимания необходимости экономического противостояния как отдельного «фронта» грядущей войны в отечественной экспертной среде в преддверии 1914 года были редким явлением. При обращении к «общим выводам» многотомного исследования под условным авторством И. С. Блиоха мы находим лишь некоторые замечания относительно новых вызовов предстоящей тогда войны. Каса тельно перспектив экономического противоборства подчеркивалось одно обстоятельство – особое значение военно-морского флота, способного на качественно новом уровне повлиять на мировую и, в частности, британскую торговлю:
«…нескольких быстроходных неприятельских крейсеров, принадлежащих воюющим между собою государствам, достаточно, чтобы прекратить морскую торговлю Великобритании»1.
Отстаиваемый тезис о неуязвимости империи, способной в отличие от западных стран несколько лет вести оборонительную войну2, удивительным образом с точки зрения сегодняшнего дня закрепился в экспертной литературе3, правительственных кругах4 и подходах отдельных европейских дипломатов [3: 40].
Качественно новое по своему свойству и объему неминуемое противостояние на море и следующий за этим ущерб, полагаем, подтолкнули генерала А. А. Гулевича выявить «сильную» сторону российского народного хозяйства формата конца XIX века. По убеждению военного теоретика, «чем промышленно ра́ звитие и культурнее жизнь государства, тем, можно полагать, бо́ льшая грозит опасность его жизненному орга-низму»5.
Причины запоздалого становления представлений о всеобъемлющем военно-экономическом противостоянии можно обосновать рядом факторов. Для военно-политического руководства стран – участниц войны аксиоматичным было понимание скоротечности боевых действий, уверенность в том, что война не продлится долго [4: 240–241], [5: 118]. Развитие военно-экономической мысли в направлении заранее концептуально оформленного в стратегическую доктрину противостояния сковывалось самой убежденностью в хозяйственном и ресурсном превосходстве над Германией и ее союзниками. Так, в 1915 году М. И. Туган-Барановский отстаивал мысль о том, что Россия в отличие от Германии может «вести войну годами»6. Специфической чертой можно назвать также некоторое пренебрежение аналитической работой со стороны высшей власти – лично царя. Так, например, определенное понимание (касательно военной стратегии) дает сюжет, описанный в книге В. В. Гребеника. Николай II, реагируя на экспертную дискуссию о военной доктрине накануне 1914 года, заявил начальнику военной академии: «…военная доктрина состоит в том, чтобы исполнять всё то, что я прикажу» [1]. Подобные заключения в своем фундаментальном труде по истории отечественной военно-экономической мысли приводит А. А. Клейман. Опираясь на труды царских генералов, военных теоретиков (в том числе А. А. Гулевича, Н. П. Михневича, А. А. Незнамова, А. Г. Елчанинова и др.), он показал широкий спектр воззрений (вызванных к жизни, в частности, изменениями в технологическом сопровождении войны) на необходимые хозяйственные мероприятия накануне предстоящего конфликта. По его утверждению, «рекомендации русских военных теоретиков не смогли коренным образом повлиять на политику правительства, что и подтвердили уже первые месяцы мировой воины»7.
Развитие представлений об экономической войне несло на себе отпечаток прежнего исторического опыта отдельных стран; оно определялось привязанностью к национальным географическим особенностям, традициям ведения войны и стремлению (либо же отсутствию такового) следовать нормам международного права того времени.
Дискуссия по вопросу экономической войны в отечественной и англоязычной экспертной среде развернулась с новой силой после окончания Первой мировой войны. На выбор объекта исследования все также оказывали влияние фактор национального опыта отдельных стран и степень их вовлеченности, как тогда писали, в «хозяйственную» войну8. Обращает на себя внимание факт, что в послевоенной литературе не было единого понимания и даже универсальной дефиниции экономической войны. Возможно предположить, что не было его и в годы Первой мировой войны по причине того, что само рассматриваемое явление (в плане масштаба и уникального значения в противостоянии в первую очередь по линии Великобритания – Германия9) набирало вес с ходом боевых действий. Тому способствовало постепенное осознание провальных расчетов на быстрый разгром противника и принятие идеи о том, что боеспособность армии в условиях затяжной мировой войны зависела от общего состояния экономики страны, принимаемых противником мер по экономическому удушению10.
Наиболее основательно роль России в экономическом противоборстве с Центральными державами была описана в эмиграции российским юристом-международником Б. Э. Нольде. Одним из первых он дал определение экономической войны в контексте международного права того времени – это система мер
«военного времени, которые государство принимает и применяет напрямую или через соответствующих лиц в пределах своей юрисдикции против сферы экономических интересов граждан противника»11.
Он отмечал, что у России не было никакой ясной стратегии экономического противоборства, а причину медлительности ее становления определял тем, что экономическая война не имела корней в традиционной политике русского правительства12. Детально рассматривая опыт войн с участием России в XVIII и XIX веках, Б. Э. Нольде пришел к принципиальному выводу о стремлении российских правящих кругов следовать правилам, которые закладывались еще во время войны с Турцией 1768–1774 годов Екатериной II, враждебно относящейся к любому вмешательству в свободу частной морской торговли, особенно когда оно было направлено против российского торгового флота, в котором она была глубоко заинтересована и который считала своим детищем. С учетом редких исключений данный принцип сохранялся в политике России в течение всего периода после наполеоновских войн13.
В России война понималась как борьба между вооруженными силами, а не как попытка нанести ущерб экономическим интересам граждан про-тивника14. Б. Э. Нольде подчеркивал, что в условиях начавшейся войны с Центральными державами «российское правительство продолжало считать экономическую войну противоречащей закону, а также нецелесообразной»15.
Разительно отличный подход демонстрирует англо-саксонская литература. Обращают на себя внимание оценки, имеющие отношение к экономической войне: «экономика вынужденного варварства»16; «история международного без-закония»17; «британское и германское беззако-ние»18. Любопытно при этом отметить, насколько отличались определения экономической войны в трактовках британцев и американцев до официального вступления США в войну. Последние, ощутив на себе весь спектр последствий британско-немецкого противостояния на море, характеризовали данное явление как нарушение торговли между враждовавшими блоками и нейтральными странами с целью оказать на вражескую страну «давление», «достаточное для прекращения войны»19.
Другими словами, в случае США вся суть противоборства сводилась к его последствиям для нейтральной торговли. Считая США единственной великой державой, сохраняющей нейтральный статус, Э. Клэпп уже в 1915 году определил некоторые контуры справедливого мироустройства, в котором его родина представала на тот момент времени единственной силой, «которая способна отстаивать права на мир во всем мире »20, что же касается нейтрального мира, то он « ждет, когда мы осознаем и заявим о его правах и наших (выделено мною. – А. Б. )»21.
В основе британского подхода к определению экономической войны, ее значения, целей лежали совершенно другие принципы. Пожалуй, наиболее красноречивым их выразителем стал министр иностранных дел Э. Грей, который обосновывал запрещение ввоза в Германию продуктов питания стиранием разницы между немецкими гражданскими лицами и военными22. Тяжелейшая для Берлина блокада объяснялась грубым неоднократным нарушением Германией «самых элементарных принципов законов наций и общей человечности» как на полях сражений, так и на море в отношении торгового флота23. В британской литературе сложился негласный консенсус относительно того, что экономический фронт войны имел не меньшее значение в сравнении с военными фронтами24, что в совокупности еще и обогатило британскую стратегию будущей войны25. Авторами отмечалась эффективность военно-морской стратегии и своевременная реакция на вызовы времени со стороны британского правительства26, а также деятельность «дипломатов и государственных служащих, которые возвели огромный экономический барьер и сделали его непреодолимым»27. При этом считалось, что роль России в экономическом противостоянии блоков довольно быстро была сведена к минимуму по причине ее «полуизолированного» положения, несовершенной транспортной системы, слабости границ, что в конечном итоге привело к минимальному доступу к трудовым и экономическим ресурсам России28.
Темы экономической войны и усилий военно-политического руководства царской России не были обойдены стороной в ранней советской историографии. Сами исследователи отмечали сложность в определении явления экономической войны, объясняя этот факт тем, что «в понятие и термин экономической войны вкладывается различными авторами самое разнообразное содержание»29. Наиболее точным в определении рассматриваемого феномена был Е. Святловский, понимающий под экономической войной меры, «которые имеют целью путем экономических средств парализовать военную мощь противника, или путем военных или экономических средств нанести удар по экономике про-тивника»30. В отличие от всех рассмотренных в данной статье исследователей именно Е. Свят-ловскому принадлежит уникальное понимание объекта экономической войны. В отличие от российских / советских и зарубежных коллег под таковым он понимал не объекты инфраструктуры, промышленного производства, торговые связи и т. д., а в первую очередь «само население»31.
С. С. Варшавер, М. Нахимсон и Я. А. Иоффе отмечали, что наступающей стороной и инициатором этого вида противостояния была Велико-британия32, действия которой в отношении России оценивались критически, так как Лондон набирал вес для экономического противоборства, предпочитая в то же время «сражаться до последнего русского солдата»33.
Особо востребованной оказалась новейшая история экономической блокады Германии. Усилия британцев по «экономическому удушению» неприятеля оценивались высоко34. П. В. Гельмерсен убеждал, что «не поражения на суше или на море, а следствия голодной блокады поставили германский народ на колени перед его победителями»35. Практическую значимость такого рода исследований обнажили П. В. Гельмерсен и Я. А. Иоффе не в последнюю очередь в контексте несовершенства и откровенной слабости механизмов международного права в сфере морской торговли в годы Первой мировой войны. Последнее было связано с тем, что Советская Россия испытала на себе все тяготы блокады со стороны Антанты, что обязывало пристально изучать как методы «голодной блокады» в отношении континентальной державы, так и методы противодействия ей36, поскольку, как утверждал Я. А. Иоффе, опыт мировой войны проиллюстрировал, с какой легкостью нарушалось тогда международное право37.
Невысокой оценки удостоились действия царского военного и политического руководства в вопросе институционализации усилий в процессе экономического противостояния. Отмечалась, например, несвоевременность создания специального органа, на который можно было бы возложить сбор «различными ведомствами сведений об экономической жизни наших противников» («Бюро экономической войны») [2: 342–343]. Такие планы появились только в самом начале 1917 года и являлись, предположительно, частной инициативой, в конечном итоге не получившей должной поддержки из-за критического отношения к проекту со стороны военного министра в апреле 1917 года [2: 344].
В трудах М. Нахимсона38 и Я. А. Иоффе39 в общих чертах описывались действия царского правительства в отношении международной торговли, иностранных подданных и их активов на территории России. Последние меры не подвергались глубокому изучению, что могло произойти вследствие малой вероятности повто- рения ситуации, при которой в новых социально-экономических реалиях СССР иностранные собственники предприятий обеспечивали бы тысячи рабочих мест для советских граждан, в том числе в стратегических секторах экономики. Исследователей интересовали преимущественно те аспекты, знание которых позволило бы дать универсальные рекомендации военно-политическому руководству в свете приближения неминуемой войны на западе. Такие «рецепты» были озвучены в фундаментальном труде С. Н. Прокоповича уже в 1918 году, и сводились они преимущественно к необходимости всестороннего «развитии ее производительных сил» при отрицании прежней ставки на такую форму экономики, при которой «и войне разорять нечего»40.
В авторском тезисе была очевидна неприязнь к концепциям А. А. Гулевича и И. С. Блиоха. В данном отношении молодая экспертная литература Советской России разрывала любые связи с предвоенными рассуждениями о «великости» России, бывшей «сильной в своей слабости», выразителем чего (помимо С. Н. Прокоповича) стал П. Шаров. Предвидя высокую вероятность блокады СССР (в том числе частичной)41, он отстаивал тезис о необходимости обеспечения независимости от иностранных рынков и иностранного сырья42, а также декларировал высочайшую задачу построения хозяйства «индустриального аграрного типа», которому не будет угрожать блокада43. Сознавая феномен экономической войны, пройдя опыт блокады странами Антанты, высоко оценивая эффективность мер, принятых Британией против Германии, уже в 1920-е годы был сделан неминуемый и заслуживающий внимания вывод о необходимости построения самодостаточной хозяйственной системы, способной во время испытания войной закрывать потребности фронта и тыла.
Список литературы Эволюция представлений об экономической войне накануне Первой мировой войны и после ее окончания
- Гребеник В. В., Бушуев С. А., Кривцов О. Ф. Новая парадигма экономической и военной безопасности России. Онтологические и методологические основы формирования. М.: Международная акад. оценки и консалтинга, 2012. 383 с.
- Звонарев К. К. Агентурная разведка. Русская агентурная разведка всех видов до и во время войны 1914-1918 гг. Германская агентурная разведка до и во время войны 1914-1918 гг. Киев: Издательский дом "Княгиня Ольга", 2005. 696 с.
- Муравьева Л. А. Экономика и финансы России в период Первой мировой войны (1914-1918) // Финансы и кредит. 2002. № 6 (96). С. 39-48.
- Новикова И. Н. "Между молотом и наковальней": Швеция в германо-российском противостоянии на Балтике в годы Первой мировой войны. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2006. 448 с.
- Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы, политический кризис /Отв. ред. Ю. А. Петров. М.: Политическая энциклопедия, 2014. 982 с.