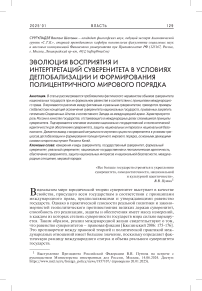Эволюция восприятия и интерпретаций суверенитета в условиях деглобализации и формирования полицентричного мирового порядка
Автор: Сургуладзе В.Ш.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 1 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблематика фактического неравенства объемов суверенитета национальных государств при их формальном равенстве в соответствии с принципами международного права. Очерчиваются различия между фиктивным и реальным суверенитетом, приводятся примеры глобалистских концепций ограничения суверенитета национальных государств, призванных закрепить гегемонию Соединенных Штатов и коллективного Запада на международной арене. Характеризуется роль России в качестве государства, отстаивающего в международных делах сложившиеся принципы суверенитета. Подчеркивается ключевое значение национально-государственной и геополитической идентичности для обеспечения суверенитета, защиты национальных интересов и национальной безопасности. Делается вывод о возросшей актуальности изучения сущности суверенитета в условиях процессов деглобализации и формирования полицентричного мирового порядка, основными движущими силами которого выступают Россия и Китай.
Измерения и виды суверенитета, государственный суверенитет, формальный суверенитет, реальный суверенитет, национально-государственная и геополитическая идентичность, обеспечение суверенитета, защита национальных интересов и национальной безопасности, международные отношения, мировой порядок
Короткий адрес: https://sciup.org/170209085
IDR: 170209085 | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-1-129-140
Текст научной статьи Эволюция восприятия и интерпретаций суверенитета в условиях деглобализации и формирования полицентричного мирового порядка
«Все больше государств стремятся к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности».
В.В. Путин 1
В идеальном мире юридической теории суверенитет выступает в качестве свойства, присущего всем государствам в соответствии с принципами международного права, предполагающими и утверждающими равенство государств. Однако в практической плоскости реальной политики и закономерностей геополитического противостояния великих держав суверенитет, способность его реализации, защиты и обеспечения имеет массу измерений, в каждом из которых степень суверенности государств мира сильно варьируется. Таким образом, реалии международной жизни свидетельствуют о том, что равенство суверенитетов – правовая фикция [Бжезинский 2006: 175-176]. Это противоречие между правовой теорией и политической практикой международных отношений имеет большое значение, поскольку определяет фактическую разницу международного статуса и объема реального суверенитета государств.
Фиктивный и реальный суверенитет
С усложнением мира и развитием научно-технического прогресса менялись представления о сущности суверенитета, измерениях его реализации и соотношении со сферами национальной безопасности и национальных интересов. Так, например, с развитием представлений о театрах военных действий, число которых увеличивалось со временем пропорционально новым техническим возможностям ведения войны [Харрис 2016; Сургуладзе 2017а; Сургуладзе 2017б], возникали и новые измерения суверенитета. К традиционным полю боя на суше, войне на водных пространствах и в воздухе постепенно прибавлялись новые театры военных действий – в космосе, киберпространстве, когнитивной и ментальной сферах, вследствие чего в научный обиход вошли понятия пятого и шестого театров военных действий и соответствующих измерений суверенитета.
Несмотря на правовую фикцию суверенного равенства государств, на практике реализация этого формально признаваемого равенства ограничивается ресурсами и потенциалом конкретной страны в каждой сфере суверенного бытия и развития. Соответственно, ограничен и реальный суверенитет государств. Так, например, если у страны отсутствует инфраструктура, наука и другие ресурсы, необходимые для осуществления космических полетов и запусков спутников, соответственно, не приходится ставить вопрос о наличии у такого государства «орбитального суверенитета»1, реального суверенитета в космической сфере. Также не приходится говорить о реальном суверенитете государств в киберпространстве при условии отсутствия у них соответствующих технических, интеллектуальных и инфраструктурных возможностей.
Очевидно, что далеко не все 193 государства – члена ООН могут претендовать на наличие объективных возможностей суверенного развития в каждой из выделяемых сегодня сфер суверенитета. Таким образом, мир закономерно делится на «великие» и «малые» государства. Большая часть последних характеризуется ограниченным суверенитетом.
В то же время важно отметить, что в зависимости от геополитического положения, цивилизационной принадлежности и комплекса иных факторов далеко не каждому государству требуется максимально возможное укрепление суверенитета во всех сферах. Так, например, многие малые и средние государства фактически готовы делегировать часть своего суверенитета более сильным партнерам, международным организациям и наднациональным объединениям, например США в рамках НАТО или Европейскому союзу. В частности, после Второй мировой войны есть все основания рассматривать Германию и Японию в качестве оккупированных, а значит несуверенных государств, поскольку до сих пор в этих странах расположены существенные гарнизоны американских войск. Однако если период, наступивший непосредственно после войны, действительно являлся оккупацией, то в современных реалиях нахождение американских контингентов можно рассматривать и как сознательное делегирование суверенитета в военной сфере, форму союзнических отношений, влекущую добровольное умаление государственного суверенитета.
Малые государства могут вовсе не претендовать на всестороннюю реализацию суверенитета, не ощущать угроз национальной безопасности и национальным интересам в кибер- либо космическом пространстве, поскольку не обладают соответствующими возможностями и амбициями, не имеют важных ресурсов, не рассматриваются в качестве потенциально опасных конкурентов на внешнеполитической арене и в силу этого не являются потенциальной жертвой внешней агрессии, т.е. фактически не представляют объективного интереса с точки зрения умаления их суверенитета со стороны более могущественных государств. Однако чем большим военнополитическим и ресурсно-экономическим потенциалом и объемом реального суверенитета обладает государство, тем более сложные и комплексные задачи обеспечения суверенитета, защиты национальных интересов и национальной безопасности стоят перед таким государством. Наличие в системе международных отношений ограниченного числа государств, обладающих реальным суверенитетом, ставит перед международным сообществом в целом проблему гармонизации их взаимодействия, поскольку от взаимоотношений ведущих игроков мировой политики зависит глобальное будущее человечества.
Существуют рейтинги интегрированной мощи государств и отдельных сфер суверенного развития. Применяется и разнообразная методология сравнительной оценки потенциалов проецирования государствами военно-политической мощи и экономического влияния [Cline 1977; Агеев, Менш, Мэтьюз 2008; Fels 2016]. Не останавливаясь на данном вопросе подробно, можно отметить значительное число рейтингов государств, публикуемых международными организациями, разнообразными аналитическими и консалтинговыми структурами [Tellis et al. 2000], а также специализированными изданиями. Во многих из них, если принимать во внимание совокупность показателей, Россия находится в числе немногих лидеров мира. Так, например, в соответствии с рейтингом десяти наиболее могущественных государств мира, опубликованным Forbes India в 2024 г., в тройку вошли: Соединенные Штаты, Россия и Китай. Экспертная оценка мощи этих государств основывалась на сопоставлении пяти показателей: 1) лидерство, 2) экономическое влияние, 3) политическое влияние, 4) роль в международных альянсах, 5) военная мощь1.
На протяжении «холодной войны» несомненными лидерами-соперниками двуполярного мира, обладавшими наибольшим объемом реального суверенитета в различных сферах, выступали Соединенные Штаты и Советский Союз, после дезинтеграции которого мир вступил в период однополярного американского доминирования с соответствующим умалением реального суверенитета России. Соответственно, есть основания говорить, что именно государства, способные проецировать свою политическую волю в максимальном числе сфер реализации суверенитета, и являются носителями наибольшего объема как фактического, так и потенциального (связанного с возможным возникновением новых измерений) суверенитета.
Стремление к построению многополярного «постамериканского» и «постзападного» мирового порядка, отходящего от модели «центра и периферии»2 [Валлерстайн 2001; Валлерстайн 2003; Валлерстайн и др. 2013; Валлерстайн 2015–2016] за счет роста самосознания, международной субъектности и притязаний на равные права государств и народов незападного мира, приводит к росту интереса к всестороннему осмыслению измерений суверенитета даже со стороны относительно слабых участников международных отношений. В условиях становления нового постзападного мирового порядка многократно возрастает востребованность самобытных, независимых от западного идейно-политического воздействия мировоззренческих моделей осмысления реальности, собственного пути и места в полицентричном мире. Запрос на укрепление собственной национально-государственной идентичности как важнейшей предпосылки для обеспечения государственного суверенитета, защиты национальных интересов и национальной безопасности совпадает с тенденцией постепенной «девестернизации» мира, ослаблением «мягких» и «умных» форм западного неоколониализма, характеризующегося системным контролем бывших метрополий над новыми независимыми государствами, сдерживанием их развития, попытками при наличии формально суверенных независимых государств сохранить их политическую, экономическую и социокультурную зависимость.
В условиях явного доминирования Соединенных Штатов в мировой политике после дезинтеграции СССР и консолидации под их эгидой всего западного мира сложившимся представлениям о сущности народного и государственного суверенитета были противопоставлены наднациональные проекты интеграции с ведущей ролью в ее реализации разнообразных международных по форме, но западных по сути (в силу доминирования в них представителей либо ставленников коллективного Запада) институтов (Всемирный банк, МВФ, ВТО и т.д.) и транснациональных корпораций1. Таким образом, уместно говорить, что «национальный колониализм» западных империй прошлого (французский, английский, испанский, португальский, голландский, бельгийский и т.д.) перерос в глобальный неоколониализм коллективного Запада, консолидация которого в значительной степени строится на базе общности цивилизационной идентичности при одновременной утрате суверенитета многими народами и государствами, делегировавшими часть своего суверенитета наднациональной бюрократии Европейского союза и НАТО, находящейся в очевидной идеологической, политической, военной и экономической зависимости от Соединенных Штатов. США, выступая ядром коллективного Запада, стремятся, системно умаляя суверенитет национальных государств, всемерно проецировать собственный суверенитет в глобальном масштабе. Наиболее ярко эта особенность проявляется в экстерриториальности американского законодательства, например, преследовании граждан других государств на территории третьих стран, наложении громадного числа незаконных односторонних санкций [Hufbauer et al. 2007], неуважении принципа суверенного равенства государств в целом и их правового суверенитета в частности при последовательном неприятии любых международных обязательств, ограничивающих суверенитет США [Ralph 2007].
Глобалистские концепции ограничения суверенитета национальных государств
Обратной стороной широкого толкования пределов и сфер государственного суверенитета, фактического непризнания каких-либо ограничительных рамок в его глобалистских интерпретациях являются разнообразные формы экспансии, которые в классической традиции марксизма именовались колониализмом и империализмом. Идеологический колониализм проявляется в непризнании культурного, ценностного, гуманитарного суверенитета народов и государств, попытках повсеместного навязывания коллективным Западом Мировому большинству неолиберальных культурных новшеств и разрушительных практик, подрывающих основы морали и традиционной нравственности.
Правовой неоколониализм проявляется в пренебрежении правовым суверенитетом народов и государств, попытках экстерриториального применения национального законодательства, в разработке политико-правовых концепций, подрывающих государственный суверенитет в соответствующих сферах.
Климатический, экологический колониализм связан со стремлением коллективного Запада повышать уровень собственного экологического и экономического благополучия за счет навязывания норм «зеленой экономики» всем государствам вне зависимости от особенностей их социально-экономического развития, фактического негативного воздействия на глобальное загрязнение окружающей среды либо положительного влияния на нее, например за счет расположенных в этих государствах лесов – «легких планеты».
Системные попытки подрыва экологического, экономического и территориального суверенитета проявляются в постановке под вопрос права народов и государств распоряжаться располагающимися на их территории ресурсами, самостоятельно планировать свое долгосрочное устойчивое развитие1 [Лал 2010; Сургуладзе 2015; Smith 2011; The Law and Economics… 2016].
Концепции суверенитета, сложившиеся в международном праве, сегодня переосмысляются представителями западного научного сообщества с совершенно неожиданных ракурсов. Так, например, предлагаются концепции «межвидовой политики» и проблем «суверенитета животных» [Youatt 2020]. Подобные исследования могут выглядеть внешне безобидными, однако с точки зрения информационно-идеологического противоборства за сохранение глобального доминирования коллективного Запада они важны и опасны для сложившейся системы международных отношений, поскольку при комплексной разработке и внедрении в массовое сознание подрывают выстраданные человечеством принципы международного права, включающие и сложившиеся представления о суверенитете национальных государств.
Разрабатываемые в западных университетах экзотические глобалистские концепции суверенитета и этические подходы, апеллирующие к аргументам «за все хорошее против всего плохого», призваны служить обоснованием для идеологического колониализма, навязывания выгодной «золотому миллиарду» повестки как «единcтвенно верной», «передовой» и «прогрессивной». В этом же ключе находятся многочисленные концепции «зеленого управления», в соответствии с которыми суверенитет национальных государств препятствует реализации политики по спасению планеты [Weston, Bollier 2013: 20], обосновывающие популярный среди глобалистов тезис о «несомненном историческом упадке государственного суверенитета» [Weston, Bollier 2013: 41].
Продовольственный суверенитет также находится под прицелом проводников глобализации по западным «правилам». Сложившиеся представления о нем подрываются на базе продвижения нарративов о продовольствии как «общем достоянии» (точно так же, как и в случае с экологической повесткой и концепциями глобального «зеленого управления»), что позволяет политизировать вопросы международной торговли и производства продовольствия, представляя неугодные коллективному Западу государства в качестве не вполне «моральных» и «ответственных» членов мирового сообщества, угрожающих глобальной продовольственной безопасности [Holt-Giménez, Van Lammeren 2019; The Oxford Handbook of Food... 2015].
Cовременный колониализм, подрывающий основы суверенитета национальных государств, стал «виртуальным и скрытым, что затрудняет его обнаружение и нейтрализацию»1. Его проявления в информационно-идеологической сфере позволяют обосновывать сложившийся мировой порядок и доминирование «золотого миллиарда» над Мировым большинством «естественными недостатками» последнего на базе одностороннего политического, экономического, мировоззренческого навязывания как с помощью силы, так и с помощью политического и социокультурного проникновения [Бжезинский 2006] чуждой идентичности и ценностных норм.
В условиях утраты Западом значительной доли своего культурного капитала и потенциала «мягкой силы», позволявшего ретушировать применяемые методы «жесткого» воздействия, в обстоятельствах стремительной утраты авторитета, гегемонии и привлекательности на фоне роста глобального влияния незападных внешнеполитических акторов США и их сателлиты стали допускать явные ошибки в сфере информационно-идеологической борьбы, среди которых высокомерные заявления о «джунглях» остального мира и «райском саде» Европы2, речи о прямой заинтересованности в сырьевых ресурсах незападных государств1, перманентное, зачастую довольно бессистемное введение незаконных с точки зрения международного права санкций, ничем не завуалированный шантаж и угрозы на международной арене, сопровождаемые агрессивным навязыванием чуждой Мировому большин-ству2 повестки разнообразных отклоняющихся от традиционных норм мировых религий меньшинств. Однако сила действия равна силе противодействия: реакцией на интенсификацию подобных усилий стал закономерный рост востребованности всестороннего изучения и разработки концепций культурного и даже цивилизационного суверенитета3, способных укрепить независимость и самостоятельность национальных государств во внутренних делах и на международной арене.
В данной связи важно отметить, что сегодня у коллективного Запада отсутствует приемлемый для Мирового большинства позитивный образ будущего. Так, например, если в книге 2008 г. Б. Обама задавался вопросом о том, как возродить американскую мечту [Обама 2008], то сегодня настроения «катастрофизма» в западном обществе и популярной культуре констатируют социологи и культурологи [Урри 2018; Сургуладзе 2019], речь о «возрождении мечты» не идет. Ни американский Голливуд4, ни европейское Евровидение сегодня на обыденном уровне повседневной жизни не могут предложить привлекательных, а часто даже просто приемлемых для Мирового большинства образа жизни и моделей поведения. Торжество крайнего экономического либерализма, помноженного на либерализм культурный, привело к отторжению составлявших основу глобальной «мягкой силы» Запада форм популярной культуры в незападных обществах.
Россия и Китай на страже принципов государственного суверенитета
В Европе наблюдаются тенденции утраты традиционных представлений о ценности государственного суверенитета и субъектности национальных государств на мировой арене: «Главная угроза для европейцев – в критической и все возрастающей, уже практически тотальной зависимости от США: в военной, политической, технологической, идеологической и информационной. Европу все больше сдвигают на обочину глобального экономического развития, погружают в хаос миграционных и других острейших проблем, лишают международной субъектности и культурной идентичности»5. Между тем именно идентичность, осознанность самостоятельной ценности собственных убеждений, приверженность отстаиванию национальных интере- сов обусловливает способность распознавать вызовы и угрозы суверенитету и национальной безопасности во всех измерениях.
В этих условиях закономерно возникает вопрос геополитической идентичности, связанной с территориальной сферой суверенитета, вопрос возможных пределов его пространственного распространения за границы национальных государств в географически-цивилизационном контексте.
На встрече с руководством Министерства иностранных дел 14 июня 2024 г. президент России В.В. Путин затронул геополитический контекст суверенитета: «Пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе. ‹...› Государства и региональные структуры Евразии сами должны определять конкретные области сотрудничества в сфере совместной безопасности. Исходя из этого, также сами должны выстроить систему работающих институтов, механизмов, договоренностей, которые бы реально служили достижению общих целей стабильности и развития»1.
Вопросы суверенитета европейских государств обретают актуальность в связи с проблемой обеспечения безопасности Евразии: «Евразия – континент, естественным географическим ядром которого является Россия». Высказанная российским лидером мысль о «большом евразийском партнерстве, которое, по сути, может стать социально-экономическим базисом новой системы неделимой безопасности в Европе»2, – вековой ночной кошмар англосаксонских геополитиков, традиционно рассматривавших Евразию в качестве поля и лаборатории раздоров, опасной части света, подчинение или, по крайней мере, ослабление которой возможно путем разжигания постоянных конфликтов с целью недопущения консолидации и долгосрочного мирного сосуществования и развития.
Указанное выступление В.В. Путина опасно для англосаксонского истеблишмента не столько озвученной в нем украинской проблематикой, сколько явным стратегическим геополитическим контекстом, связанным с тем, что континент явно уходит из-под контроля США и происходит этот процесс быстрее, чем предполагалось. На наших глазах сбывается прогноз З. Бжезинского, сделанный в вышедшей в 1997 г. книге «Великая шахматная доска: Господство Америки и его геостратегические императивы», констатировавшего временность доминирования США в Евразии в силу геополитической аномальности3.
9 января 2022 г. заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам прошедших в Женеве двусторонних российско-американ- ских переговоров1 по проблемам безопасности заявил: «Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится... “оттеснить” нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец. Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года»2.
Такая постановка вопроса, равно как и возглавленная с началом специальной военной операции на Украине Россией борьба за глобальное освобождение от американского диктата, знаменует собой переход от «момента однополярного доминирования», в котором мир выстраивался по американоцентричной глобалистской модели, утверждение которой сопровождалось разработкой и навязыванием выгодных мировому гегемону концепций умаления государственного суверенитета, к более традиционным формам полицентричного мирового порядка с соответствующими представлениями о сущности и измерениях суверенного государственного развития.
Россия и Китай являются глобальными центрами геополитического могущества, выступающими в защиту принципов суверенитета. Актуальное звучание проблем защиты суверенитета во всех измерениях отражено в Совместном заявлении РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия от 16 мая 2024 г. В документе зафиксировано намерение держав решительно «отстаивать свои законные права и интересы, противодействовать любым попыткам... вмешиваться во внутренние дела двух государств, ограничить экономический, технологический или внешнеполитический потенциал России и Китая»; отмечается готовность «оказывать друг другу... поддержку в защите жизненно важных интересов, включая вопросы суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития»3; затронут широкий круг вопросов обеспечения суверенитета в разных сферах, включая биологический суверенитет; выражена глубокая обеспокоенность нарушением суверенных иммунитетов4 посредством политизации международной уголовной юстиции, захвата суверенных резервов.
Державы выразили готовность защищать суверенитет национальных экономик на базе «инклюзивной экономической глобализации» и обеспечения «условий для устойчивого суверенного социально-экономического развития государств Евразии»; противодействовать политизации проблематики прав человека с целью вмешательства во внутренние дела суверенных государств; предпринимать усилия по борьбе с загрязнением окружающей среды на базе учета специфики и суверенитета каждого государства.
Фактически положения Совместного заявления 2024 г. последовательно развивают подходы, зафиксированные в подписанной в 1997 г. Российско-китайской совместной декларации о многополярном мире и формировании нового международного порядка, Совместной декларации РФ и КНР о международном порядке в XXI веке, утвержденной в 2005 г., Совместном заявлении РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии 2022 г.1, в которых вопреки многолетним попыткам США и коллективного Запада легитимировать под благовидными предлогами концепции гуманитарных интервенций и иных форм вмешательства во внутренние дела [Daalder, O’Hanlon 2000; The Responsibility to Protect 2001; Stahn 2007; Evans 2008] в качестве ключевого императива международных отношений фиксировалась необходимость глобального развития на основе равенства и соблюдения суверенитета национальных государств [Cургуладзе 2022: 321-339].
Срыв проекта западного глобального доминирования во главе с США, процессы деглобализации и регионализации демонстрируют преждевременность укоренившихся благодаря массированной западной пропаганде представлений о мнимой неактуальности национальных государств и традиционных измерений суверенитета. Провал глобализации по западным «правилам» дает основания надеяться, что в условиях стоящих перед человечеством общих вызовов и угроз будет возможно осуществление взаимовыгодного для большей части мира проекта новой глобализации на базе уважения суверенитета и многополярности без агрессивного гегемонизма.