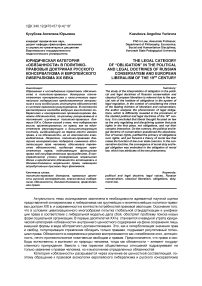Юридическая категория «обязанности» в политико- правовых доктринах русского консерватизма и европейского либерализма XIX века
Автор: Кузубова Ангелина Юрьевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
Обращение к исследованию трактовки обязанностей в политико-правовых доктринах отечественного консерватизма и классического европейского либерализма представляется актуальным в силу особой роли института обязанностей в системе правового регулирования. В контексте рассмотрения взглядов ведущих мыслителей либерализма и консерватизма проанализирован феномен обязанностей, по-разному раскрываемый в положениях изученных политико-правовых доктрин XIX в. Сделан вывод о том, что либеральная мысль ориентировалось на право, как на единственную регулирующую и дисциплинирующую систему, выдвигающую на первое место именно права, а не обязанности, не их комплексное взаимодействие. Напротив, политико-правовая доктрина консерватизма подвергла сомнению абсолютизацию прав человека, обосновала первенство обязанностей, выдвинув теорию нравственного права, поднимающую функционал права над государственным принуждением. В консервативном учении конвергенция морального долга и юридической обязанности воплощалась в долженствовании морального права, имеющего атрибутивные признаки двух феноменов.
Политико-правовая доктрина, правовые ценности, русский консерватизм, классический либерализм, обязанности, долженствование, нравственное право
Короткий адрес: https://sciup.org/149132947
IDR: 149132947 | УДК: 340.12(470+571:4)“18” | DOI: 10.24158/tipor.2020.4.3
Текст научной статьи Юридическая категория «обязанности» в политико- правовых доктринах русского консерватизма и европейского либерализма XIX века
Актуальность темы исследования заключена в необходимости адекватной научной оценки представлений консерватизма и либерализма как крупнейших и влиятельнейших политико-правовых доктрин XIX в. и современности в контексте потребностей правовой эволюции. Осознание того, что в условиях цивилизационного многообразия попытка глобальной стандартизации и унификации права в соответствие с либеральной моделью дала сбой, обостряет проблему поиска новых форм социальной организации. В первые десятилетия XXI в. становится очевидной утрата юридической категорией «обязанности» внутреннего ценностного содержания на фоне сохранения лишь внешней формы в виде абстрактного долженствования. Это, как и гиперболизация значения прав и свобод, популяризация стремления обладать только правами, подрывает регулятивный потенциал права. Обязанности в современных реалиях воспринимаются как «неизбежное зло», антиценность, нечто противоположное позитивным свободам и правам. Предполагается, что права и свободы естественны и вытекают из природы человека, тогда как обязанности – элемент государственного принуждения. Вместе с тем гармония общественных отношений подразумевает не только уважение к правам человека, но и выполнение определенных обязанностей.
Категория «обязанности» раскрывается через изучение ее ценностной составляющей, поэтому обращение к правовой аксиологии европейского либерализма и русского консерватизма
XIX в. представляет актуальную научную задачу. Тем более, что проблематика обязанностей в политико-правовых доктринах отечественного консерватизма и европейского либерализма мало изучена. Выявление аксиологических доминант исследуемых доктрин является значимым в плане установления глубинной смысловой связи современной правовой теории России с концептуальной традицией отечественной правовой мысли XIX в., а также в аспекте приближения к пониманию особенностей российского правового бытия.
Категория «обязанности» возникла много веков назад, в связи с чем попытки ее теоретического осмысления предпринимало не одно поколение мыслителей разных регионов мира. Новое время стало периодом появления естественноправовых доктрин, возводивших в ранг высших ценностей свободу, права на жизнь, собственность, достоинство и др. Одновременно обосновывались первичность и независимость системы прав от государственной власти, развивались теории ограничения вмешательства государства в права и свободы индивидов. Либеральные естественноправовые теории распространялись в глобальном масштабе под лозунгом их универсальности.
Формирование классических либеральных теорий прав человека происходило в XVII– XVIII вв. в Европе и Америке, в этот период появились труды Д. Локка, И. Канта, А. Смита, Т. Джефферсона и др. Однако доктринальную завершенность они обрели в XIX в. в учениях Д.С. Милля, Б. Констана, А. Токвиля, В. Гумбольдта, Л. Штейна. Английский правовед, теоретик либерализма И. Бентам выступил создателем учения о правильном, должном, введя понятие «деонтология». В центре теории лежит принцип пользы, в соответствии с которым поступок является заслуживающим или не заслуживающим одобрения в зависимости от увеличения или уменьшения «суммы общественного счастья». И. Бентам писал: «Чувство долга, которое привязывает людей к их обязательствам, есть не что иное, как чувство интереса высшего разряда, который берет верх над интересом подчиненным» [1, с. 33]. В рамках указанного гедонистического учения обосновывалась идея, что все законы и общественные институты следует оценивать с точки зрения их способности воплощать наибольшее счастье людей.
История становления европейской цивилизации, основанной на экономическом индивидуализме и философии рациональности, обусловила появление феномена личной индивидуальной ответственности, ставшей способом реализации обязанностей. В либеральной доктрине права личности выступали основным элементом ее правового статуса, ассоциируясь с юридическим выражением свободы, а точнее, с определенными правомочиями, получаемыми для фактической реализации свободы. В качестве источника прав человека воспринималась его биосоциальная природа, а сами правила, обеспечивающие защиту достоинства и свободы, рассматривались в качестве прирожденных и неотчуждаемых, а не дарованных правителями. Подчиненное положение в указанной концепции занимали обязанности, трактуемые как ущемление личной свободы, отказ от благ взамен предоставления правовой охраны свобод. Либерализм обосновывал существование абстрактного человека, автономного от общества и обладающего некими «врожденными» правами, никак не связанными с обязанностями.
Проблему соотношения прав и обязанностей в политико-правовой доктрине либерализма можно рассматривать в плоскости взаимодействия правовых и моральных регуляторов социальных отношений. Либеральное учение исходило из идеи свободы личности как центра мироздания, концепта индивида, лишенного религиозных ограничений. Секуляризованное правосознание ориентировалось на право, как на единственную регулирующую и дисциплинирующую систему, выдвигающую на первое место именно права, а не обязанности, не их комплексное взаимодействие. В девальвации роли морали и нравственности проявлялась слабость либеральной доктрины, так как формальное право с его детальной регламентацией общественных отношений все же не способно проникать в глубины сознания человека, направлять его волю в нужное русло, это под силу только регуляторам высшего порядка.
Обязанность в широком смысле – это все должное, то есть то, что требуется исполнять или соблюдать, тогда как долг является объективно необходимым требованием общественной морали. И. Кант указывал в качестве критериев дифференциации морального долга и правовой обязанности мотив и отношение к возможности применения принуждения. Соблюдение категорического императива (долга) он относил к сфере морали – это был результат свободного выбора. Тогда как мотивация юридических поступков, согласно учению И. Канта, неважна, они совершаются в контексте потенциала государственного принуждения [2]. Так, классический либерализм минимизировал нравственные стороны правового бытия, развивал идеи свободы от всего, в том числе от морали и нравственности. В указанном контексте логичным стало снижение авторитета обязанностей и долженствования, лежащих в основе традиционной морали.
В рамках консервативного правопонимания критиковался рациональный догматизм правовых идеалов либеральной доктрины, основанный на несовершенном, с точки зрения консерватизма, способе рационального познания. Русский консерватизм представил миру свое видение политико-правовой проблематики, ставшей ответом религиозного сознания на социальные условия и идеологию Нового времени. Православное учение предопределяло многие ценностные установки консерватизма, формулировало его главную идею – создание и охранение общественных отношений, способствующих нравственному развитию, ради спасения.
В отечественной консервативной политико-правовой доктрине (Н.М. Карамзин, К.Н. Леонтьев, Л.А. Тихомиров, Ф.М. Достоевский, К.П. Победоносцев и др.) концепт обязанностей был сформулирован своеобразно: они выступали в качестве стимулов, несли позитивные свойства и были обусловлены долгом совершения определенных действий. В рамках учения произошло единение морального долга и правовой обязанности, сблизившее право и нравственность.
Консерватизм затронул важную проблему внутреннего самообязывания, воплощаемого в процессе правоприменения в виде юридических обязанностей, т. е. статус субъекта социальных отношений ставился в зависимость от круга его обязанностей. Речь велась о диалектическом соединении прав и обязанностей в конкретно-исторических условиях, ведь именно включение в общественные структуры позволяло, по мнению консерваторов, приобретать субъекту заслуживаемые им степени свободы. Представления о естественном неравенстве людей в их социальном положении, уровне образования, потребностях и других качествах, характерные для консерватизма, нашли отражение и в теории юридического неравенства обязанностей и прав.
В противоположность либеральной концепции естественного права консерватизм выдвинул идею долга как блага. Поэтому само право понималось скорее как самоограничение и долг. Долженствование рассматривалось как внутренняя сторона обязанности, отражение потенциала действия. Это была нравственная готовность нести определенную меру ответственности с учетом интересов социальной общности, государства и личности. Обязанности основаны на внутренних ценностях человека, поэтому субъективная ответственность невозможна без взаимодействия компонентов совести, вины, долженствования, справедливости. В то же время обязанности – это модель сложных взаимоотношений между личностью, обществом и его частями, государством в разных вариациях, например, между двумя личностями. Именно патернализм и коллективизм обусловили развитость морального компонента в отечественном феномене долженствования.
В консервативной политико-правовой доктрине акцентировалось внимание на позитивной (внутренней, осуществляемой добровольно), а не ретроспективной ответственности, реализуемой в виде государственного принуждения. Внутриличностное «переживание» права обеспечивало корреляцию субъективных прав и юридических обязанностей. В соответствии с этим в отечественном консерватизме получила развитие идея внутрисубъектности юридических обязанностей. В правовой теории консерватизма обязанности воспринимались в качестве нравственных прав, происходило слияние прав и обязанностей.
Консервативное измерение прав личности, как социального служения во имя высших ценностей, очень точно сформулировал М.Н. Катков: «Русские поданные имеют нечто более, чем права политические, – они имеют политические обязанности. <…> Каждый не то что имеет только право принимать участие в государственной жизни и заботиться о ее пользах, но призывается к тому долгом верноподданного. Вот наша конституция» [3].
Категория «обязанности» наполнена многообразным содержанием, отражающим синтез религиозных, нравственных и правовых начал. Представитель пореформенного консерватизма К.Н. Леонтьев считал залогом стабильности государств социальные слои, юридически наделенные неравными правами и обязанностями. Философ предупреждал об опасности демократизации не только пороков, но и добродетелей, так как даже определенные положительные чувства в людях разного происхождения, воспитания и образования порождают разные, зачастую вредные для общества, последствия [4, с. 261–262].
Правовая аксиология консерватизма основывалась на идеях неравенства и иерархичности, стратификации, национальной принадлежности общества, поэтому она считала некорректной постановку вопроса об универсальных и абстрактных правах и обязанностях человека [5]. Вместе с тем, консерватизм всегда настаивал на индивидуализации подходов к личности как к конкретному человеку с определенной культурой, вероисповеданием, традициями, обусловленными окружающей его социальной действительностью. В политико-правовом учении Л.А. Тихомирова тема прав и обязанностей рассматривалась сквозь призму природы монархической власти. Мыслитель настаивал на необходимости паритета прав и обязанностей, так как «сознание права повсюду вытекает из сознания обязанности долга» [6, с. 578].
В свою очередь И.А. Ильин подчеркивал, что правосознание, как категория правовой науки, не сводимо к осознанию человеком своих прав. Предоставляя полномочие, право определяет формы и способы исполнения долга: «Люди, не ведающие своих обязанностей, не в состоянии и блюсти их, не знают их пределов и бессильны против вымогательства «воеводы», ростовщика и грабителя; люди, не знающие своих полномочий, произвольно превышают их, или же трусливо уступают силе; люди, не знающие своих запретностей, легко забывают всякий удерж и дисциплину, или оказываются обреченными на правовую невменяемость» [7, с. 24]. Права трактовались консерваторами как инструмент для отправления обязанностей. И.А. Ильин, подобно М.Н. Каткову, отмечал специфику национального правосознания, в котором публично-правовые обязанности воспринимались как права, и наоборот, полномочия как обязанности.
Следует заключить, что глубина философско-правового осмысления категории «обязанности» влияет на качество правовой реальности. Эволюция правового поля невозможна вне использования достижений отечественной правовой мысли, отражающих архетип национальной правовой культуры и демонстрирующих специфику институционализации правовых ценностей. Либеральная концепция прав личности основывалась на представлениях о всеобщности прав, формальном юридическом равенстве независимо от вероисповедания, имущественного и сословного положения, образовательного ценза и др.
В учении консерватизма, в противовес либерально-гуманистическим теориям, возводящим на пьедестал права человека, идеализировалась этика долга. Отрицая эгалитарные установки либерализма, консерваторы настаивали на их несоответствии традиционным для отечественной государственности основам в виде православного мировоззрения, самодержавного правления, стратификации общественного устройства.
В консервативной доктрине произошло теоретическое обоснование различия обязанностей: как правовая категория они выступали в качестве институциональной ценности, реализующейся под внешним принуждением, ориентированной на интересы государства, имеющей конкретный результат; обязанности в моральном измерении – общечеловеческая ценность, предоставляющая возможность свободного выбора при следовании нравственному идеалу, носящая всеобщий и вневременной характер.
Консервативные подходы к правам, свободам и обязанностям не стоит олицетворять с отрицанием ценности человеческой личности, ее достоинства, умалением прав. Выдвинутая и обоснованная консервативной политико-правовой доктриной идея правообязанностей соответствовала православному пониманию прав и обязанностей, христианским принципам бытия и со-циоцентристской системе ценностей российского общества. Слияние прав и обязанностей в единый модус представлялось органичным и непротиворечивым, а построенное на такой идее государство рассматривалось как общественный идеал. Подобная система правового регулирования являла собой антиномию либеральному «свободному» праву, исходящему из автономии личности и механических, внешних связей между правами и обязанностями.
Эволюция обязанностей является отражением уровня восхождения общества от биологического к социально-правовому. Каждый человек не только должен выполнять нравственно-правовые требования, но и способствовать укреплению и распространению тех позитивных установок, которые он разделяет. В наши дни следует уходить как от сложившегося ординарного восприятия правовой культуры России, так и от упрощенных трактовок юридических обязанностей как определенного поведения, обеспечиваемого угрозой государственного принуждения. Обязанности должны стать важным элементом социального статуса нравственно достойной личности.
Ссылки:
-
1. Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. М., 1998. 415 с.
-
2. Кант И. Сочинения в шести томах / под общ. ред. В.Ф. Асмуса. А.В. Гулыги, Т.И. Ойзермана. М., 1965. Т. 4. Ч. 1. 544 с.
-
3. Катков М.Н. Независимость печати (Наша конституция и наши политические обязанности) [Электронный ресурс] //
Литература и жизнь. URL: http://dugward.ru/library/katkov/katkov_nezawisimost.html (дата обращения: 11.07.2019).
-
4. Леонтьев К.Н. Плоды национальных движений на православном Востоке // Цветущая сложность: избранные статьи / сост., предисл., коммент. Т.М. Глушковой. М., 1992. С. 221–279.
-
5. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 2015. 768 с. ; Победоносцев К.П. Болезни нашего времени // Pro et contra : антология / вступ. ст., сост. и примеч. С.Л. Фирсова. СПб., 1996. С. 137–165 ; Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени // Там же. С. 99–114.
-
6. Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М, 1998. 672 с.
-
7. Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993. 235 с.
Редактор: Шитикова Ольга Сергеевна Переводчик: Бирюкова Полина Сергеевна
Список литературы Юридическая категория «обязанности» в политико- правовых доктринах русского консерватизма и европейского либерализма XIX века
- Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. М., 1998. 415 с
- Кант И. Сочинения в шести томах / под общ. ред. В.Ф. Асмуса. А.В. Гулыги, Т.И. Ойзермана. М., 1965. Т. 4. Ч. 1. 544 с
- Катков М.Н. Независимость печати (Наша конституция и наши политические обязанности) [Электронный ресурс] // Литература и жизнь. URL: http://dugward.ru/library/katkov/katkov_nezawisimost.html (дата обращения: 11.07.2019)
- Леонтьев К.Н. Плоды национальных движений на православном Востоке // Цветущая сложность: избранные статьи / сост., предисл., коммент. Т.М. Глушковой. М., 1992. С. 221-279
- Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 2015. 768 с.
- Победоносцев К.П. Болезни нашего времени // Pro et contra: антология / вступ. ст., сост. и примеч. С.Л. Фирсова. СПб., 1996. С. 137-165
- Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени // Pro et contra: антология / вступ. ст., сост. и примеч. С.Л. Фирсова. СПб., 1996. С. 99-114.
- Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М, 1998. 672 с
- Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993. 235 с