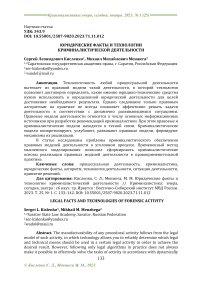Юридические факты и технологии криминалистической деятельности
Автор: Кисленко Сергей Леонидович, Менжега Михаил Михайлович
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 1 (25), 2023 года.
Бесплатный доступ
Технологичность любой процессуальной деятельности вытекает из правовой модели такой деятельности, в которой технология позволяет достоверно определить, какие именно юридико-технические средства нужно использовать в определенной юридической деятельности для целей достижения необходимого результата. Однако следование только правовым алгоритмам на практике не всегда позволяет эффективно решать задачи деятельности в соответствии с динамично развивающимися ситуациями. Правовые модели деятельности относятся к числу основных информационных источников при разработке рекомендаций криминалистики. При этом правовые и криминалистические модели находятся в тесной связи. Криминалистические модели конкретизируют, углубляют, развивают правовые модели, формируют механизмы их реализации. В статье исследованы проблемы криминалистического обеспечения правовых моделей деятельности в уголовном процессе. Примененный метод мысленного моделирования позволил сформировать криминалистические основы реализации правовых моделей деятельности в правоприменительной практике.
Процессуальная деятельность, криминалистика, юридические факты, алгоритм, технология деятельности, ситуации деятельности, принятие решений
Короткий адрес: https://sciup.org/143179954
IDR: 143179954 | УДК: 343.9 | DOI: 10.55001/2587-9820.2023.71.11.012
Текст научной статьи Юридические факты и технологии криминалистической деятельности
Любая правоприменительная деятельность, являясь основополагающей составляющей механизма правового регулирования, основывается не только на нормах права и положениях отраслевых юридических наук, но и на современных технологиях ее осуществления. Поэтому качество любой правоприменительной деятельности напрямую зависит не только от ее нормативно-правового наполнения, но и от того, насколько профессионально она реализуется на практике.
Основная часть
Непосредственным условием любого эффективного правоприменения, как справедливо отмечается в литературе, является точный учет в каждой конкретной ситуации всех без исключения значимых фактических обстоятельств в целях определения оптимального варианта действий, максимально способствующего достижению цели такой деятельности [1, с. 132].
Для профессионального выполнения своих задач субъекту правоприменения порой бывает недостаточно использовать только положения отраслевых юридических наук, содержащие современные технологии формирования и оперирования юридическими фактами. Немаловажную роль в разработке технологической составляющей работы с юридическими фактами играет криминалистическая наука. Последняя призвана обеспечивать эффективное оперирование на практике юридическими фактами (и иной значимой информацией) путем разработки рекомендаций по обнаружению, фиксации, изъятию и использованию доказательственной информации о механизме преступного события в процессе доказательственной деятельности субъектов уголовного судопроизводства.
Следует отметить, что моделирование деятельности правоохранительных органов с позиций технологических принципов является для криминалистики не новым. Основными направлениями исследования технологий в криминалистике являются преступная деятельность (и отдельные составляющие ее механизма) и деятельность по расследованию преступлений и судебному исследованию. В практическом аспекте криминалистические технологии по работе с юридическими фактами реализуются через процесс внедрения в правоприменительную деятельность комплекса средств (приемов, способов, методик) и процедур в рамках информационнопознавательной и организационноуправленческой сфер деятельности.
Тесная связь криминалистических разработок с технологиями правоприменительной деятельности объясняется рядом обстоятельств.
Во-первых , юридические факты в уголовном судопроизводстве тесно связаны с процессуальной формой их реализации, а большинство криминалистических технологий сосредоточены именно на повышении эффективности деятельности субъекта правоприменения в рамках конкретной процессуальной формы.
Основной задачей процессуальной формы является обеспечение наиболее оптимальных и эффективных путей достижения целей в минимальные сроки в определенном законом порядке. Отклонение от четкого соблюдения процессуальной формы сводит порой «на нет» результаты применения криминалистических рекомендаций. С другой стороны, реализация уполномоченными органами и должностными лицами отдельных норм в виде принятия процессуальных решений (юридических фактов, связанных с реализацией материально-правовых или процессуальных норм) порой невозможна без осуществления криминалистической деятельности по установлению обстоятельств, позволяющих верно оценить наличие оснований для принятия таких решений (например, признаков преступления)1. Из этого следует, что основной целью криминалистики является повышение эффективности деятельности субъектов, которые осуществляют доказывание в рамках различных форм уголовного судопроизводства.
Во-вторых , как отмечается в литературе, юридические факты, перед тем как будут признаны наступившими, в подавляющем большинстве случаев подлежат доказыванию [2, с. 18]. В этом проявляется тесная связь юридических фактов и процесса их доказывания.
Ключевую обеспечительную роль в доказывании юридических фактов играет криминалистика. Ее ведущая роль в данном процессе проявляется уже на стадии возбуждения уголовного дела, где основной объект изучения данной науки, преступная деятельность, подлежит познанию с точки зрения выявления, закрепления и оценки его признаков с целью их дальнейшей материальной интерпретации и принятия процессуальных и иных решений. Именно криминалистическое познание обеспечивает распознавание фактов, имеющих юридическое значение. Несмотря на то, что законодатель, регламентируя процесс доказывания
(Глава 11 УПК РФ)2, использует краткий термин «собирание» доказательств, фактически на практике данная деятельность включает в себя методы и средства по их обнаружению, выявлению, изъятию и фиксации, то есть формированию юридически значимых фактов. Эта деятельность включат в себя не только поисковые и удостоверительные действия дознавателя, следователя, но и методы моделирования и анализа следов расследуемого события, выявления связей между следами преступления и другими элементами произошедшего события [3, с. 52]. Неприменение на практике указанных криминалистических методов, приемов и средств обнаружения информационных источников о фактических обстоятельствах криминального события может привести к их утрате и принятию необоснованных решений в процессе правоприменительной деятельности, например неверной квалификации преступлений и др.
В связи с этим формирование юридических фактов (доказательств по любому уголовному делу) всецело зависит от эффективности использования криминалистических рекомендаций. Так, ошибки, допускаемые следователем в определении границ подлежащего осмотру места происшествия, объема и количества объектов исследования, приводят к тому, что ряд источников потенциально значимой информации остаются необнаруженными, что закономерно приводит к неполноте расследования, то есть обнаруженной информации не хватает для выдвижения версий, принятия обоснованного процессуального решения и др. [4, с. 20].
Необходимо учитывать, что при расследовании любого преступления наряду с обстоятельствами, подлежащими доказыванию, существенное значение имеют также и криминалистически значимые сведения, посредством которых происходит установление элементов преступного события. В данном случае речь идет о промежуточных (вспомогательных) фактах. Например, таким фактом может выступать словесная перепалка между потерпевшим и преступником, которая не является обстоятельством, подлежащим доказыванию, но помогает выдвинуть версии о мотиве преступления, личности виновного, последовательности происшедших событий.
Не все события, действия, состояния и характеристики объектов, вовлеченных в уголовное судопроизводство, могут порождать правовые последствия (выступать юридическими фактами). Однако это вовсе не означает, что их выявление не должно сопровождать криминалистическую деятельность, поскольку сведения, полученные о таких объектах, могут способствовать решению ряда организационных, управленческих, тактических, методических и иных вопросов. Например, важным для любой криминалистической деятельности является умение субъектов диагностировать состояние других участников данной деятельности с целью установления психологического контакта в разных ситуациях взаимодействия и получения необходимой информации для расследования дела. Поэтому неотъемлемым компонентом тактики подготовки к производству большинства следственных действий выступает предварительное получение и изучение сведений об их участниках, что позволит следователю заранее разработать тактику производства отдельных следственных действий и использования доказательств, а также заблаговременно определить вероятность изменения линии поведения участников, спрогнозировать конфликтные ситуации.
Установление юридических фактов и формирование доказательственной базы не является самоцелью криминалистической деятельности. Немаловажное место в ее содержании (в частности, в тактической составляющей) занимают технологии использования собранных доказательств в уголовном судопроизводстве. Однако в процессе может возникнуть ряд проблемных ситуаций, связанных с определением оптимальной компоновки таких доказательств. Зачастую эти ситуации вызваны тем, что субъекты доказывания неверно интерпретируют значение источников получения доказательственной информации по делу, а также ошибочно определяют тактически правильную последовательность их исследования. В связи с этим имеющуюся в распоряжении субъекта правоприменения доказательственную информацию необходимо систематизировать с целью определения наиболее оптимального варианта ее использования на предварительном следствии или в суде. Существенную помощь в данном процессе призвана оказать криминалистическая тактика.
Доказательства подразделяются на прямые и косвенные;
обвинительные и оправдательные; первоначальные и производные; по видам источников и др. При этом, оценивая доказательственный материал, субъект должен учитывать, что одно и то же доказательство может иметь различное значение в процессе его использования. Как правило, прямые доказательства из-за их связи с главным фактом могут быть без труда отнесены к обвинительным или оправдательным. Косвенные же доказательства и их значение проявляются лишь во взаимосвязи с другими доказательствами. Поэтому при использовании косвенных доказательств, как правило, необходимо уделять повышенное внимание оценке доброкачественности их источников и достоверности сведений, составляющих их содержание. Объясняется это тем, что не всегда однозначно можно определить обвинительный или оправдательный характер доказательств. Так, доказательства, свидетельствующие о нарушении процессуальных норм, являются, как правило, оправдательными, поскольку объективно уменьшают доказательственную базу обвинения. Однако относительно косвенных доказательств такой однозначный вывод сделать порой бывает сложно. Кроме того, необходимо учитывать, что при поступлении новых данных значение доказательств может меняться. Например, данные о месте и времени совершения преступления относятся в большинстве своем к обвинительным доказательствам, так как позволяют установить объективную сторону состава преступления. В случае же, если подсудимый в судебном разбирательстве ссылается на алиби, точные место и время совершения преступления могут выступать и как оправдательные доказательства [5, с. 233].
Имеющимися в распоряжении субъекта уголовного преследования доказательствами необходимо не только грамотно оперировать, но и активно использовать криминалистические приемы и способы по их защите от возможного негативного воздействия. К последнему помимо фальсификации доказательств можно отнести потерю их доказательственной значимости (признание недопустимыми), воздействие на источники доказательств, а также их дискредитацию.
Признание доказательств недопустимыми приводит, во- первых, к невозможности использования их для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, а во-вторых, к необходимости перегруппировки доказательственного материала с тем, чтобы на его основании сохранить обоснованность позиции по делу в целом. Поэтому, как справедливо отмечает Ю. П. Гармаев, сторона обвинения должна активнее использовать приемы по предупреждению, пресечению и устранению каких-либо нарушений закона и ошибок, допущенных следствием. Необходимо не только выявлять такие ошибки, но и прогнозировать типовые способы противодействия расследованию со стороны защиты [6, с. 29-33]. Так, в случае, когда изменение доказательственной базы обвинения происходит по причине исключения из числа доказательств той или иной информации, собранной на предварительном следствии, государственному обвинителю в суде следует не упустить тактическую инициативу и целесообразно применить комплекс приемов, направленных на «реабилитацию» доказательств. Принятие мер по сохранению или восстановлению юридической силы доказательств возможно, как правило, в ситуации, когда они были получены с несущественными (устранимыми) нарушениями закона. В частности, в рамках судебного разбирательства допустимо восполнение пробелов, допущенных при производстве следственных действий, без их повторного проведения. Например, нарушение, заключающееся в отсутствии в протоколе осмотра места происшествия сведений об участвовавшем специалисте, может быть устранено путем вызова в судебное заседание данного лица для его допроса [7, с. 24].
Немаловажное значение в применении мер, направленных на
«защиту» источников доказательственной информации, имеет реализация оперативно- розыскного сопровождения процесса расследования. Так, по данным некоторых авторов, 32 % опрошенных оперативных работников сообщили, что они действительно имели оперативную информацию о воздействии со стороны обвиняемых и их пособников на свидетелей и потерпевших с целью изменения ими в дальнейшем своих показаний в судебном заседании в виде: угроз в адрес близких родственников свидетелей и потерпевших - 27 %, сбора сведений, компрометирующих свидетелей и потерпевших, с целью их последующего шантажа - 21 % и т.д. [8, с. 107-109]. Указанные обстоятельства обусловливают необходимость применения адекватных соответствующей криминалистической ситуации мер по защите источников доказательств. Например, по делам экстремистской направленности, сопровождающимся, как правило, повышенным эмоциональным фоном, государственному обвинителю часто приходится сталкиваться с необходимостью активного использования предусмотренных законом возможностей обеспечения безопасности и защиты свидетелей и потерпевших.
Учитывая изложенное, можно констатировать, что технологии криминалистической деятельности, как правило, включают в себя типовые приемы (и их алгоритмы) по нейтрализации противодействия со стороны лиц, препятствующих доказательственной деятельности субъектов уголовного преследования [9, с. 10–11]. Последнее еще раз свидетельствует о том, что процесс поиска, формирования и использования юридических фактов в уголовном судопроизводстве невозможен без соответствующего криминалистического сопровождения.
В-третьих, одним из отличительных признаков процессуальных юридических фактов является последовательность их возникновения. Именно данное качество юридических фактов отражает развитие уголовнопроцессуальных отношений, преобразование одних процессуальных отношений в другие.
Само появление юридического факта свидетельствует о наличии юридически значимой ситуации, в рамках которой правоприменителю необходимо принять определенное решение. Последнее приводит к необходимости использования типовой программы, заложенной в норме права, то есть к запуску механизма правового регулирования. По мнению отдельных авторов, сами уголовно-процессуальные модели с их жесткой регламентацией процедур и условий процесса доказывания, содержащих перечень возможных (или необходимых) для этого действий, сами по себе являются алгоритмами [10, с. 207–208].
Однако следование только правовым алгоритмам на практике не всегда позволяет эффективно решать задачи деятельности в соответствии с динамично развивающимися ситуациями.
Объясняется это отчасти тем, что алгоритмичность юридических фактов, как отмечается в литературе, исключает наступление неожиданных ситуаций, которые не были заранее описаны в законе, а предполагает очередность процессуальных действий [11, с. 109]. Здесь следует согласиться с мнением отдельных криминалистов о том, что неукоснительное следование процессуальным нормам, регулирующим процесс доказывания, зачастую не влияет на эффективность такой деятельности [12, с. 98]. Содержание любой правоприменительной деятельности в процессе расследования определяется обстоятельствами дела, процессуальной моделью деятельности, а также конкретных криминалистических ситуаций.
Прослеживается закономерность связей между типовыми ситуациями правоприменительной деятельности и алгоритмом их реализации. Выбор конкретного криминалистического алгоритма обусловливается сложившейся криминалистической ситуацией ввиду того, что именно ситуации предопределяют систему ключевых элементов такой деятельности: перечень типичных задач на определенных этапах деятельности; сведения, которыми обладает следователь (прокурор, судья) на данных этапах;
совокупность технических средств и наиболее оптимальных вариантов действий. Осуществление правоприменительной деятельности зачастую представляет процесс перехода от одной ситуации к другой с принятием характерного для каждой ситуации решения.
Процесс принятия решений занимает центральное место в структуре криминалистической деятельности, в частности на тех ее уровнях, которые связаны с переработкой информации (в том числе и юридических фактов). Кроме того, необходимо учитывать, что решения как юридические факты выполняют организационную роль уголовно-процессуальных правоотношений. С их принятием связано возникновение, прекращение правоотношений, с одной стороны, направленных на реализацию материально-правовых норм (например, связанных с квалификацией преступлений), а с другой стороны – влекущих применение уголовнопроцессуальных норм (связанных с возбуждением уголовного дела, привлечением в качестве обвиняемого и др.) [13, с. 229–230].
Однако помимо решений, имеющих процессуальный и материально-правовой характер, субъекту правоприменительной деятельности приходится принимать тактические решения, направленные на преобразования отдельных компонентов той ситуации, в которой ему приходится действовать. Так, при расследовании насильственных преступлений реализация обвинительной позиции в суде требует поддержания контакта с потерпевшим, так как нередко он может отказаться в суде от своих показаний. Ряд авторов высказывают мнение о необходимости предварительной беседы государственного обвинителя с потерпевшим с целью выяснения причин изменения позиции и наличия противоправного влияния со стороны заинтересованных лиц. Кроме того, такая беседа позволит потерпевшему преодолеть психологический барьер к даче объективных показаний [14, с. 24].
Выводы и заключение
Таким образом, криминалистическая деятельность должна быть симбиозом юридических технологий, а также методов, приемов и средств по работе как с правовыми последствиями, порожденными обстоятельствами преступного деяния, так и с криминалистически значимой информацией, несущей сведения об элементах механизма преступления, его связях и каналах отражения в окружающей действительности.
Список литературы Юридические факты и технологии криминалистической деятельности
- Хусаинова, О. В. К вопросу об условиях эффективности правоприменительной деятельности органов государственной власти // Правовая политика и правовая жизнь: науч. журн. Саратов: Саратовский филиал Института государства и права РАН. 2015. № 2. С. 131-136.
- Кутюхин, И. В. Юридические факты в механизме уголовно-процессуального регулирования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2004. 25 с.
- Коновалов, С. И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. Ростов н/Д: Ростовский юрид. институт МВД России, 2001. 207 с.
- Карагодин, В. Н. Криминалистические проблемы обнаружения и устранения следственных ошибок: учеб.-практич. пособие. Екатеринбург, 2003. 22 с.
- Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе: учеб.-практич. пособие. М.: Юрайт, 2011. 343 с.
- Гармаев, Ю. П. Устранение сомнений в допустимости доказательств // Законность: ежемес. теоретич. и науч.-практич. журн. М.: Генеральная прокуратура РФ. 2011. № 5. С. 29-33.
- Ганичева, Е. А. Особенности поддержания государственного обвинения по делам о кражах, грабежах, разбоях: дис.. канд. юрид. наук. М., 2011. 33 с.
- Хомколов, В. П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью: системный подход. М.: Закон и право, 1999. С. 107-109.
- Гармаев, Ю. П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений: автореф. дис. ...д-ра юрид. наук. М., 2003. 39 с.
- Полевой, Н. С. Криминалистическая кибернетика. М.: Изд-во МГУ, 1989. 324 с.
- Леонов, С. Г. Особенности уголовно-процессуального юридического факта // Современное право: науч. журн. М.: ООО Издательство «Новый индекс». 2010. № 6. С. 109-111.
- Баев, О. Я. Предмет криминалистики и теория судебных доказательств // Правоведение: юрид. науч. журн. СПб: Санкт-Петербургский государственный университет. 1983. № 3. С. 96-100.
- Леонов, С. Г. Виды и классификация уголовно-процессуальных решений как юридических фактов в досудебном производстве // Общество и право: науч. журн. Краснодар: Краснодарский университет МВД России. 2010. № 2. С. 228-232.
- Лейбин, В. М. Психоанализ: учеб. пособие. М., 2007. 592 с.