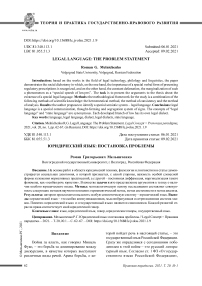Юридический язык: постановка проблемы
Автор: Мельниченко Роман Григорьевич
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Теория и практика государственно-правового развития
Статья в выпуске: 1 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение. На основе работ в области юридической техники, филологии и лингвистики в статье демонстрируется социальная дихотомия, в которой признается, с одной стороны, важность особой словесной формы изложения нормативных предписаний, а с другой - постоянная диффамация, маргинализация такого феномена, как «особая речь юристов». В качестве задачи взято представление аргументов к тезису о наличии особого юридического языка. Методы: методологическую основу исследования составляет совокупность следующих методов научного познания: герменевтический метод, метод системности и метод анализа. Результаты: автором предлагается выделить особую семиотическую систему - юридический язык. Выводы: юридический язык - это особая коммуникационная, мыслеобразующая и сегрегационная система знаков. Понятия «юридический язык» и «государственный язык» являются синонимами. Каждой развитой отрасли права соответствует свой юридический говор.
Язык, юридический язык, говор, юридические говоры, государственный язык
Короткий адрес: https://sciup.org/149131868
IDR: 149131868 | УДК: 81:340.113.1 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2021.1.9
Текст научной статьи Юридический язык: постановка проблемы
Л® ffim
DOI:
Цитирование. Мельниченко Р. Г. Юридический язык: постановка проблемы // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2021. – Т. 20, № 1. – С. 62–67. – DOI:
Война за власть, как говорил Мишель Фуко, – это борьба за доминирование между дискурсами, в качестве которых выступают различные виды речей. Арена борьбы, о ко-
торой пойдет речь в настоящей статье, – это государственный язык Российской Федерации. Сразу же определимся с сегодняшним победителем в этой войне – это русский литературный язык. Согласно ст. 1 ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»,
«порядок утверждения норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации определяется Правительством Российской Федерации» [11]. Но наличие победителя еще не свидетельствует о том, что так будет оставаться всегда, или о том, что на периферии социального внимания не существует других языков, которые претендуют если не на доминирование, то хотя бы на признание.
Функции языка
Язык – это полифункциональное явление. Мы можем выделить в языке как минимум три функции: коммуникационную, мыслительную и сегрегационную.
Основная, лежащая на поверхности функция языка – коммуникационная , которая заключается в передаче информации от одного индивида другому. В контексте права это проявляется в информационной его функции. Посредством права до членов социума доводятся требования нормативных предписаний (в традиции позитивизма). Например, такой правовой институт, как промульгация, прямо свидетельствует о коммуникационной функции права, так как описывает требование и одновременно порядок доведения до сведения членов социума правовых предписаний.
Вторая функция языка – мыслеобразующая . Исследователь литературы М.М. Бахтин указывал, что «каждый момент произведения дан нам в реакции автора на него, которая объемлет собою как предмет, так и реакцию героя на него» [1, с. 9]. Идеи М.М. Бахтина дали возможность как отечественным, так и зарубежным авторам предположить, что мышление и есть интериоризованная речь. «Таким образом, в рамках концепции М.М. Бахтина о взаимодействии автора и героя произведения интериоризованный дискурс может рассматриваться как созданная автором модель внутренней речи героя. Внутренняя речь описывается и моделируется автором произведения через процесс экстериори-оризации» [7, с. 106]. Здесь можно сформулировать следующий тезис: «Как мы говорим, так мы и думаем».
Опираясь на работы Р. Иеринга, который, исследуя такое явление, как «юридическая конструкция», указывал, что она, будучи особым приемом логического построения правового материала, отражает специфику юридического мышления, в юридическом дискурсе мы так же можем предположить, что юридическое мышление возможно исключительно в случае наличия такого явления, как юридическая речь, то есть юрист – это человек, говорящий на особом языке и потому имеющий особое мышление.
Третий функционал речи – сегрегация , то есть распределение, а затем маркирование людей по социальным группам. Основной маркер отнесения человека к какой-либо страте – это его речь. Является ли сообщество юристов стратой? Да, у юристов есть свой лексикон, свои глоссы, свой «язык». На эту функцию языка в контексте настоящей статьи указывают множество авторов, например Т.Д. Четвериковой: «...юристы, будучи в большинстве своем грамотными людьми, сознательно употребляют рассматриваемое слово с нарушением акцентологической нормы, дабы выявить “своего” в среде “чужих”, где “свои” – юристы, а “чужие” – неюристы, и в зависимости от окружения выстроить свою речевую тактику, предполагающую, в частности, решение вопроса о том, следует ли разъяснять некоторые термины или в этом нет необходимости» [10, с. 88]. Об этом же пишет и Л.П. Крысин: «По такого рода особенностям словоупотребления профессионал легко опознает своего, собрата по профессии и, с другой стороны, безошибочно определяет речь “чужака”, не владеющего профессиональными навыками использования слова» [5, с. 71].
Налицо конфликт между двумя функциями языка: коммуникационной и сегрегационной. С одной стороны, юридические предписания должны быть понятны широкому кругу лиц, с другой – язык властных предписаний должен «обслуживаться» профессионалами, образующими особую социальную страту – юристов.
Юридический язык
Выдвинем гипотезу о наличии юридического языка как особой коммуникационной, мыслеобразующей и сегрегационной системы знаков. Для этого определимся с теми признаками, которые дают нам основание к идентификации особого юридического языка, юридической речи.
Юридический лексикон. Наличие особого юридического лексикона, который используется юристами в своей речи, не требует особых доказательств, достаточно взглянуть на начало какого-либо нормативно-правового акта, чтобы обнаружить там целый глоссарий юридических терминов. Конечно, в юридический язык включен и лексикон русского языка, что не отрицает наличие первого, как наличие иностранных слов в русском языке не отрицает наличие русского.
В свою очередь, юридический лексикон можно разделить на две части:
-
1) оригинальный юридический лексикон, который содержит слова, исключительно или преимущественно использующиеся в юридическом дискурсе: «сервитут», «парафирование», «пролонгация» и т. п. Вы не услышите данные слова в «обычной речи»;
-
2) смешанный юридический лексикон, когда в юридическом дискурсе слова или словосочетания приобретают особую строгую сему (значение), отличную от обычного значения. Например, слово «дорожка» в обычном языке понимается как маленькая дорога, а в юридическом языке – как административное или уголовное дело вследствие дорожнотранспортного происшествия. Со способами образования иных семантических значений в профессиональных дискурсах можно ознакомиться в работе М.Л. Давыдовой и Н.Ю. Филимоновой [4].
В лингвистическом дискурсе юридический лексикон относится к кластеру явлений, обозначаемых словом «профессионализмы» [8, с. 105–106]. Даже беглое исследование языкового юридического поля дает нам богатый эмпирический материал смешанного юридического лексикона, например глагол «претца» и производные «преем», «отпрелись», которые отражают такое юридическое действо, как выступать с прениями на заключительной части судебного заседания.
Неслучайно неюристы называют порой речь юристов «птичьим языком», ведь юристы говорят вроде как на русском, но на совершенно непонятном языке.
Юридическое языковое конструирование заключается в особой манере конструировать из слов более обширные языковые конструкции – словосочетания, предложения. Особо ярко такое конструирование проступает в случае сравнения этой манеры с «классической манерой построения языковых конструкций». Например, юридическая конструкция «причиняются последствия» с позиции «строгого языка» неверна, так как верно будет «наступают последствия» [6, с. 105–106].
Если ввести в компьютерную программу по проверке орфографии и пунктуации любой нормативно-правовой акт, то можно получить целую россыпь цветового выделения ошибок в данном тексте. При этом причиной этого будет не безграмотность законодателя, а требование особых правил юридического языка.
Юридическое закрепление юридического языка. Юридический статус языка закреплен в Конституции РФ и ФЗ «О государственном языке Российской Федерации». Согласно ст. 68 Конституции РФ, «государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык». В соответствии со ст. 1 Закона под понятием «русский язык» понимается «современный русский литературный язык». Совершенно очевидна абсурдность данного смешения. Литературный язык – это особый общеупотребительный стиль языка, и в государственном управлении этот язык не используется. Предположим, что именно посредством юридического языка происходит государственное управление, а значит, юридический язык и является синонимом языка государственного.
Оговоримся, что в научном дискурсе такая дефиниция, как «юридический язык», пока не легализована. Максимум, что допускают специалисты в данной научной сфере, – это признание (и то не всеми) наличия юридического жаргона. Об этом в своих работах пишут, например, Н.А. Власенко [2] и В.Ю. Туранин [9].
Виды отраслевых юридических говоров
Доказательства бытия юридического языка закономерно приводят нас к необходи- мости дальнейшей его классификации, то есть допущения наличия в юридическом языке отдельных говоров. В данном случае под говором мы понимаем разновидность юридического языка по аналогии с говорами в лингвистике – местной разновидностью территориального, областного диалекта. Однако здесь в основание классификации мы положим не территориальный, а отраслевой признак, то есть каждой отрасли права соответствует свой юридический говор.
Лексикон говора. Наличие конституционного, уголовного, гражданско-правового и иных юридических говоров легко обосновать наличием особенного для каждой отрасли лексикона. Ведь каждый нормативно-правовой акт отрасли является толковым словарем именно этого юридического говора. Мы можем найти очень развернутые определения таких слов, как «Государственная дума», «кража», «сделка» и т. п. Помимо слов, закрепленных законодательно, существуют слова юридических говоров, функционирующие в устной речи, например «кассашка» – кассационная жалоба, «за-силить» – оставить приговор в силе в апелляционной или кассационной инстанции и т. п.
О наличии юридических говоров говорит и тот факт, что одно и то же слово в различных юридических говорах имеет различное семантическое значение. Например, согласно ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ под понятием «близкие родственники» понимаются: супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки, а согласно ст. 14 Семейного кодекса, «близкие родственники» – это родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры. То есть в уголовно-процессуальном юридическом говоре супруг – это близкий родственник, а в семейном – нет.
Говор юридических говоров – это особая манера произношения в отдельных юридических говорах. Помимо отличий в лексиконе, юридические говоры отличаются и произношением. Некоторые исследователи идентифицируют говор как обыкновенную ошибку, вводя антиномию «литературный язык» и
«сниженная лексика»: например, рассматривают произношение слова «осУжденный» как «просто типичную для профессионального юридического языка ошибку» [3, с. 211]. Однако мы не были бы так категоричны, относя юридические говоры к ошибкам, так как видим в них огромный функциональный потенциал. Определимся с признаками говора в понимании манеры произношения в отдельных юридических стратах.
Форма существования говора – это устная речь, в отличие от юридического лексикона, который преимущественно закрепляется в формально-определенной знаковой системе. Конечно, мы можем обозначить говор и в письменной речи, для этого служат интонационные знаки, но это высушенный, безжизненный говор.
Место жительство говора – это коммуникационные площадки. Лингвисты до сих пор определяют локацию говора буквально физическим местом: край, город, хутор. Но это уже далеко не точно. Место может быть и виртуальным. То есть это сфера общения, где происходят разговоры на определенные, в нашем случае профессиональные темы: чат в сети Интернет, место для курения около здания суда и т. п.
Интонационное конструирование говора. Говор идентифицируется интонационно. Интонация – довольно сложное явление, сложенное из следующих параметров:
-
– темп (быстро – медленно);
-
– тон (высоко – низко);
-
– громкость (тихо – громко).
Как правило, говор идентифицируется посредством ударения, которое русскоязычными слышится как модулирование экспираторного элемента (громкость) и квантитативного (замедление). Например, в слове «осУжденный» представители юридического говора букву «у» произносят более громко (экспираторно) и более продолжительно (квантитативно).
Один единственный юридический говор. Учитывая вышеизложенное, в юридической среде мы можем идентифицировать наличие говора лишь в одном сегменте. Представители этой страты связаны с уголовнопроцессуальным правом. Существует три слова этого уголовно-юридического говора: «возбУждено», «осУждено», «Эксперт». Почему так происходит? Эти люди своим говором отмечают, что у них есть своя социальная страта. Они специально, умышленно нарушают правила русского языка.
Полевые испытания по идентификации юридического говора.
В рамках научного исследования нами были проведены полевые испытания, условия которых были следующие:
-
– субъекты – адвокаты, специализирующиеся на ведении уголовных дел;
– локация – коммуникационный профессиональные площадки в социальных сетях «Повышение квалификации адвокатов».
В Сети был размещен блог следующего содержания: «Уважаемые адвокаты! Где вы ставите ударение в словах: “возбуждено”, “осужден” и “эксперт”? Ваши комментарии очень помогут нам в исследовании юридических говоров».
В основном адвокаты транслировали словарное ударение, указывая, что только так говорят приличные люди: «С точки зрения акцентологической нормы русского языка? Орфоэпический словарь никто пока не отменил, зачем это обсуждать?»
В ходе обсуждения были зафиксированы и другие слова юридического говора: «прИговор», «Исковое заявление», «ходатАйство», «ходательство».
Были обнаружены рефлексия такого явления, как юридический говор, и использование этих знаний, например, в качестве развлечения: «Я над судьями издеваюсь. Пишу в документах “осуждённый», “возбуждённое дело». Когда они оглашают эти документы, часто сбиваются)))».
Были выявлены рефлексивные подстройки под юридический говор: «Когда перешла на уголовные дела из гражданских сначала говорила с ударением на последний слог. Но все вокруг: прокурор, следователи и судьи говорили осУжден, возбУждено. Теперь я как хамелеон – тоже говорю осУжден. Иначе всем остальным в процессе режет ухо». К подобным наблюдения можно отнести и следующее: «Когда работал в милиции говорил возбýжде-но, э ′ ксперт, а сейчас говорю как все))))» или «ВозбужденО, осуждЁн, экспЕрт. Думаю, меня не затронуло неправильно произношение, потому что я не так долго работаю».
Рефлексируя несловарное ударение, честь юристов относят это к такому явлению, как профессиональная деформация: «ВозбУждено, осУжден, экспЕрт. Я знаю,что первые два слова неверны,но, простите, профдеформация».
Были выделены не только внутрикорпоративные, но и поколенческие аспекты, проявляющиеся в говоре: «Забавно звучит употребление этих слов именно у “старшего” поколения “специалистов”. Моя бабушка адвокат и она именно так говорит, как я написала выше. Ей 83) из них 30 лет следователь по особо важным. Этот “Диалект” уже не “выбить”))) да и вреда от него нет))».
Интересно наблюдение по поводу наличия говора в других славянских языках: «ВозбужденО, осуждЕн, экспЕрт. Но в Беларуси среди коллег более распространены возбУждено, осУжден, Эксперт».
Некоторые респонденты говорили и о функционале юридического говора: «У одной коллеги был перл: “Не вижу обходимости”. <...> А вообще это сигнальная система определенного менталитета: “ВозбУждено” – свои! Проходи! Если что, слэнгом никогда не пользовалась и в “свои” не стремилась».
Результаты
Описан такой феномен, как «юридический язык», представлен конфликт между русским литературным языком и юридическим русским языком на уровне функционала. Обосновано существование в рамках юридического языка особых юридических говоров.
Заключение
Юридический язык – это особая коммуникационная, мыслеобразующая и сегрегационная система знаков. Понятия «юридический язык» и «государственный язык» являются синонимами. Каждой развитой отрасли права соответствует свой юридический говор.
Список литературы Юридический язык: постановка проблемы
- Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М. : Искусство, 1986.
- Власенко, Н. А. Жаргоны в праве: пределы и техника использования / Н. А. Власенко // Проблемы юридической техники / под ред. В. М. Баранова. – Н. Новгород : [б. и.], 2000. – С. 264–270.
- Давыдова, М. Л. Место юридических конструкций в системе технико-юридических средств / М. Л. Давыдова // Юридическая техника. – 2013. – № 7-2.
- Давыдова, М. Л. Профессиональный юридический жаргон: проблема определения границ понятия / М. Л. Давыдова, Н. Ю. Филимонова // Юрислингвистика. – 2013. – № 2 (13). – С. 16–23.
- Крысин, Л. П. Часть I. Социальная дифференциация системы современного русского языка / Л. П. Крысин // Современный русский язык. Социальная и функциональная дифференциация / отв. ред. Л. П. Крысин. – М. : Яз. слав. культуры, 2003. С. 33–100.
- Недоступова, Л. В. Современный диалект как форма коммуникации / Л. В. Недоступова // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. – 2016. – № 2 (21).
- Погребняк, Ю. В. Взаимодействие автора и персонажа в интериоризованном дискурсе / Ю. В. Погребняк // Вестник ИГЛУ. – 2011. – № 1 (13).
- Сердобинцева, Е. Н. Проблема профессионализмов в современной лексикографии / Е. Н. Сердобинцева // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2008. – № 4.
- Туранин, В. Ю. Юридический жаргон: понятие, примеры, оценка / В. Ю. Туранин // Юрислингвистика-11 : Право как дискурс, текст и слово : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. Н. Д. Г олева, К. И. Бринева. – Кемерово : [б. и.], 2011.
- Четверикова, Т. Д. «Тело возбужденó, а дело возбýждено»? / Т. Д. Четверикова // Русская речь. – 2020. – № 6.
- Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2005. – 6 июня (№ 23). – Ст. 2199.