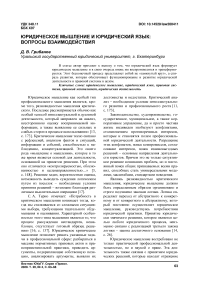Юридическое мышление и юридический язык: вопросы взаимодействия
Автор: Грибанов Дмитрий Владимирович
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы теории государства и права, конституционного права
Статья в выпуске: 4 т.20, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье автор приходит к выводу о том, что юридический язык формирует юридическое мышление и в свою очередь вновь им воспроизводится и трансформируется. Этот бесконечный процесс представляет собой не «замкнутый круг», а спираль развития, которая обеспечивает функционирование и развитие юридической деятельности и правовой системы в целом.
Юридическое мышление, юридический язык, правовая система, правовой менталитет, юридическая деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/147233325
IDR: 147233325 | УДК: 340.11 | DOI: 10.14529/law200411
Текст научной статьи Юридическое мышление и юридический язык: вопросы взаимодействия
Юридическое мышление как особый тип профессионального мышления является, кроме того, разновидностью мышления критического. Последнее рассматривается обычно как особый «способ интеллектуальной и духовной деятельности, который направлен на анализ, всестороннюю оценку воспринимаемой информации, а также выявление ее сильных и слабых сторон в процессе использования» [13, с. 173]. Критическое мышление тесно связано с рефлексией, анализом фактов и ситуаций, информации и событий, способностью к наблюдению, концептуализацией. Это своего рода «мышление о мышлении», которое в то же время является основой для деятельности, основанной на принятом решении. При этом оно отличается «контролируемостью, обоснованностью и целенаправленностью…» [3, с. 148]. Решение задач, вероятностная оценка, возможность выводить суждения логическим путем из посылок – необходимые условия принятия решений – возможно благодаря различным мыслительным операциям [17].
С. А. Терно отмечает: «Потребность в критическом мышлении возникает тогда, когда мы сталкиваемся со сложными ситуациями выбора, требующими тщательного обдумывания и оценивания. Характерной особенностью этого типа мышления является то, что процесс рассуждения нестандартен, нешаблонен, отсутствует готовый образец решения» [16, с. 137]. Юридическое критическое мышление позволяет решать указанные задачи в профессиональной сфере: разбираться в массиве нормативных правовых актов и правоприменительной практики, приводить аргументы, подкрепляющие собственную позицию, анализировать аргументы, выявляя их достоинства и недостатки. Критический анализ – необходимое условие интеллектуального развития и профессионального роста [11, с. 173].
Законодательство, судопроизводство, государственное, муниципальное, а также корпоративное управление, да и просто частная жизнь индивидов изобилуют конфликтами, столкновением противоречивых интересов, которые и становятся полем профессиональной юридической деятельности. Разрешение этих конфликтов, поиск компромиссов, согласование интересов, поиск взаимовыгодных решений – основные направления деятельности юристов. Причем это не только ситуативное решение возникших проблем, но и постоянный поиск общих признаваемых всеми правил, способных стать универсальными моделями, масштабами, стандартами поведения.
Являясь разновидностью критического мышления, юридическое мышление должно быть определенным образом организовано и строго подчинено законам логики. Логика определяет переход от абстрактного к конкретному и от конкретного к абстрактному, который постоянно осуществляет юридическое мышление, руководствуясь потребностями юридической практики. Принятие юридически значимого решения, которое является целью любого юридического процесса, неизменно связано с реализацией третьего закона логики – закона достаточного основания [14, с. 26].
Юридическое мышление востребовано не только практической профессиональной деятельностью, но и наукой о праве. Эта деятельность также связана с принятием юридических решений, которые находят отражение в юридических текстах, с созданием такого рода текстов и их анализом. И в этой сфере логические законы, приемы и методы, соответствующие особенности юридического языка приобретают особое значение.
Юридическая наука изучает закономерности развития государства и права, иных правовых явлений, правовую систему и ее структуру. Опираясь на исследование фактов правовой действительности, она использует индукцию, осуществляя переход от частного к общему [15, с. 269]. Интересно, что перечисляя свойства юридического мышления, которые отражают его подчиненность законам логики, такие как аналитичность, логикоформальный характер, В. М. Розин, наоборот, делает акцент на его дедуктивности [12].
Подчеркивая значение формальной логики, Т. В. Губаева под юридическим рассуждением понимает «последовательность констатаций, имеющих значение и четко соединенных друг с другом в соответствии с определенными принципами; последовательность, которая позволит прийти к выводам и решениям». Как отмечает указанный автор, юристы используют «два логико-методологических стандарта: 1) юридическое рассуждение на основе приложения известных норм закона к разнообразным фактам; 2) юридическое рассуждение с использованием прецедента» [2, с. 16].
Для юридической логики существенную роль играет профессиональный юридический язык, являясь субстанцией юридической деятельности [8, с. 20]. В связи с этим необходимо различать две стороны «юридизированно-го статуса естественного языка». Во-первых, естественный язык рассматривается как некое средство, способ существования правовой деятельности. Во-вторых, непосредственно как объект юридической деятельности, причем в двух вариантах: отдельно законодательной и правоприменительной деятельности. Хотя в последнем случае правильнее было бы говорить - правореализационной, чтобы не исключать из юридической деятельности значительную часть субъектов юридического мышления. Безусловно, язык - объект правового регулирования: тексты являются объектами авторского права, отдельное словоупотребление может стать юридическим фактом, вызывающим к жизни правоотношения по защите чести и достоинства, сам русский язык подлежит защите как государственный.
Законодательная деятельность как выражение воли законодателя и доведение ее до сведения субъектов правоотношений [19, с. 99] становятся возможными благодаря юридическому языку, который выступает ее средством. Толкование законов, а также создание юридических текстов необходимы для процесса правореализации, в том числе правоприменения. Эти процессы в первую очередь характеризует высокая степень конфликтности. Образно их можно определить как функционирование языка в экстремальной сфере. При этом сами юридические тексты, как нормативные, так и индивидуальные акты, если они содержат многозначные термины, порождают неопределенность в юридической практике, даже при условии, что к ним безусловно должны применяться повышенные требования применительно к точности терминов и логической структуре, становятся конфликтогенными, то есть на практике вызывают споры в юридическом сообществе.
Р. Иеринг, опираясь на традиции римского права, писал о юридической технике, подразумевая в первую очередь юридический язык и способ мышления. Анализ, концентрация (классификация) и конструкция - три основных технических операции, которые были им выделены [5, с. 9]. Н. М. Коркунов, напротив, был категорически не согласен с тем, что «юридическому мышлению» могут быть присущи определенные специфические черты. Любое своеобразие в этой сфере может быть связано только, по его мнению, «с характером собственно юридического материала» [4, с. 64]. Он писал, что «...так как формы и условия человеческого мышления всегда одни и те же, на какой бы предмет ни было обращено мышление, то едва ли мышление о предмете каждой отдельной науки может составить само по себе предмет еще новой самостоятельной науки. Теория познания по необходимости едина, так как она должна выяснить основы и условия человеческого знания». Н. М. Коркунов подвергает критике учение Р. Иеринга: «Все эти приемы: анализ, конструкция и классификация, суть общие приемы научного исследования, отнюдь не составляющие исключительной принадлежности только науки права. Но это не сознается нередко и самими юристами, по крайней мере, в отношении к анализу и, в особенности, в отношении к конструкции … Напротив, мы имеем тут дело лишь с частным применением общих научных приемов обобщения» [7, с. 43, 422].
Как отмечает И. П. Малинова, «любая достойная применения мысль, в том числе правовая, рождается не из намерения, а из способности мыслить» [9, с. 23]. Наука о праве имеет свой предмет, свои методы юридического мышления, свои исследовательские практики. Невозможно переоценить вклад выдающихся советских ученых, фактически создавших новую самостоятельную науку – теорию государства и права со своими предметом, методологией, юридическими конструкциями, имеющую собственную структуру и являющуюся фундаментом для отраслевых юридических наук. Действительно, методологическая функция этой фундаментальной науки востребована в процессе дальнейшего изучения юридических дисциплин. Так, гражданское право может не «отвлекаться» на вопросы, что есть правовая норма, правоотношение или правовое регулирование, этот своего рода «скелет», «несущие конструкции» создает теория государства и права. Монографии советского периода, такие как «Механизм правового регулирования в социалистическом государстве» С. С. Алексеева, «Общее учение о правоотношениях» Р. О. Халфиной и многие другие фактически создавали новые юридические конструкции, раскрывали роль правовых явлений в системе правового регулирования, закладывали методологические основы глубокого научного изучения этих феноменов.
Становление и развитие науки о праве на разных этапах всегда сопровождалось совершенствованием юридического мышления и усложнением, специализацией юридического языка, а это в свою очередь обогащало правовую практику [6]. В целом все существенные исторические изменения в сознании и культуре, приращение знаний и появление новых форм деятельности неизменно связаны с развитием языка, который фиксировал изменения. Так, легисакционный процесс был достаточно прост с точки зрения юридического языка. Согласно формуле римского процессуального права «legisactiopersacramentum» в процессе разбора дела участники процесса выступали перед судьей (претором) и воспроизводили формализованные фразы. А сегодня юридический процесс опирается на достаточно сложный профессиональный язык, юридические конструкции и терминологию.
Действительно, развитие правовых знаний, правового познания в целом, правовой культуры отражается в усложнении, уточнении и специализации юридического языка. Первоначально это общие, синкретические, где-то расплывчатые по своему смыслу слова, имена, как их называет формальная логика, которые в дальнейшем воспринимаются наукой, уточняются и концептуализируются. Здесь уместно вспомнить треугольник Фреге. Слово, использованное какими-либо учеными как часть естественного языка на новом этапе развития, уточняется, конкретизируется применительно к объектам юридической действительности, наполняется специальным научным правовым значением, концептуализируется, становится юридической конструкцией и частью научного дискурса. Так возникла, к примеру, гениальная концепция механизма правового регулирования С. С. Алексеева. То есть история развития юридического мышления – это одновременно и история юридического языка [18, с. 55].
В связи с той ролью, которую играет языковая ясность юридических текстов, представляется возможным согласиться с авторами, отрицающими стратегию упрощения юридического языка с целью достижения синтеза профессионального и обыденного правосознания, во всяком случае подчеркивающими ограниченность указанной стратегии [1, с. 40].
Одна из «вечных проблем» права – это диалектика факта и нормы. Е. В. Скурко считает ее несущественной для юридической практики, так как «и факт, и норма для нее составляют в логическом измерении однородные и равным образом необходимые основания для принятия правоустанавливающего (правополагающего) решения» [14, с. 27]. Однако именно эта диалектика факта и нормы вызывает к жизни такой феномен как юридическое мышление. Эта своего рода «формула» возникла еще в Древнем Риме. Д. И. Мейер отмечал: «Формализм требовал буквального применения конкретного закона, жизнь требовала его обобщения, которого, однако, нельзя было совершить через замену того закона изложением общего кроющегося в нем юридического начала». Эта формула отнюдь не ограниченна, а напротив носит универсальный характер, в том числе потому, что правоприменитель и законодатель чаще всего не совпадают. С точки зрения Д. И. Мейера, синтез «формализма» и «упорствующей против него действительности» обеспечивается «силой воображения» [10, с. 66], то есть юридическим мышлением. Таким образом, на разных этапах развития знаковая природа слова может играть разную роль, но в целом ее значение традиционно остается высоким.
Можно согласиться с Л. А. Шариковой, В. Ю. Геиер, которые выделяют признаки юридического языка: «1) междисциплинарность, контрастивность, межкультурность и открытость; 2) не эмоциональность, четкость, однозначность, опора на факты и прецеденты; 3) особая предметно-целевая направленность и специфические риторические схемы рассуждений; 4) высокая степень абстракции юридических понятий; 5) тесная связь права и языка; 6) по внутренней структуре языка можно выделить: язык судебных решений; язык законов; язык ведомственного письменного общения; язык юридической науки и экспертиз; административный жаргон; 7) выделяются три составные части юридического текста: общеупотребительная лексика, термины и грамматические формы и связки» [19, с. 101]. Однако представляется, что эти признаки недостаточно полно раскрывают систему «язык – право».
В современной научной литературе по юриспруденции юридическому языку не отведено должное место. Разве что юридическая техника и герменевтика отчасти затрагивают проблемы юридического языка. На это указывает Н. Д. Голев, по его мнению, единственное начало права – язык, право – исключительно языковое явление: «Право живет как в действиях людей, так и в языке, который используется не только для его обозначения – из языка созидается оно само, его структура». С данной позицией, которая приводит указанного автора к радикальной концепции языка как способа существования права [1, с. 45], трудно не согласиться. Действительно ни появление права, ни его развитие или функционирование без языка просто немыслимо.
С другой стороны, то же самое можно сказать и об иных видах деятельности, тесно связанных с языком, поскольку, как уже отмечалось, развитое мышление не может возникнуть и функционировать без языка.
Юридический язык формирует юридическое мышление и в свою очередь вновь им воспроизводится и трансформируется. Это бесконечный процесс, не «замкнутый круг», а спираль развития, которая обеспечивает функционирование и развитие юридической деятельности и правовой системы в целом. Атрибуты юридического мышления связаны с особенностями юридического языка, а сущностные свойства юридического языка обусловлены юридическим мышлением. Однако этим не исчерпывается все многообразие и значение взаимосвязи указанных юридических феноменов. Следует подчеркнуть также их способность формировать правовой менталитет, картину мира юриста, его юридическое мировоззрение.
Список литературы Юридическое мышление и юридический язык: вопросы взаимодействия
- Голев, Н. Д. О специфике языка права в системе общенародного русского языка и ее юридического функционирования / Н. Д. Голев // Журнал «Юрлингвистика». – 2004. – № 5. – С. 39–57.
- Губаева, Т. В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юридической деятельности / Т. В. Губаева. – М.: Норма, 2004. – 160 с.
- Жогова, И. Г. Профессионально-ориентированная лексика как способ активизации критического мышления (на примере англоязычных юридических текстов) / И. Г. Жогова, Е. В. Кузина // Новое слово в науке: перспективы развития: материалы III Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – С. 148–150.
- Зыков, Д. В. Размышления о юридической реальности: в 2 ч. / Д. В. Зыков. – Тамбов: Грамота, 2013. – № 6 (32). – Ч. I. – C. 62–65.
- Иеринг, Р. Юридическая техника / Р. Иеринг. – СПб., 1905. – 106 с.
- Кедров, Б. М. Классификация наук: прогноз К. Маркса о науке будущего / Б. М. Кедров. – М.: Мысль, 1985. – 544 с.
- Коркунов, Н. М. Лекции по общей теории права / Н. М. Коркунов. – СПб.: Юридический центр «Пресс», 2004. – 570 с.
- Любимов, Н. А. Конституционное право России: лингвистический аспект: автореферат дис. … канд. юрид. наук / Н. А. Любимов. – М., 2002. – 26 с.
- Малинова, И. П. Классическая философия права / И. П. Малинова. – Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2004. – 64 с.
- Мейер, Д. И. Избранные произведения по гражданскому праву / Д. И. Мейер. – М., 2003. – 389 с.
- Ремизов, П. В. Формирование профессионального критического юридического мышления при подготовке сотрудников полиции к правомерному применению огнестрельного оружия / П. В. Ремизов, А. Ю. Шарапов // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2015. – № 4 (32). – С. 172–176.
- Розин, В. М. Юридическое мышление (формирование, социокультурный контекст, перспективы развития) / В. М. Розин. – Алматы: ВШП «Адилет», 2000. – 294 с.
- Русинов, Р. К. Формирование критического мышления у студентов юридических вузов / Р. К. Русинов // Российский юридический журнал. – 2013. – № 5. – С. 173–177.
- Скурко, Е. В. Юридическое мышление в конструктах современной когнитивной психологии / Е. В. Скурко // Ленинградский юридический журнал. – 2011. – № 3 (25). – С. 19–57.
- Суслонов, П. Е. Философия права как мировоззренческая и методологическая основа юридического мышления / П. Е. Суслонов // Научные исследования: от теории к практике. – 2015. – № 3 (4). – С. 269–271.
- Терно, С. А. Обучение критическому мышле¬нию – «экзотические приемы» или решение не¬тривиальных проблем? / С. А. Терно // Гуманитарные научные исследования. – 2014. – № 1. – С. 134–146.
- Халперн, Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. – СПб.: Питер, 2000. – 503 с.
- Храмцова, Н. Г. Правовое мышление и язык права – объективные основания правового дискурса / Н. Г. Храмцова // Пробелы в российском законодательстве. – 2009. – № 1. – С. 54–58.
- Шарикова, Л. А. Особенности юридического мышления через специфику правового дискурса и языка / Л. А. Шарикова, В. Ю. Геиер // Вестник Тюменского государственного университета. – 2008. – № 1. – С. 96–103.