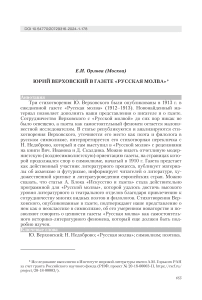Юрий Верховский в газете «Русская молва»
Автор: Орлова Е.И.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 1 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
Три стихотворения Ю. Верховского были опубликованы в 1913 г. в ежедневной газете «Русская молва» (1912-1913). Новонайденный материал позволяет дополнить наши представления о писателе и о газете. Сотрудничество Верховского с «Русской молвой» до сих пор никак не было освещено, а газета как самостоятельный феномен остается малоизвестной исследователям. В статье републикуются и анализируются стихотворения Верховского, уточняется его место как поэта и филолога в русском символизме, интерпретируется его стихотворная перекличка с Н. Недоброво, который и сам выступил в «Русской молве» с рецензиями на книги Вяч. Иванова и Д. Скалдина. Можно видеть отчетливую модернистскую (позднесимволистскую) ориентацию газеты, на страницах которой продолжался спор о символизме, начатый в 1910 г. Газета предстает как действенный участник литературного процесса, публикует материалы об акмеизме и футуризме, информирует читателей о литературе, художественной критике и литературоведении европейских стран. Можно сказать, что статья А. Блока «Искусство и газета» стала действительно программной для «Русской молвы», которой удалось достичь высокого уровня литературного и театрального отделов благодаря привлечению к сотрудничеству многих видных поэтов и филологов. Стихотворения Верховского, опубликованные в газете, подтверждают наше представление о нем как о неоклассике в символизме, об его умеренном новаторстве и позволяют говорить о ценности газеты «Русская молва» как самостоятельного историко-литературного феномена, который еще должен быть подробно изучен.
Ю. верховский, н. недоброво, «русская молва», символизм, поэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/149145244
IDR: 149145244 | DOI: 10.54770/20729316-2024-1-178
Текст научной статьи Юрий Верховский в газете «Русская молва»
В ежедневной газете «Русская молва» в 1913 г. были опубликованы три стихотворения Юрия Никандровича Верховского (1878–1956). Они не вошли ни в один из прижизненных сборников поэта, не были включены в наиболее полное собрание сочинений Верховского, вышедшее в наше время [Верховский 2008]. Новонайденный материал позволяет нам кое-что уточнить, дополнить наши представления о писателе и о том, как, собственно, осуществлялось его участие в литературном процессе. Сотрудничество Верховского с газетой «Русская молва» до сих пор никак не было освещено. А оно может характеризовать как самого поэта, так и газету, которая, конечно, известна историкам литературы, но как самостоятельное издание и примечательный историко-литературный феномен изучена еще недостаточно (см.: [Орлова 2021]).
Напомним некоторые уже известные факты. Поэт и филолог, Верховский начинал так: два стихотворения были опубликованы в «Вестнике Европы» (1899), наиболее же заметным стало его участие в коллективном «Зеленом сборнике» (1905) – там же, кстати, дебютировал и М. Кузмин. Сборник, в особенности 20 стихотворений и 2 поэмы Верховского, был отмечен А. Блоком, В. Брюсовым, Н. Гумилевым. Блок увидел даже в первых стихах Верховского умение владеть размерами, ритмическое разнообразие, но и опасность «литературного поглощения», то есть подражательства.
Верховский был неоклассиком в пределах стиховой культуры символизма и так же принадлежал своему времени, как и золотому веку, к которому был всегда обращен. Видимо, именно это – «намек о новом» – и ценил в нем Блок («…люблю уже / За каждый ваш намек о новом / В старинном, грустном чертеже»). Эксперименты поэтов этого времени, включая и Верховского, в области преобразования ритмики и рифмы прекрасно показал в наше время М.Л. Гаспаров, к работе которого мы еще обратимся.
Теперь же представим до сих пор неизвестные три стихотворения Верховского и прокомментируем их.
Одно из них уже было нами републиковано [Орлова 2019], но остается еще труднодоступным, и кажется уместным привести его здесь.
Н.В. Недоброво
Лист виноградный покраснел Румянцем пламенным и смуглым – И над балконом полукруглым Он бьется радостен и смел.
Колонны, ласковый, объемлет, Ветвится зыбкой сетью он – И занавешенный балкон, И дом за ним как будто дремлет.
Но их дремоте ты не верь, Гляди за рдяные волокна: По сторонам – светлеют окна, Стеклянная меж ними дверь;
За ними – зал белоколонный
И снова – окон светлый ряд, Лазурью небеса горят
И сад темнеет, благосклонный [Верховский 1913а].
Сначала поясним, насколько возможно, посвящение. Никаких «материальных» свидетельств общения Николая Владимировича Недоброво (1882–
1919) с Верховским нет, но нет и сомнения, что, однокурсник Блока по Петербургскому университету, участник литературной жизни 1910-х гг., поэт и филолог Недоброво много раз встречался с Верховским, в первую очередь – на «башне» Вяч. Иванова, чьей правой рукой часто называли Недоброво: он даже замещал Иванова на заседаниях Общества ревнителей художественного слова (Академии стиха), а Верховский к тому времени уже давно и близко общался с Ивановым, как и со многими другими, и тоже не раз выступал там. В. Калмыкова не сомневается в том, что Верховский был и членом Общества поэтов, основанного Е.Г. Лисенковым и тем же Недоброво. Правда, она ошибочно называет эти собрания Новым обществом поэтов [Калмыкова 2008, 757] (правильно: Общество поэтов, или – в обиходе – «Физа», как назвал его первым Вл. Пяст по имени заглавного героя поэмы Б.В. Анрепа. Поэму читали, в отсутствие автора, на втором заседании Общества в апреле 1913 г.). Участие Верховского в «Физе» более чем возможно, но надо иметь в виду, что Общество поэтов прекратило свое существование в 1915 г. из-за войны, а с 1911 по 1915 г. Верховский «занимал кафедру западноевропейских литератур на частных высших женских курсах в Тифлисе, где вел занятия и по новой русской литературе» [Верховский 2008, 736]. В годовщину этого назначения Недоброво написал послание «Юрию Никандровичу Верховскому. 19 сентября 1912 г.». Оно было опубликовано только в 1915 г. в журнале «Русская мысль», но адресату, конечно, было известно много раньше.
Недоброво, которого также можно назвать классиком в лоне символизма, пишет Верховскому в общем для них стиле начала XIX в. Слегка шутливый тон придает стилизации, к тому же выдержанной в 4-стопном ямбе, легкость, которой часто в других случаях недоставало Недоброво-стихотворцу.
Ты из-под наших мокрых крыш В Тифлис профессором спешишь, Где будешь гуриям и пери, Курсистками решившим стать, В разумно суженном размере Литературный курс читать И светом Пушкинской плеяды Полуобразованья яды Искоренять в умах. О друг, Ведь это подвиг благородный!
С ним так удачно вступит в круг Твой дар певца, живой, свободный И духу предков соприродный [Недоброво 1915, 30].
Возможно, что стихотворение «Лист виноградный покраснел…» Верховского стало ответным даром доброму знакомому. Их могло связывать многое, и прежде всего – приверженность пушкинской эпохе. Всем, кому приходилось писать о Верховском, памятны строки его стихотворения с эпиграфом из Вяземского «И хватишь чарку рифм, чтоб заморить тоску»:
О, ясный Вяземский, о, Тютчев тайнодумный, О, Боратынского волшебная печаль!
Не я ли слышал вас в полуночи бесшумной?
Но вы умолкнули, и одинок – не я ль?
Верховский часто берет эпиграфами строки Вяземского, Жуковского, Боратынского, Фета, пишет стихотворение «Вяземский и Тютчев». И Недоброво печатает статью о Фете в 1910 г. в «Вестнике Европы», делает Тютчева героем по крайней мере двух своих стихотворений, в начале 1910-х гг. работает над статьей «О Тютчеве», которая осталась неопубликованной при жизни автора. Оба же они как поэты (с той, правда, разницей, что Недоброво не выпустил ни одной книги стихов, а у Верховского только между 1908 и 1917 г. вышло три) слегка экспериментируют со стихом, но оба остаются в русле «символистской неоклассики». Недоброво в числе других помогает Верховскому, находившемуся в 1913–1914 гг. в Перми, составлять биобиблиографические примечания к антологии «Поэты пушкинской поры», и Верховский по выходе книги благодарит своих помощников, в том числе Недоброво [Поэты пушкинской поры 1919]. Правда, книга вышла только в 1919 г., и неизвестно, видел ли ее Недобро-во, еще в 1916 г. уехавший из Петербурга в Крым лечиться от туберкулеза: он скончался в Ялте в декабре 1919 г.
Но вернемся к приведенному выше стихотворению Верховского, посвященному Недоброво. Эксперимента в нем мы не видим. Вряд ли можно им считать кольцевые рифмы во всех четырех строфах. Так обычно не писали в начале XIX в., но и эксперимент тут если есть, то только как внутреннее задание автора. Однако сложность и красота выдержанного принципа рифмовки, «тютчевская» композиция (антитеза в основе) вместе с фетовской проясненностью, гармонией между миром людей (дом) и природой – все это, вероятно, не могло не понравиться адресату.
Кстати, адресат и сам выступил в том же номере газеты «Русская молва». Недоброво написал рецензию на книгу стихов Д. Скалдина – тоже активного участника Академии стиха, в 1912 г. в издательстве «Оры» выпустившего свою первую книгу. Недоброво приветствует ее – и малый объем, и «закрытость» личности автора, и простоту поэзии Скалдина, или, по Недоброво, «твердость или косность». Он объясняет это так: «Сухость пристала здоровой молодости: она убережет от появления в зрелости дряблости, этой беды многих писателей» [Недоброво 1913, 6]. Эта рецензия была вторым выступлением Недоброво-критика в «Русской молве». 19 января газета опубликовала его отклик на «Нежную тайну» Вяч. Иванова. Это в то же время было неявное продолжение спора 1910 г. о символизме. Нетрудно догадаться, что Недобро-во целиком на стороне символизма и Иванова. Он и ссылается не только на поэтическую книгу, но и на «Мысли о символизме» Иванова, и полностью солидаризируется с ним в понимании символизма в самом широком смысле – против чего, например, протестовал М. Кузмин. Верховский, можно думать, придерживается такого же взгляда на символизм, как Иванов и Недоброво. Во вступительной статье к антологии поэтов пушкинской поры он упоминает
Вяч. Иванова – его мысль о том, что поэзия – это искусство символическое, и свою статью «О символизме Боратынского» (Труды и дни. 1912. № 3).
Но два стихотворения Недоброво и Верховского, посвященные друг другу, не составляют диалога, как это было, например, у Верховского и Вяч. Иванова, у других поэтов (см.: [Лавров 2015]). Здесь стихотворение Недоброво может служить скорее реальным комментарием, объясняя посвящение у Верховского.
Теперь приведем второе стихотворение Верховского, напечатанное в газете «Русская молва».
Когда по заводи закатной
Скользишь ты в легком челноке, Не знаешь ты, что благодатной Я полон грезы вдалеке.
Ты плещешь влагой голубою
В игре послушного весла;
Заря недвижно – пред тобою, И в небе, и в воде светла.
А я стихию огневую
Одну слежу из темноты – И восхищен, и торжествую, Когда, невидящая, ты –
Сияя радостно и строго Золотокудрой головой, Во след пылающего бога Плывешь по влаге заревой [Верховский 1913b].
И здесь проявляются черты Верховского, скорее, как «поэта старого склада». Здесь в эпитетах мы не видим неологизмов, которые были у Белого (например, «светопенный» и др.). Нет и экспериментов с ритмикой. Но наблюдения над поэзией XIX в. давали возможность поэтам-филологам задуматься о том, что уже Боратынский разрушает метрику («Чьи непорочные уста»; «С очами темно-голубыми, / С темно-кудрявой головой»), но не наносит при этом удара по ритмике. Так ставил вопрос Недоброво в статье «Ритм, метр и их взаимоотношение» в 1912 г. в журнале «Труды и дни». Нет сомнения, что Верховскому статья была знакома: в следующем, третьем номере шла его статья о Боратынском, и даже оформление обложки для своей книги стихов он мыслил в стиле переплета «Трудов и дней». Выражение «Золотокудрой головой» Верховского вполне под стать стиху «С темно-кудрявой головой» Боратынского и нового не вносит. А определение Верховского как «поэта старого склада» принадлежит А.В. Тырко-вой – так она озаглавила свою рецензию в газете «Слово» на его первую книгу 1908 г. «Разные стихотворения» (см.: [Лавров 2015]).
В 1912–1913 гг. Тыркова-Вильямс становится фактическим редактором газеты «Русская молва». Она вела газету самым активным образом. Именно по ее инициативе круг литературного отдела создающейся в конце 1912 г. газеты формируют А.М. Ремизов и Блок. Они приглашают, в частности, Б.А. Садовского. Блок явно поначалу мыслит газету как возможность общих, единых действий. Но затем задор Блока иссякает.
Статья Блока «Искусство и газета» мыслилась Тырковой как программная, она по сути и была такой. Впервые Блок предлагал сделать литературный отдел совершенно независимым от злобы дня, а художественную критику – профессиональной. Но Тыркова настаивала на переделке статьи: ей не без оснований представлялось, что беспартийная, независимая газета, которая имела целью объединять все прогрессивные силы общества, не должна в первом же номере выступать с нападками на журналистику даже второго и третьего ряда. Статья же Блока содержала во многом справедливые, но резкие обвинения в адрес журналистов, работавших в массовой печати и безразличных к искусству. После напряженной полемики Блок согласился изменить статью, она была напечатана в первом номере «Русской молвы», но и тогда и даже много позднее эта история вызывала резкое раздражение Блока. И, к тому же (а может быть, в первую очередь), поглощенный работой над драмой «Роза и крест», Блок отходит от газеты, как и от других форм литературной жизни, хотя еще одна статья и пять стихотворений были напечатаны в «Русской молве» и Тыркова настойчиво призывала Блока вернуться к газетным делам.
Но «Руской молве» все же, на наш взгляд, во многом удалось создать литературный и критический отдел высокого класса. О театре писала Л.Я. Гуревич, которая некоторое время вела и литературный отдел, помимо театрального; рецензии и обзоры иностранной печати активно доставлял Б.М. Эйхенбаум, он же написал единственную свою в те годы публицистическую заметку о поврежденной душевнобольным посетителем Третьяковской галереи картине Репина «Иван Грозный и сын его Иван»; газета помещала прозу Ремизова, стихи Блока, Саши Черного, многих других. Иллюстрировали сатирический отдел «Свисток» Н. Радлов и С. Радаков. Газета распространялась не только во всей России, но и в Западной Европе. Если же говорить об общей позиции «Русской молвы» в отношении искусства, то ее можно назвать тяготеющей к модернизму, а точнее – к позднему символизму. В «Русской молве» были опубликованы четыре материала об акмеизме: два отчета, в которых сохранялся приличествующий жанру объективный тон, грубый выпад против акмеистов Садовского и резкий – Эйхенбаума. С некоторой иронией писала газета о русском футуризме (например, об Игоре Северянине) и с глубоким неприятием – о европейском. Можно говорить о художественных склонностях, или художественной позиции газеты как целого. Позиция «Русской молвы» была умеренно-символистской, или позднесимволистской. И все же в целом следует признать, что эксперимент, предложенный Блоком, ей удался. За 9 месяцев своего существования (с 20 декабря 1912 г. до 19 августа 1913 г. вышло 247 номеров) «Русская молва» дала прекрасный образец качественной прессы, и в частности, литературной журналистики.
Не потому ли и Верховский стал сотрудничать в «Русской молве»? К тому же, он, как историк литературы, изучавший пушкинскую эпоху, прекрасно понимал, что уже тогда (а в начале ХХ в. особенно) литературный процесс складывается прежде всего благодаря журналистике. Вероятно, он и сам не случайно осуществил свой литературный дебют в 1899 г. в «Вестнике Европы», пусть не в «том самом», но в журнале М.М. Стасюлевича. Верховский конечно помнил, что Пушкин (а до него Дельвиг) напечатались в «солидном “Вестнике Европы”» [Поэты пушкинской поры 1919, 2]. «Дружба создает литературу» [Поэты пушкинской поры 1919, 6], – пишет Верховский, и эта формула, как кажется нам теперь, вполне могла прозвучать из уст Ю.Н. Тынянова или даже В.Б. Шкловского. Дальше Верховский в доказательство этого своего положения называет «Мнемозину», «Московский вестник», «Полярную звезду», «Северные цветы», «Литературную газету» и «Современник». А механизм формирования литературного процесса он формулирует даже так:
…именно в ежедневных сношениях завязывалась <…> дружба поэтов <…>. И старшие дружили с молодыми, и особенно, конечно, молодые, новые между собою. «Гражданские бойцы» сходятся с друзьями «чистого искусства»; певцы шумной жизни и тихие мечтатели – «взаимной разнотой» нужны друг другу; классики и романтики расходятся и сходятся вновь. <…> Никогда у нас не бывало стольких истинных поэтов одновременно, как в эту пору их тесного единения. Замечательно, между прочим, одно свойство, общее всем этим писателям и обличающее поистине золотую пору словесного искусства: это свойство – чрезвычайно высокий уровень художественной и в частности поэтической, стихотворческой техники, соединенный с высоким уровнем общего вкуса. В это время изящное чувство меры свойственно и заурядным поэтам.
Не пишет ли тогда третьестепенный, незаметный поэт превосходными стихами? <…>
– Это черты золотого века [Поэты пушкинской поры 1919, 4–5].
Конечно, даже бескорыстный и почти неотмирный, преданный литературе и своим друзьям Верховский не мог не понимать, что литературная обстановка начала ХХ в., особенно 1910-х гг., была далеко не идиллична. Возможно, он идеализировал и пушкинское время. Но что касается высокой поэтической культуры, то ведь эпоха символизма после пушкинской была еще одним мощным взлетом, и теперь не только лирики, но и теории литературы. Это время формирования русской поэтики как науки. Кстати, Верховскому принадлежит одно из ранних ее определений. Получилось так, что антология с его вступительной статьей о поэтах пушкинской поры вышла в 1919 г., одновременно со статьей В.М. Жирмунского «Задачи поэтики», хотя была написана не позднее 1914 г. Занимавшийся в университете у А.Н. Веселовского, переписывавшийся с ним (см.: [Мисникевич 2011]), посвятивший ему в 1906 г. некролог, Верховский определяет поэтику так:
Под последней мы разумеем как совокупность художественных методов и технических приемов, так и систему, теоретически обосновывающую искусство поэзии, наконец, итоги поэтического, творческого самоопределения художника слова. Такой основной принцип приближает нас, между прочим, и к известному уяснению понятий стиля и слога, художественной школы и литературного направления [Поэты пушкинской поры 1919, 11].
И Жирмунский, говоря о системе приемов, тоже через категорию поэтики выходит к понятию стиля: стиль как телеологическое единство приемов, изучение поэтических приемов как системы.
Жирмунскому не пришлось учиться у Веселовского. Но далеко не случайно, что «Историческая поэтика» выходит в 1940 г. именно с вступительной статьей Жирмунского. А в 1913 г. он тоже сотрудничает с «Русской молвой»: правда, нам известна только одна его публикация там.
Третье же ныне републикуемое стихотворение Верховского должно еще раз показать нам, какую роль сыграло обращение поэтов и филологов начала ХХ в. к пушкинской эпохе, и ответить на вопрос, сказались ли здесь поиски новой поэтики.
Порою, в душе запевая,
Волна неудержна, плескучая – И жаждет, тоскуя и мучая, – Воспрянуть, растечься без края.
И мечется бурно, плененная
Стихиею косной и древней:
Все жаждет разлиться напевней, Сквозным серебром опьяненная.
Но редко венчается гимном, В боренье победой певучею: Сразится с гранитною кручею, Расплещется в воздухе дымном [Верховский 1913с].
Здесь некоторая однотипность четырехстопного ямба первых двух стихотворений сменяется амфибрахием. Конечно, когда стихи публиковались не в книге и не в подборке, а на газетной полосе, в разных номерах, вперемежку с другими материалами, преимущественно не поэтическими, эта ритмическая монотонность читателям 1913 г. не была видна. Она заметна только нам сейчас. Но, например, Гумилев, приветствуя в рецензии первую книгу стихов М. Струве «Стая» (1916), все же заметил: «Об отсутствии у него большого поэтического опыта можно догадаться только по косвенным признакам <…> почти все стихи написаны ямбом. Слов нет, ямб прост, подвижен, звучен, с его помощью поэту хорошо гранить мысль, как алмаз на колесе. Но то, что все темы и порывы чувства легко укладываются в ямб, показывает их однообразность. <…> у него нет слов, которые необходимо подчеркнуть в паузных размерах» [Гумилев 1990, 203]. В многочисленных исследованиях «психологии стихотворных размеров», как это тогда называли, о ямбе спорили (восходящий, по Ломоносову; нисходящий, «как бы спускающийся по ступеням», – по Гумилеву). Хорей Гумилев называл самым поющимся, песенным метром. По-разному писали о дактиле. Но относительно анапеста и амфибрахия сходились, кажется, все вплоть до конца ХХ в. «Напряженье нечеловеческой страсти» видел в анапесте Гумилев, и так или иначе анапест и до сих пор продолжает оставаться в русской поэзии метром особенным. Амфибрахий же признан большинством поэтов и теоретиков самым «повествовательным», спокойным, по крайней мере внешне (вспомним «Море» Жуковского, или суждения об амфибрахии И. Бродского, либо ахматовские «библейские» стихи).
Здесь у Верховского в его стихотворении мы имеем дело с философской медитацией. По сути, это вариация на тему тютчевского «Фонтана». Но есть и различия. Тютчев размышляет о конечности человеческой мысли, трагедия его героя в непреодолимости невидимого барьера – у Верховского же «волна» разливается или хочет разлиться в душе героя, но поэт символистского круга не говорит, идет ли речь о творческом вдохновении, – мы только вправе подумать так, но это не очевидно. Однако и волне поставлен предел: это «гранитная круча», она же «стихия косная и древняя», и последний эпитет отсылает нас к Тютчеву, его «древнему хаосу».
Но происходит это у Верховского вряд ли осознанно. Во всяком случае, тут опасности подражательства Верховский избежал. Он не повторяет тютчевского метра, а создает внутреннее напряжение между темой, по существу драматической, и внешне мерным движением амфибрахия, еще подчеркивая «длительность» волны то женскими, то в особенности дактилическими окончаниями. Отметим постоянную любовь Верховского к кольцевой рифме. Еще новое: два катрена – первый и третий – содержат общую рифмовку: плескучая – мучая – певучею – кручею. Вот это, пожалуй, можно рассматривать как «намек о новом», некоторое новаторство Верховского в сравнении с началом XIX в., в котором дактилические окончания еще большая редкость (пример – «Стансы» Рылеева: «Не сбылись, мой друг, пророчества…»). Гаспаров в целом находит у Верховского четыре вида и пять примеров экспериментов: ассонанс («В суровую серую ночь…», 1917); «вольный размер традиционного типа» («Вячеславу Иванову», 1915); полиметрию («Сестры, сестры! Быстро, быстро – вместе, вместе вслед за ним!..», 1910); и, наконец, асимметричные строфы («Земному счастью…» и «Раскрыта ли душа…», 1917) [см.: Гаспаров 2004]. В рассматриваемых нами вновь найденных трех стихотворениях эксперимент, или «намек о новом» почти незаметен. Но они еще раз дают возможность задуматься о «неоклассике» в символизме, о роли периодики в литературном процессе и, в частности, о ценности для истории литературы газеты «Русская молва».
Список литературы Юрий Верховский в газете «Русская молва»
- (а) Верховский Ю. Лист виноградный покраснел… // Русская молва. 1913. № 51. 31 января. С. 4.
- (b) Верховский Ю. Когда по заводи закатной… // Русская молва. 1913. № 162. 26 мая. С. 4.
- (c) Верховский Ю. Порою, в душе запевая... // Русская молва. 1913. № 246. 18 августа. С. 4.
- Верховский Ю. Струны: собрание сочинений. М.: Водолей, 2008. 926 с.
- Гаспаров М.Л. Русский стих начала ХХ века в комментариях. М.: Университет, 2004. 310 с.
- Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. М.: Современник, 1990. 383 с.
- Из материалов к биографии Ю.Н. Верховского: переписка с А.Н. Веселовским 1900–1904 гг. / публ. Т.В. Мисникевич // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2009–2010 годы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2011. С. 615–632.
- Калмыкова В. «Тихая судьба» Юрия Верховского // Верховский Ю. Струны: собрание сочинений. М.: Водолей, 2008. С. 747–818.
- Лавров А. Дружеские послания Вячеслава Иванова и Юрия Верховского // Лавров А. Символисты и другие. Статьи. Разыскания. Публикации. М.: Новое литературное обозрение, 2015. С. 394–425.
- Недоброво Н.В. Стихотворения А. Скалдина // Русская молва. 1913. № 51. 31 января. С. 6.
- Недоброво Н.В. Юрию Никандровичу Верховскому. 19 сентября 1912 г. // Русская мысль. 1915. № 6. С. 29–30.
- Орлова Е.И. Литературная судьба Н.В. Недоброво. М.: ФЛИНТА, 2019. 427 с.
- Орлова Е.И. Статья А. Блока «Искусство и газета» в контексте «Русской молвы» // Новый филологический вестник. 2021. № 4(59). С. 144–155.
- Поэты пушкинской поры. Сборник стихов / под ред. и со вступ. ст. Ю.Н. Верховского. М.: М. и С. Сабашниковы, 1919. 362 с.