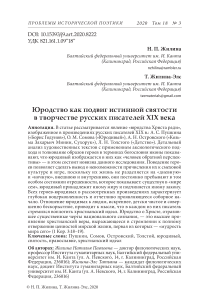Юродство как подвиг истинной святости в творчестве русских писателей XIX века
Автор: Жилина Наталья Павловна, Жилина-Элс Татьяна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.18, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается явление «юродства Христа ради», изображенное в произведениях русских писателей XIX в.: А. С. Пушкина («Борис Годунов»), О. М. Сомова («Юродивый»), А. Н. Островского («Козьма Захарьич Минин, Сухорук»), Л. Н. Толстого («Детство»). Детальный анализ художественных текстов с применением аксиологического подхода и толкование образов героев в терминах богословия иконы показывают, что юродивый изображается в них как «человек обратной перспективы» - в этом состоит новизна данного исследования. Поведение героев позволяет сделать вывод о невозможности причисления их к смеховой культуре и игре, поскольку их жизнь не разделяется на «дневную» и «ночную», внешнюю и внутреннюю, они постоянно пребывают в том особом состоянии отрешенности, которое показывает: существуя в «мире сем», юродивый принадлежит иному миру и подчиняется иному закону. Всех героев-юродивых в рассмотренных произведениях характеризует глубокая воцерковленность и отчетливо проявляющееся соборное начало. Отношение юродивых к людям, искреннее, детски чистое и совершенно бескорыстное, приводит к мысли, что в каждом из них писатель стремился воплотить христианский идеал. Юродство о Христе, отразившее существенные черты национального сознания, - это высшее проявление христианской веры, выражающееся в стремлении к полному отвержению ценностей мирской жизни, первая из которых - «мудрость мира сего» (1 Кор. 3:18-19).
Пушкин, сомов, островский, толстой, юродивый, святость, православие, христианский идеал
Короткий адрес: https://sciup.org/147227211
IDR: 147227211 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2020.8222
Текст научной статьи Юродство как подвиг истинной святости в творчестве русских писателей XIX века
В озникновение «юродства Христа ради» как социокультурного явления ученые единодушно относят к первым векам христианства: первоначально утвердившись в Византии, оно затем получило весьма широкое распространение в православной Руси. В русском общественном сознании тема юродства актуализировалась только во второй половине XIX в., когда этот феномен вызвал интерес и привлек внимание отечественных исследователей. Невозможно не отметить тот факт, что в первых же работах, посвященных его осмыслению (1861 г.), проявилась подчеркнуто светская, критическая позиция [Прыжов]. Однако изданная позднее книга известного историка В. О. Ключевского «Древнерусские жития святых как исторический источник» (1871) носила иной характер: в ней содержались важные сведения о юродстве исторического и источниковедческого характера [Ключевский]. В самом конце XIX — начале XX вв. появились и труды религиозных авторов, в том числе книга священника Иоанна (Ковалевского) [Ковалевский], в которой был проведен детальный, системный анализ православного юродства. В первой половине XX в. в нашей стране по известным причинам эта тема оказалась почти полностью закрытой, а в 1960–1990-х гг. появился ряд статей, в которых юродивые были показаны как мошенники или люди с поврежденной психикой, используемые Церковью для обмана народных масс [Белов], [Будовниц], [Клибанов], [Лавров].
Новым этапом в исследовании отечественной наукой феномена юродства стала работа А. М. Панченко «Смех как зрелище», вошедшая в написанную совместно с Д. С. Лихачевым монографию «“Смеховой мир” Древней Руси» (1976) [Панченко] и вызвавшая полемику в научном мире. В частности, вскоре вышла статья Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского [Лотман, Успенский], в которой авторы утверждали невозможность причисления юродивых к смеховой культуре и игре, указывая на исключительную серьезность их поведения и тем более идеологии. В дальнейшем Б. А. Успенский предложил свою концепцию юродства как дидактического типа антиповедения [Успенский]. Неправомерность интерпретации юродства в контексте смеховой культуры подчеркивал и известный отечественный филолог С. С. Аверинцев [Аверинцев]. Проблема взаимосвязи юродства и смеха была поставлена в работе Ю. В. Манна [Манн], который противопоставил смех юродивого и смех над юродивым амбивалентному карнавальному смеху и отметил, что комическое в литературе Нового времени часто утверждает иерархию ценностей и, следовательно, связано с этикой. В 1997 г. появилась монография Т. А. Недо-спасовой «Русское юродство XI–XVI вв.» [Недоспасова], в которой была предпринята попытка выявить сущность русского юродства и особенности восприятия его окружающим миром, а также реконструировать собирательный образ русского юродивого на основе житийной литературы. Значительным вкладом в исследование феномена юродства стала работа И. А. Есаулова [Есаулов, 2004]. Согласно концепции ученого, глубинную ориентацию русской и западной духовной традиции определяют пасхальный и рождественский архетипы, выделить которые в литературных произведениях оказывается возможным, — в частности, при сопоставлении юродства и шутовства.
В XXI в. в отечественной науке усилился интерес к феномену юродства, прежде всего — в плане системного рассмотрения образа юродивого как типа литературного героя и его воплощения в литературе Нового времени. Появилось несколько диссертаций по этой проблеме [Мартиросян], [Мотеюнайте], [Янчевская], авторы которых, при всем различии поставленных ими целей и задач, выявляли механизмы расширения понятия и показывали, что юродство для русской литературы становится способом воплощения особенностей характера национального героя и построения духовно-нравственного идеала. В 2010 г. была опубликована монография Н. Н. Ростовой «Человек обратной перспективы: опыт философского осмысления феномена юродства Христа ради» [Ростова], которая представляла собой первое в отечественной науке исследование феномена юродства с позиций философской антропологии. Придерживаясь мнения, что юродство олицетворяет собой соборное начало и немыслимо вне христианской церкви, Н. Н. Ростова предложила толкование юродивого в терминах богословия иконы — как «человека обратной перспективы», а его поведение — как «умозрение в поступках». Думается, такой подход может оказаться продуктивным при анализе литературных произведений русских писателей XIX в.
В данной статье материалом для анализа стали художественные тексты, в которых герой получил авторскую номинацию «юродивый»: «Борис Годунов» А. С. Пушкина (1825), «Юродивый» О. М. Сомова (1827), «Козьма Захарьич Минин, Сухорук» (Первая редакция, 1861) А. Н. Островского и «Детство» Л. Н. Толстого (1852).
Начнем наш анализ с рассмотрения повести «Детство» Л. Н. Толстого. Необычный человек, неожиданно появившийся в доме Иртеньевых, увиден глазами десятилетнего Николеньки, выполняющего в произведении роль героя-повествователя. В портрете странника Гриши выделяются детали, бросающиеся в глаза: длинные седые волосы, редкая рыжеватая бородка и очень большой рост. Внимание мальчика привлекают огромный посох и необычная одежда пришедшего:
«…что-то изорванное, похожее на кафтан и на подрясник»1.
Особенное впечатление производят глаза на изрытом оспою лице:
«Он был крив на один глаз, и белый зрачок этого глаза прыгал беспрестанно и придавал его и без того некрасивому лицу еще более отвратительное выражение» ( Толстой : 32).
Удивляет и странное поведение путника:
«Войдя в комнату <…> он захохотал самым страшным и неестественным образом…» ( Толстой : 32).
Взгляд ребенка в повести незаметно сменяется точкой зрения этого же героя, но уже взрослого, а конкретика впечатления переходит в рассуждение по поводу биографии странника:
«Откуда был он? кто были его родители? что побудило его избрать странническую жизнь, какую он вел? Никто не знал этого. Знаю только то, что он с пятнадцатого года стал известен как юродивый, который зиму и лето ходит босиком, посещает монастыри, дарит образочки тем, кого полюбит, и говорит загадочные слова, которые некоторыми принимаются за предсказания, что никто никогда не знал его в другом виде, что он изредка хаживал к бабушке и что одни говорили, будто он несчастный сын богатых родителей и чистая душа, а другие, что он просто мужик и лентяй» ( Толстой : 33).
Так появляется характеристика юродивого, в которой представлены типичные черты людей этой социальной группы: необычный внешний вид (всегда рваное одеяние, отсутствие обуви), загадочное косноязычие, непонятное поведение. Кроме того, передано неоднозначное восприятие окружающими этого человека: «…одни говорили <…> а другие…». В семье Иртеньевых также нет единства мнений: отец считает, что весь образ жизни странника основан на прямом обмане, матушка же приводит свои, очень веские доводы в его защиту:
«…трудно поверить, чтобы человек, который, несмотря на свои шестьдесят лет, зиму и лето ходит босой и, не снимая, носит под платьем вериги в два пуда весом и который не раз отказывался от предложений жить спокойно и на всем готовом, — трудно поверить, чтобы такой человек все это делал только из лени» ( Толстой : 35–36).
Опыт ее жизни свидетельствует о прозорливости таких людей, а может быть, и об их ясновидении, ведь один из них, по ее словам, «день в день, час в час предсказал покойнику папеньке его кончину» ( Толстой : 36). Таким образом, в отношении родителей к людям такого типа отражается та противоположность мнений, которая существовала в обществе. За обедом странник вспоминает об охотнике, который пытался затравить его собаками: такие случаи были нередки, юродивые терпели не только различные унижения, но и физическое насилие, результатом чего могла быть и смерть. Их отношение к этому было неизменным: по точному замечанию И. А. Есаулова, юродивый «терпит побои, лишения — и молится за своих обидчиков» [Есаулов, 2004: 160].
Рассказывая о страшном событии, странник Гриша также просит отца Николеньки не наказывать этого охотника. Старшему Иртеньеву, впервые узнавшему об этом эпизоде, такая просьба представляется лишенной всякой логики и вызывает иронию: «Почем же он знает, что я хочу наказывать этого охотника?» ( Толстой : 35). Так выявляется еще одна особенность, присущая юродивым: алогичное мышление, совмещающее различные по времени и месту события и людей.
Спор между родителями прерывается с окончанием обеда, но для читателя знакомство с Гришей на этом не кончается. По предложению главного героя, дети пробираются вечером в чулан, чтобы подглядеть Гришины вериги, и становятся свидетелями уединенной молитвы юродивого в отведенной ему на ночь комнате. Внимательно наблюдающий за всем Николенька отмечает каждую деталь, каждый жест странника и видит перемену, произошедшую с ним:
«Лицо его теперь не выражало, как обыкновенно, торопливости и тупоумия; напротив, он был спокоен, задумчив и даже величав» ( Толстой : 51–52).
По наблюдениям мальчика, молитвенное состояние Гриши проходит несколько этапов: сначала он «молча стоял перед иконами», «опустив голову и беспрестанно тяжело вздыхая», потом, опустившись на колени, стал тихо говорить «известные молитвы», повторяя их снова и снова, а затем:
«…начал говорить свои слова, с заметным усилием стараясь выражаться по-славянски. Слова его были нескладны, но трогательны. Он молился о всех благодетелях своих (так он называл тех, которые принимали его), в том числе о матушке, о нас, молился о себе, просил, чтобы Бог простил ему его тяжкие грехи, твердил: “Боже, прости врагам моим!” — кряхтя поднимался и, повторяя еще и еще те же слова, припадал к земле и опять поднимался, несмотря на тяжесть вериг, которые издавали сухой резкий звук, ударяясь о землю» ( Толстой : 52).
Николенька следит за всеми движениями и словами Гриши «с чувством детского удивления, жалости и благоговения», и его настроение неожиданно меняется:
«Вместо веселия и смеха, на которые я рассчитывал, входя в чулан, я чувствовал дрожь и замирание сердца» ( Толстой : 52).
Особенное впечатление произвела на мальчика полнота самозабвения юродивого, — он произносил следующие слова:
«“Прости мя, Господи, научи мя, что творить… научи мя, что творити, Господи!” — с таким выражением, как будто ожидал сейчас же ответа на свои слова <…> “Да будет воля Твоя!” — закричал он вдруг с неподражаемым выражением, упал лбом на землю и зарыдал, как ребенок» ( Толстой : 53).
Точку зрения мальчика вновь сменяет сознание повзрослевшего рассказчика, пронесшего эти воспоминания через много лет. Временная дистанция и накопленный за прошедшие годы опыт позволяют еще сильнее ощутить все пережитое в те минуты и понять глубокую искренность чувств, переполнявших тогда душу юродивого:
«О великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога, твоя любовь так велика, что слова сами собою лились из уст твоих — ты их не поверял рассудком… И какую высокую хвалу ты принес Его величию, когда, не находя слов, в слезах повалился на землю!‥» ( Толстой : 53).
Эта оценка оказывается тем более важной, что исходит от человека, уже утратившего веру в Бога и отошедшего от церкви, о чем читатель узнает из дальнейших событий трилогии.
Описание толстовского странника помогает также понять волновавшую многих исследователей проблему: безумен ли юродивый в медицинском смысле слова или он публично симулирует сумасшествие, и его безумие притворно, являясь только личиной, используемой для определенных целей? При ответе на этот вопрос необходимо учитывать важный факт: в житиях всех святых юродивых обязательно указывалось, что они в той или иной форме получили благословение на свой подвиг. Христианская традиция в целом определяет юродство как мнимое безумие и подчеркивает в них ясное сознание и душевное здоровье [Живов: 106], [Христианство: 286–287].
С другой стороны, правомерно ли думать, что юродивый в чьем-то присутствии как бы «надевает маску», которую снимает, оставшись наедине? В повести Толстого содержится недвусмысленный ответ на этот вопрос. Искренность странника Гриши ни на людях, ни в уединении не может быть подвергнута сомнению, тем более что все происходящее увидено глазами ребенка, в художественных произведениях метафорически воплощающего в себе душевную чистоту и тонкую интуицию, что в полной мере относится и к герою Толстого. В довершение нельзя не отметить, что в той, по мнению мальчика, «нелепице», которую они услышали от Гриши в столовой, через некоторое время раскрылся тайный смысл, а высказанная матушкой Николеньки мысль о прозорливости юродивых нашла свое подтверждение. «О-ох жалко! О-ох больно!‥ сердечные… улетят», «Жалко!‥ улетела… улетит голубь в небо… ох, на могиле камень!‥», — эти бессвязные непонятные слова, произнесенные «дрожащим от слез голосом» (Толстой: 32–34), как потом оказалось, относились к детям, которые в скором времени потеряют мать и «улетят» из родного дома навсегда.
Так в повести Толстого разрешился спор не только о страннике Грише, но и о сущности юродства Христа ради как явления.
Несомненным даром ясновидения наделен и персонаж повести Ореста Сомова «Юродивый» (1827), сюжетная организация которой имеет в своей основе ситуацию прозрения. Хотя главным героем повести является офицер Мельский, недавно переведенный в эти места, ее заглавие ставит в центр повествования другого персонажа — странного, необычного, воспринимаемого окружающими как ненормальный, дурачок, полоумный. Знакомство с ним Мельского происходит ночью, когда молодой офицер, возвращавшийся из загородной поездки, чуть не наехал на своей лихой тройке на какой-то черный предмет и обнаружил, что это человек:
«…он лежал на краю дороги, поджав ноги под платье и укутав голову рукою, и, казалось, спал крепким сном»2.
Когда человек встал на ноги, кучер узнал его:
«— А, да это наш полоумный, — вскричал кучер, очнувшись от страха, — в городе зовут его Василь дурный » ( Сомов : 88).
Когда же Мельский послал кучера поискать лошадей, то услышал предсказание юродивого: «Ступай! <…> Найдешь и не возьмешь; отзовутся и не дадутся» (Сомов: 88), которое затем исполнилось в точности. Позже Мельский становится свидетелем его разговора с часовым на городской заставе, где снова обнаружились особые, тайные знания полоумного. Воспитанный «в нынешнем веке и по-нынешнему, следовательно, вовсе без предрассудков» (Сомов: 88), молодой офицер с удивлением понимает, что столкнулся с некой загадкой; решив разобраться, он заводит разговор с необычным человеком:
«— Где ты живешь? — спросил он у полоумного.
— Под небом на земле, — отрывисто отвечал Василь.
— Верю; но где твой дом?
— Здесь нет; а там! — сказал юродивый, подняв палку вверх и очертя ею полкруга в воздухе» ( Сомов : 89).
В ходе первой же встречи центрального героя со странным человеком становится ясно, что главный «недостаток ума» проявляется в его нежелании жить согласно общепринятым житейским правилам. Мельский быстро понимает, что Василь, отказавшийся от практического «разума», обладает несравнимо более глубоким, проникающим в запредельное пространство умом, выделяющим его из всех окружающих. Предложив юродивому переночевать, Мельский приводит его к себе на квартиру:
«Весело, светло, красно! — сказал он, войдя в комнату. — Много казны, много казны! — и запел старинную песнь о блудном сыне :
“О горе мне, грешнику сущу!
Горе, благих дел не имущу!”» ( Сомов : 90).
Иносказательность, притчевая образность, свойственная речи юродивого, долгое время остается непонятной Мельско-му, который продолжает вести прежний образ жизни, несмотря на предупреждения Василя, сделанные в своеобразной форме. Не вняв непонятным для него словам странника, Мельский отправляется на бал, где неожиданно получает вызов на дуэль от незнакомого офицера.
В описании дуэли ярче всего показано необычное поведение юродивого: неожиданно появившись на месте поединка, он в решающий момент оказывается между противниками, пытаясь остановить их, — и падает, сраженный пулей артиллерийского офицера. В этот момент читателю становятся понятны странные фразы Василя, сказанные им во время последней встречи с Мельским: предвидя будущие события, юродивый пытался предостеречь его от поездки на бал, но не смог. Помогая раненому, оба дуэлянта оказались рядом, выяснили истинную причину вызова и согласились на примирение. Наклонившись к раненому, Мельский услышал его слова:
«Я знал, чем кончится, — говорил Василь слабым, но внятным голосом, — Бог положил это мне на сердце. Я знал, что поведу тебя на могилу твоей тетки: ты с приезда сюда не был еще у нее на могиле. Добрая, добрая была у тебя тетка: любила нищую братию и много ее наделяла. Василь был от нее и сыт, и одет, и пригрет!‥ Десять лет как она отошла к Отцу Небесному… Оттого и тебя полюбил я с первого взгляда, хотел узнать тебя поближе, да тебе было не до меня: суета сует закружила тебя. Я хотел отблагодарить за хлеб-соль твоей тетки; сказал, что помешаю тебе лежать, — и помешал» ( Сомов : 102).
Особым образом подчеркивается в повести отношение юродивого к жизни и смерти: он находится в том внутреннем состоянии, когда смерть ощущается всего лишь как переход из одного измерения в другое.
Сюжетная ситуация прозрения воплощена в повести и композиционными средствами: читатель знакомится с главным героем, когда он весело едет из поездки в гости, — расставание же происходит в тот момент, когда он грустно возвращается с кладбища после похорон. Человек, появившийся в эти несколько дней в жизни Мельского, заставил его задуматься о ее смысле, об истинных и ложных ценностях, о мире дольнем и мире горнем . Отношение юродивого к людям, искреннее, детски чистое и совершенно бескорыстное, как это видно на примере с Мельским, приводит к мысли, что Орест Сомов стремился создать в повести образ человека, заключающего в своей душе христианский идеал.
Небольшая по объему роль юродивого в пьесе А. Н. Островского «Козьма Захарьич Минин, Сухорук» (Первая редакция, 1861) имеет огромный смысл и занимает важное место в ее сюжетной и идейной структуре. События драматической хроники разворачиваются в Нижнем Новгороде в Смутное время, летом 1611 г., когда Москва уже занята поляками, а государство близко к распаду. Экспозиция в пьесе организована так, что из разговора двух купцов зрителю становится понятно общее положение вещей и настроения в народе. Часть нижегородцев, вдохновленная земским старостой Козьмой Мининым, который «разумными речами утверждает / В народе крепость»3, готова вступить в ополчение, чтобы двинуться на Москву:
«Да либо помереть уж, либо Русь От иноземцев и воров очистить, От всякой погани» ( Островский : 11).
Другие горожане, прежде всего зажиточные купцы, видя в таких призывах безусловную опасность для своего положения, сомневаются, следует ли вмешиваться:
«Не трогают, так и сидеть бы смирно.
Куда уж лезть!» ( Островский : 11).
Появление в этот момент на сцене юродивого Гриши переводит действие в иной регистр: метафорически наполненная речь мальчика, неясная для окружающих, оказывается понятной зрителям, поскольку определяет вектор будущих событий. Центральным в словах юродивого становится образ дороги, почти сказочной, такой длинной, что если «встанет — / так до неба достанет. Все песками / Сыпучими да темными лесами / Дремучими» ( Островский : 17). На вопрос «Куда ж дорога, Гриша?» он отвечает:
«К честным обителям. <…> Один пойдешь? <…> Нет, много, много» ( Островский : 17).
Выясняется, что все последнее время он и подаяние просит, формулируя вполне определенно: «Подайте на дорогу!» ( Островский : 16), а необходимость путешествия толкует так:
«…храмы там без богомольцев, Без пения» ( Островский : 18).
Тонкий и наблюдательный Минин заметил перемену, произошедшую с недавних пор в юродивом:
«Прослышал он про разоренье наше, И слабый ум в нем больше помутился; Еще он тише стал, еще святее, И все сбирается куда-то, денег Все на дорогу просит. И за мной Он следом ходит и в глаза мне смотрит, Как будто он прочесть в них хочет что-то Иль ждет чего» ( Островский : 45).
И поступками, и словами Гриша как будто подталкивает народ к действию, а когда нижегородцы, исполненные решимости, собираются на площади, неся свои «животишки», отдавая нажитое добро для создания ополчения, на лобном месте появляется и юродивый:
«Вот денежки! Копеечки! Возьмите! Их много, много!» ( Островский : 114).
Только теперь становится понятна его прозорливость, и горожане оценивают «малоумного» по достоинству:
«Вот он собирал
Все на дорогу-то! — Выходит, правда. —
Уж эти деньги, братцы, всех дороже» ( Островский : 114).
Подняв юродивого по его просьбе над толпой, чтобы дать ему доступ к свету, нижегородцы оказываются способны увидеть то, что он воспринимает внутренним зрением:
«Обители, соборы, много храмов, Стена высокая, дворцы, палаты, Кругом стены посады протянулись, Далеко в поле слободы легли, Всё по горам сады, на церквах главы Всё золотые. Вот одна всех выше На солнышке играет голова, Река, как лента, вьется… Кремль!‥ Москва!‥»
( Островский : 115).
Пьеса завершается проводами ополчения, в рядах которого юродивый с оружием отправляется освобождать Москву:
«Народ:
— Прощайте, божьи воины! — Помоги вам Господь! — Вы за нас страдальцы, а мы за вас богомольцы!» ( Островский : 138).
В составе действующих лиц драматической хроники Островского два героя кардинально отличаются от всех остальных. Один — Козьма Захарьич Минин, обыкновенный земский староста, из торгового сословия, обладающий способностью чувствовать чужое как свое и понявший, что лишь великим молитвенным трудом можно очистить свою душу настолько, чтобы вывести людей из обыденного строя жизни и поднять их на подвиг:
«Молись да жди, пока Господь сподобит Тебя такую веру ощутить
В душе твоей, что ты не усомнишься С горами речь вести и приказать Горам сползти с широких оснований И двинуться к тебе, и будешь верить, Что двинутся; тогда покинь свой дом, Себя забудь…» ( Островский : 53).
Именно так — забыв себя, свою семью и весь строй прежней жизни, он сумел добиться высокой цели — спасения страны. Другой герой — юродивый Гриша, которому такая отрешенность от всего житейского и суетного, как и возможность духовного единения со всем миром, изначально дарована свыше. Соборное начало, присущее, как известно, православной ментальности (см.: [Есаулов, 1995]) и особенно сильно проявляющееся в кризисные периоды, в драматической хронике Островского наиболее ярко воплощают в себе эти два персонажа: спаситель Отечества Козьма Минин и «божий человек» с «нехитрым разумом» ( Островский : 45) — юродивый мальчик Гриша.
Вероятно, самым известным юродивым в русской литературе является Николка из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» (1825). Он появляется лишь в одной сцене, и вся его роль состоит из семи коротких реплик: диалога со старухой, подавшей ему копеечку с просьбой помолиться за нее, с мальчишками, отнявшими эту копеечку, и, наконец, с царем:
«Юродивый.
Борис, Борис! Николку дети обижают.
Царь.
Подать ему милостыню. О чем он плачет? Юродивый.
Николку маленькие дети обижают… Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича.
Бояре.
Поди прочь, дурак! схватите дурака!
Царь.
Оставьте его. Молись за меня, бедный Николка. ( Уходит ).
Юродивый ( ему вслед ).
Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит»4.
Ученые уже не раз отмечали, что в этих словах нет разоблачения, делающего тайное явным. Николка повторяет то, что «уж не ново», о чем говорят все персонажи с первой сцены. Однако именно «юродивый впервые в трагедии говорит убийце правду в лицо и провозглашает приговор “божьего суда”: отказ в молитве, запрещение Богородицы означает, что осужденный лишается всякой поддержки свыше и передается в руки “суда мирского”» [Непомнящий: 226–227].
По мере того как изучалось поведение юродивых, в научной литературе сложилось мнение, что их необычные поступки, смелые высказывания в адрес власть имущих были особой формой социального протеста. В произведениях Л. Толстого, О. Сомова, А. Островского такие ситуации отсутствовали, но у Пушкина она является важнейшей в сюжете. Одна из самых глубоких и точных ее интерпретаций принадлежит авторитетному отечественному пушкинисту В. С. Непомнящему, который убедительно показывает, исследуя структуру пушкинской трагедии, что речь Николки несет в себе не социальный, а неизмеримо более глубокий смысл. По мысли ученого, Юродивый, как и летописец Пимен, занимает особое положение среди всех действующих лиц пьесы: у этих персонажей «пророческая миссия», в них «показан закономерный, провиденциальный характер возмездия» [Непомнящий: 227], они передают «вопль совести народной» и даны в трагедии «как представители высшей правды» [Непомнящий: 231].
Итак, во всех рассмотренных произведениях персонажи-юродивые показаны авторами в определенном ключе. Прежде всего, им не свойственно то состояние, которое в словаре В. И. Даля обозначено словом « юродствовать », т. е. «напускать на себя дурь, прикидываться дурачком, как делывали встарь шуты; шалить, дурить» [Даль: 669]. Все они воплощают в себе именно религиозный феномен — юродство о Христе. Кроме того, никто из этих героев на протяжении событий не позволил себе каких-либо поступков «безумного человека, не знающего ни приличия, ни чувства стыда», и не допустил когда-либо «соблазнительные действия» [Христианство: 287]. Видимо, каждый из писателей в образе юродивого стремился показать, прежде всего, определенную сторону, чтобы не заронить в читателе никаких сомнений по поводу благочестия своего персонажа.
В то же время всех героев-юродивых в рассмотренных произведениях характеризует глубокая воцерковленность. Показательно, что их жизнь не разделяется на «дневную» и «ночную», внешнюю и внутреннюю, никто из них не надевает на людях личину безумия, чтобы снять ее наедине с собой, — они постоянно пребывают в том особом состоянии внутренней отрешенности, которое показывает: существуя в «мире сем», юродивый принадлежит иному миру и подчиняется иному закону. Именно об этом законе первый богослов Церкви ап. Павел писал, что он заключает в себе «для Иудеев соблазн, а для Еллинов — безумие» (1 Кор. 1:23): в то время как в языческих религиях приносились жертвы (нередко человеческие) богам, чтобы магическим образом на них воздействовать, в христианстве Бог принес Себя в жертву ради спасения людей, ничего не требуя взамен: «Жертва Богу — дух сокрушенный» (Пс. 50:19). Новый закон вводил и новое — небесное — измерение, и новую цель земной жизни: не достижение власти над соплеменниками, краем, государством или даже всем миром, не добывание всех возможных материальных благ, а стяжание Святого Духа и обретение Царствия Небесного в своей душе.
С точки зрения языческого здравого смысла несомненным безумием выглядел призыв возлюбить ближнего как самого себя, прощать всем обиды несчетное количество раз и воспринимать себя как самого большого грешника на земле. И уж совершенно невозможной казалась идея возлюбить Бога больше, чем с а́ мого любимого человека, и — в пределе — оставить все и следовать за Ним. Для языческого сознания все это было противно разуму и воспринималось как настоящее с ума сше-ствие , на которое мог быть способен только юрод , т. е. глупый, неразумный человек.
С философской точки зрения, «подобно двум типам живописи существуют и сосуществуют два взгляда на мир, два опыта жизни, два отношения к реальности — внешнее и внутреннее, линейно-перспективное и определенное обратной перспективой. Линейно-перспективное толкование мира предполагает индивидуализм, рационализм, секуляризацию, гуманизм, просвещение, наличие в мире причинно-следственных связей и следование им. Это мир нормированный, объясненный цепочкой причин и следствий. Обратная перспектива нарушает эту цепь, меняет звенья местами» [Ростова: 115]. Как иконописец, применяя принцип обратной перспективы [Флоренский], сознательно лишает себя точки наблюдения как центра в и́ дения, так юродивый отказом от своего «эго», от так называемой «самости» становится «божевольным» (т. е. полностью отдающимся воле Божией), достигая почти невозможной цели: поставить в центр собственной личности Бога. Всем своим поведением юродивый «утверждает высшую субстанциальность — Божественную волю» [Есаулов, 2004: 162].
В рассмотренных выше произведениях русских писателей со всей определенностью показывается, что юродство о Христе, отразившее существенные черты национального сознания, — это высшее проявление христианской веры, выражающееся в стремлении к полному отвержению ценностей мирской жизни, первая из которых — «мудрость мира сего» (1 Кор. 3:18–19). Слова апостола Павла «мы безумны Христа ради» (1 Кор. 4:10) имеют самое прямое отношение к любому верующему во Христа, но достичь всей полноты такого «безумия» способен только юродивый.
Список литературы Юродство как подвиг истинной святости в творчестве русских писателей XIX века
- Аверинцев С. С. Бахтин и русское отношение к смеху // От мифа к литературе: сборник в честь 75-летия Е. М. Мелетинского — М.: Рос. ун-т, 1993. — С. 341-345.
- Белов А. Христа ради юродивые // Наука и религия. — 1984. — № 6. — С. 32-46.
- Будовниц И. У Юродивые Древней Руси // Вопросы истории религии и атеизма. — М.: Наука, 1964. —Т. 12. — С. 183-197.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. — М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1955. — Т. 4. — 684 с.
- Живов В. М. Святость. Краткий словарь агиографических терминов. — М.: Гнозис, 1994. — 112 с.
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. — 288 с.
- Есаулов И. А. Юродство и шутовство в русской литературе // Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. — М.: Кругъ, 2004. — С. 155-185.
- Клибанов И. А. Юродство как феномен русской средневековой культуры // Диспут. — 1992. — № 1 (январь—май). — С. 46-63.
- Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. — М.: Астрель, 2003. — 394 с.
- Ковалевский И. Юродство о Христе и Христа ради юродивые Восточной и Русской церкви: Исторический очерк и жития сиих подвижников благочестия. — М.: Б. и., 1902. — 183 с.
- Лавров В. Юродивые, прорицатели и другие // Москва. — 1988. — № 3. — С. 163-166.
- Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Новые аспекты изучения культуры Древней Руси // Вопросы литературы. — 1977. — № 3. — С. 148-167.
- Манн Ю. В. Карнавал и его окрестности // Вопросы литературы. — 1995. — Вып. 1. — С. 154-182.
- Мартиросян О. А. Юродство в русском литературном сознании: авто-реф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. — Архангельск, 2011. — 21 с.
- Мотеюнайте И. В. Восприятие юродства русской литературой XIX-XX вв.: дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.01. — Псков, 2006. — 304 с.
- Недоспасова Т. А. Русское юродство XI-XVI вв. — М.: ЛитРес, 1997. — 128 с.
- Непомнящий В. С. «Наименее понятый жанр» // Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. — М: Сов. писатель, 1983. — С. 212-250.
- Панченко А. М. Смех как зрелище // Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» Древней Руси. — Л.: Наука, 1976. — С. 91-194.
- Прыжов И. Г. Нищие и юродивые на Руси. — СПб.: Авалонъ, Азбука-классика, 2008. — 256 с.
- Ростова Н. Н. Человек обратной перспективы: Опыт философского осмысления феномена юродства Христа ради. — М.: МГИУ 2010. — 140 с.
- Успенский Б. А. Антиповедение в культуре Древней Руси // Проблемы изучения культурного наследия. — М.: Наука, 1985. — С. 326-336.
- Флоренский П. А. Обратная перспектива // Флоренский П. А., свящ. Сочинения: в 4 т. — М.: Мысль, 1999. — Т. 3 (1). — С. 46-101.
- Христианство: энциклопедический словарь: в 3 т. / гл. ред. С. С. Аве-ринцев. — М.: Научное изд-во «Большая Российская энциклопедия», 1995. — Т. 3. — 783 с.
- Янчевская К. А. Юродство в русской литературе второй половины XIX в.: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. — Барнаул, 2004. — 195 с.