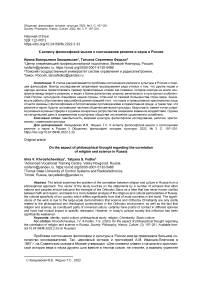К аспекту философской мысли о соотношении религии и науки в России
Автор: Хвощевская Ирина Валерьевна, Федько Татьяна Сергеевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема соотношения религии и культуры в России с позиции философии. Вектор исследования затрагивает высказывания ряда ученых о том, что другие нации и народы должны приветствовать пример православных славян как племени, которое никогда не знало конфликта между верой и разумом, и ведет к более детальному анализу религиозных и культурных особенностей России, культурной специфики нашей страны, отличной от таковой большинства стран мира. Значимость работы обусловлена масштабной демонстрацией того, что наука и православное христианство лишь отчасти связаны с философскими и богословскими противоречиями в православной среде, а также тем, что религия и наука, будучи составными частями общечеловеческой культуры, безусловно, имеют точки соприкосновения в разных сферах и в рамках конкретных ретроспектив оказывали взаимное воздействие. Однако на сегодняшний день в современном культурном обществе это влияние существенно ослаблено.
Самобытность, мировая культура, философское исследование, религия, христианство, славянская культура
Короткий адрес: https://sciup.org/149139899
IDR: 149139899 | УДК: 1:[2+001]
Текст научной статьи К аспекту философской мысли о соотношении религии и науки в России
друг друга. <…> Первые столпы веры были и первыми научными деятелями»1. Он имел в виду не естествоиспытателей, а святых Кирилла и Мефодия, которые в IX в. изобрели глаголицу.
В начале второго тысячелетия византийская административная и интеллектуальная жизнь формировалась в Киевской Руси, но в 1448 г. Русская православная церковь фактически заявила об автокефальном статусе, когда поставила нового митрополита без одобрения Константинополя, находившегося в то время под угрозой со стороны османов. В отличие от латинского Запада становление идентичности политических и религиозных общин предполагалось намного позже. Как подчеркивал Е. Николаидис, греческие знания оставались центральным элементом интеллектуальной жизни ранних москвичей (2011: 140–150)2.
К концу XVII в. латинская традиция также способствовала усилению интеллектуального брожения в семинариях в Киеве и Москве. В медицине и фармации московский двор содействовал сложным взаимодействиям с Европой (Griffin, 2011).
В поколении, предшествовавшем вступлению на престол молодого Петра I в 1689 г., раздробление церковной иерархии в результате ожесточенных богословских и литургических споров в итоге позволило ему стать не только царем, но и действительным главой Церкви. Известно, что Петр проявлял интерес к миру в целом, чего не наблюдалось со стороны предыдущих московских правителей. Факты свидетельствуют о том, что он стремился к церковным реформам, но опирался на приобретенное идиосинкразическое понимание лютеранской церкви в Северной Европе (Collis, 2012).
Самым известным союзником Петра был Феофан Прокопович, хорошо разбиравшийся в польских, итальянских и немецких богословских работах. Они оба находили аспекты пиетизма привлекательными. Феофан Прокопович являлся значимым покровителем Академии наук после смерти Петра в 1725 г., а позже считался основателем научной апологетики (Collis, 2012). Однако постоянное соперничество вокруг престола при преемниках Петра оставляло мало места церковным и научным учреждениям для развития автономии или продуктивных институциональных взаимодействий.
Духовное положение 1721 г., как и проект Академии наук 1724 г., следует трактовать как эклектичные русские варианты просвещенного абсолютизма, понимаемые как лейбницианские «коллегии» в бюрократическом смысле. Действительно, Священный синод и Академия наук со временем стали зеркальным отражением друг друга, поскольку научились выступать перед государственными властями единым фронтом, опасаясь, что любые внутренние разногласия будут урегулированы только в суде. Это также имело давние дисциплинарные последствия, потому что новый университет, подчиняющийся академии, должен был включать право, медицину и философию, но не богословие3.
В этом квазикамералистском контексте философия России XVIII и начала XIX в. пыталась служить для ряда предметов точкой интеграции с понятием божественного порядка. Новые университеты начала XIX в. также не могли оказать большой помощи натурфилософии, поскольку они были учреждены с отдельными факультетами, объединяющими физиологические, химические, минералогические, физические и математические предметы. Эти университеты с самого начала были интернациональными, а Французская революция и Наполеоновские войны привели аристократических русских православных представителей Просвещения к контактам с немецкоязычными католиками в эмиграции, чья роль в формировании этой новой интеллектуальной среды недостаточно изучена.
Опытные русские естествоиспытатели, считавшие свою работу свидетельством непрекра-щающегося Провидения, могли с готовностью принять И. Канта и особенно Ф. Шеллинга как источник вдохновения для натурфилософии, выходящей за рамки камеристской полезности, но они сделали это, не понимая спорного богословского контекста, в котором оказались немецкие философы.
Философы в 1820-е гг. терпели множество унижений от рук министерских властей, тогда как ученые (естествоиспытатели), такие как М. А. Максимович и М.Г. Павлов, были в значительной степени свободны в распространении натурфилософии на своих условиях4.
Австрийский математик-эмигрант Н.Д. Брашман (1796–1866) считал науку более зрелой, чем философия, а математику – пропедевтической для правильного суждения, призывая ученых делать свой выбор в пользу философии с учетом православных ценностей1.
Историк-провиденциалист С. Соловьев (1820–1879) никогда не сомневался в гармонии между (позитивистской исторической) наукой и религией. Возможно, он сделал больше, чем любой другой ученый, чтобы проложить путь светскому пониманию прогресса, найденному у Г.Т. Бокля, пользовавшегося огромной популярностью в России2.
Мало кто из естествоиспытателей во второй половине XIX в. занимался вопросом об отношениях между наукой и (православным) христианством, в период, когда «индифферентизм» вошел в русский лексикон. Однако другие ученые считали, что у них есть равные основания для взвешивания. По выражению петербургского семинариста Н.П. Рождественского, даже высокомерные рационалисты признавали, что православная церковь никогда не была враждебна науке, но он имел в виду утверждение о достоверности богословия по отношению к другим дисциплинам: «Если теология не может взять на себя обучение физиологов, химиков, геологов или ботаников, то, с другой стороны, естествознание не может претендовать на понимание и толкование Священного Писания»3.
Его беспокоила не столько значимость работы какого-либо ученого о православной вере, сколько торопливость, с которой либеральные богословы привязывали свои повозки к последнему слову науки, не обращая внимания на мимолетность многих научных теорий. Для него никакая наука, отвечающая своему истинному назначению, не может быть антирелигиозной, хотя он сознавал относительную близость и интересовался в первую очередь отношением между «науками» богословия и философии4.
Спустя годы после «Истории интеллектуального развития Европы» Дж. Дрейпера5 в России было опубликовано несколько работ по смежным темам, но ни одной работы естествоиспытателей.
Граф П.А. Валуев, бывший министром внутренних дел и разочарованным реформатором, написал в 1886 г. брошюру о религии и науке, взяв за основу образ конфликта только для того, чтобы возразить против него6.
Выдающийся либеральный ученый-правовед Б. Чичерин в 1879 г. выступил с большим томом о науке и религии, но его метафизические размышления были в значительной степени встречены с пренебрежением во всем политическом спектре7.
Н.П. Рождественский как наиболее компетентный практик апологетики чаще привлекал в качестве собеседников филологов и антропологов наряду с А. Шопенгауэром или Э. Гартманом. Российские религиоведы, участвовавшие в дебатах, регулярно упоминали имена современных ученых как положительных участников, от М. Фарадея и Ю. Либиха до Л. Пастера и Р. Вирхова, но единственным русским был хирург и педагог-реформатор Н. Пирогов8.
В тот период даже консервативный московский физик Н.А. Любимов, порицаемый за враждебное отношение к университетским реформам, воспринял общепринятое современное повествование о суде над Галилеем как триумф «нового мировоззрения». В остальном его не интересовали никакие православные апологетические рамки современной науки.
Научно-религиозная проблематика не совсем отсутствует, а скорее имеет место в ином регистре в дореволюционной России. Относительно плоский и недифференцированный дисциплинарный ландшафт изначально сочетался с живой и разнообразной издательской средой «толстых журналов», что мешало академическому ученому торговать различиями между специализированной и популярной аудиториями. Не было надежного способа сослаться на публичный авторитет науки, когда на кону стояли и вопросы веры, даже если протагонисты в значительной степени разделяли общие предпосылки.
В русской мысли столь же мощной стала противоположная крайность, когда религиозное знание было лишь частным проявлением универсальной философии. Величайший русский философ В.С. Соловьев обучался морфологии растений и сравнительной анатомии, он был тем редким русским студентом, который погрузился в академическую философию, чтобы достичь более глубокого понимания этих дисциплин. Еще в «Критике абстрактных принципов» (1880 г.) он стремился поставить теологию во внутреннюю связь с философией и наукой и таким образом организовать всю область истинного знания в полную систему свободной и научной теософии1.
Стремление В.С. Соловьева возвысить знание за счет веры действительно отдалило его от православного течения, но его гностические наклонности были далеко не чужды многим его современникам. В ограниченном смысле можно сказать, что В.С. Соловьев участвовал в научнорелигиозном дискурсе, обновляя Ф. Шеллинга и реинтегрируя (позитивное) эмпирическое знание и (абстрактное) рациональное знание на уровне имманентного коллективного сознания.
Религиозное возрождение в России в конце века еще больше усложняет эту картину, не в последнюю очередь потому, что российские ученые пересмотрели европейские концепции востоковедения посредством собственных исследований ислама, буддизма и местных практик многих культур империи. Хотя религиозные практики, о которых идет речь, обычно не были православными, а царская политика даже после революции 1905 г. оставляла мало места для гражданского общества, востоковедение подпитывало период синкретических экспериментов, которые способствовали возникновению современного дискурса о религии как частной жизни, а не публичной.
Внутри монашеских орденов определенные круги начали агитировать, хотя и без особого успеха, за дистанцирование Святейшего синода от государства. Имябожное движение, исследованное Л. Грэмом и Ж.-М. Кантором (Graham, Kantor, 2009) в связи с религиозной чувствительностью математика Д. Егорова, представляет собой важную точку входа в более широкую проблему модернизации среди православной интеллектуальной элиты.
На уровне антропологических практик мы видим пространство для дальнейшего исследования того, как естествоиспытатели, преодолевшие революционный раскол, могли принять религиозное равнодушие или атеизм в качестве элементов своей профессиональной идентичности. Тем не менее необходимо позаботиться о том, чтобы не использовать антирелигиозность как потенциальный маркер новых социальных отношений науки в рамках мертоновской науки против идеологии.
Трудная линия исследования, которая начинается со сталинского отступления к автаркии и возвышения диалектического материализма и лысенковского волюнтаризма до квазирелигиоз-ного статуса, скорее всего принесет плоды только в том случае, если будет направлена на понимание того, как последующие поколения советских и постсоветских ученых вплотную занимались наследием коммунизма. Также нужно учитывать, что радикально асимметричная советизация науки и религии влияет на их понимание как относительного упадка научных институтов сегодня, так и возвращения православных институтов в российскую интеллектуальную жизнь.
В 2012 г. Иларион, митрополит Волоколамский, был назначен заведующим теологической кафедрой в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ), специально созданной в национальном исследовательском университете ядерной физики. Опытный ученый с безупречным международным авторитетом, Иларион восхищается своими экуменическими усилиями, а не каким-либо профессиональным участием в естественных науках. Повестка дня Илариона двойственна: сделать богословские факультеты нормальной частью современного российского университета и поднять знания среднего студента о православии. Несмотря на готовые фразы о пользе ученого с теологической точки зрения, Иларион не ведет диалога между наукой и религией на высшем уровне. Его заместитель, отец Родион, ранее работал в области физики конденсированных сред, но после получения распоряжения от церковных иерархов проявил больший интерес к ранней современной церковной истории. Эти православные ученые не столько бросают вызов современным ученым, сколько возвращаются к знакомой дилемме: независимо от того, подходим ли мы к науке и русскому православию в конфликтных, гармонических или изолированных способах анализа, мы должны быть готовы признать, что большую часть времени мы по-прежнему остаемся на общем уровне христианской религии, а не требуем каких-либо особых состязательных позиций на доктринальном уровне или конфессиональном уровне.
Таким образом, наука и православное христианство лишь частично связаны с характерными философскими и богословскими противоречиями в православной среде. Отчасти это косвенное выражение более общей проблемы философии: что первично? Религия и наука, будучи элементами общечеловеческой культуры, безусловно, имеют точки соприкосновения, которые в рамках исторических ретроспектив влияли друг на друга.
На сегодняшний день современное православие и наука не имеют общих точек пересечения и противопоставляются друг другу. Фактически философские исследования в этом направлении полностью утратили общественную значимость, что в итоге ведет к потере истинного понимания соотношения этих важных человеческих сфер деятельности – науки и религии.