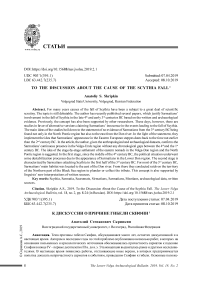К дискуссии о причине гибели Скифии
Автор: Скрипкин Анатолий Степанович
Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.18, 2019 года.
Бесплатный доступ
Тема причины гибели Скифии, обсуждавшаяся много лет, остается дискуссионной и в настоящее время. Автором в последние годы по этой проблеме опубликовано несколько работ, в которых на основании письменных и археологических источников обосновывалась причастность сарматов к падению Скифии в конце IV - первые десятилетия III в. до н.э. Эта концепция выдвигалась ранее и другими исследователями. В настоящее время появились работы, отстаивающие иные версии, в которых предпринимается попытка доказать непричастность сарматов к событиям, приведшим Скифию к гибели. Основные положения, излагаемые в этих работах, сводятся к утверждению об отсутствии сарматских памятников III в. до н.э. не только на территории Северного Причерноморья, но и к востоку от Дона. В связи с этим утверждается, что появление сарматов в степях Восточной Европы относится ко времени не ранее II в. до н.э. В предлагаемой статье с учетом антропологических и археологических данных доказывается наличие в Волго-Уральском регионе сарматских памятников с IV по I в. до н.э. без каких либо хронологических разрывов, отстаивается идея поэтапного освоения восточными кочевниками Волго-Донского и Северопричерноморского регионов. На первом этапе происходит дестабилизация политической ситуации с середины IV в. до н.э. в связи с появлением на Нижнем Дону сирматов. Второй этап связан с нанесением ударов по Скифии в первой половине III в. до н.э. сарматами. На протяжении большей части III в. до н.э. основной территорией обитания сарматов являются земли, располагавшиеся к востоку от Дона, отсюда они совершают набеги в Северное Причерноморье с целью грабежа или сбора дани. Эта концепция находит поддержку и в новых интерпретациях письменных источников лингвистами.
Скифия, сарматия, савроматы, сирматы, сарматы, меоты, археологические данные, письменные источники
Короткий адрес: https://sciup.org/149130869
IDR: 149130869 | УДК: 903'1(395.1) | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2019.2.1
Текст научной статьи К дискуссии о причине гибели Скифии
DOI:
Цитирование. Скрипкин А. С., 2019. К дискуссии о причине гибели Скифии // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 8–24. DOI:
Несмотря на то что в недавно опубликованной мною книге, а также специальной статье проблема гибели Скифии рассматривается достаточно подробно [Скрипкин, 2016а; 2017], мне вновь приходится обращаться к ее освещению. Это связано с тем, что после выхода в свет моих работ было опубликовано несколько статей, в которых излагаются взгляды на рассматриваемую тему, существенно расходящиеся с моей концепцией.
Уважительно относясь к своим оппонентам, попытаюсь еще раз изложить свое видение этой проблемы с обоснованием ряда новых соображений. В первую очередь речь идет о статьях С.В. Полина [2018, c. 267–287] и В.А. Симоненко [2018].
Одна из версий, которой придерживается и автор данной статьи, обосновывает причастность сарматов к трагический истории Скифии. Оба вышеназванных исследователя не приемлют ее. С.В. Полин продолжает утверждать, что причина гибели северопричерноморской Скифии связана с изменением природно-климатических условий, характеризующихся усилением аридизации и приведших к разрушению экономического уклада скифов, основанного на кочевом скотоводстве, и, как следствие, к политическому упадку Скифии. Сарматы же начинают осваивать территорию бывшей Скифии между Доном и Днепром только со II в. до н.э. А.В. Симоненко считает, что причиной дестабилизации в Северном Причерноморье в 70–60-е гг. III в. до н.э. были не сарматы, а меоты. Автор обосновывает свою версию рядом находок, связанных с кон- ской упряжью, на территории Северного Причерноморья, находящих аналогии в меотских древностях Кубани. А собственно сарматы, носители прохоровский культуры, появляются только во II–I вв. до н.э.
Проблема выяснения причины гибели причерноморской Скифии тесно связана с определением времени появления сарматов в восточноевропейских степях. Разница во взглядах С.В. Полина и А.В. Симоненко о времени появления сарматов и принадлежащих им памятников заключалась в следующем. С.В. Полин считает, что археологические памятники сарматов, которые располагаются к востоку от Волги, известны и в III в. до н.э., правда, в небольшом количестве. А.В. Симоненко же датирует их появление начиная со II в. до н.э.
Проблема появления сарматов рассматривалась ранее и зачастую обсуждается сейчас на основании двух типов источников: письменных, представленных фрагментарными свидетельствами античных авторов, и археологических, известных на сегодняшний день в основном по погребальным памятникам. В последнее время все чаще к исследованию данной проблемы привлекаются данные антропологии.
Рассмотрим, как эта проблема решается на основе анализа имеющихся письменных источников. Сведения античных авторов, как и данные эпиграфических памятников, по-разному интерпретируются исследователями. Сторонники раннего появления сарматов и причастности их к гибели Скифии находят опору своим версиям в некоторых из них. Те, кто придерживается версии о непричастности сарматов к событиям, приведшим к падению Скифии, считают, что сарматы появляются или проявляют свою активность в Северном Причерноморье не ранее II в. до н.э.
Наиболее раннее упоминание сарматов применительно к освоению ими территории Скифии обосновывал Д.А. Мачинский. Он, в частности, полагал, что топоним «Сарматия» был известен греческим авторам с IV в. до н.э., ссылаясь на известие Антигона Карист-ского, который сообщал: у Калимаха содержится информация о том, что у Гераклида Понтийского (387–312 гг.) упоминается озеро с дурным запахом, располагавшееся в Сарматии. А.Д. Мачинский отождествлял это озеро с Сивашом, что предопределяло нахождение Сарматии на территории, ранее принадлежавшей скифам [Мачинский, 1971, с. 45]. Это мнение Д.А. Мачинского не однажды подвергалось критике как в отношении упоминания Сарматии в труде Гераклида, не дошедшем до нашего времени, так и в отношении места расположения упомянутого озера. Не касаясь вопроса о нахождении этого озера, я могу согласиться с тем, что упоминания Сарматии в труде Гераклида являются спорным моментом. Возможно, это была «земля савроматов», как писали более поздние античные авторы. Известно, что названия «савроматы» и «сарматы» в античной литературе часто отождествлялись. Однако мы не располагаем бесспорными доказательствами того, что во время написания сочинений Калимахом и Антигоном, а это III в. до н.э., не существовало области с названием «Сарматия». Вполне возможно, что оно уже было на слуху и включено в их труды. Ссылки на то, что название «Сарматия» могло быть вставлено позднейшими переписчиками сочинений вышеназванных авторов, – это часто встречаемый прием, используемый противниками раннего появления рассматриваемого топонима, – не является убедительным, поскольку об этом мы не имеем каких-либо сведений.
А.В. Симоненко подвергает сомнению ряд сведений, имеющихся в письменных источниках, которые указывают на раннее появление сарматов – по крайней мере в III в. до н.э. Это упоминание сарматов в декрете о
«несении Диониса» в переводе, предложенном Ю.Г. Виноградовым, а также о наличии топонима «Сарматия» в сочинении Теофраста (371– 287 гг. до н.э.), где речь идет о животном та-рандре, которое способно менять цвет и, «как говорят, водится в Скифии или Сарматии» [Theoph., Fr. 172]. В последнем случае А.В. Симоненко ссылается на статью С.Р. Тохтасьева [Тохтасьев, 2005, с. 291–306]. Но почему-то он без комментариев оставляет другие сюжеты статьи С.Р. Тохтасьева. Подвергая критике выводы Ю.Г. Виноградова о появлении сарматов в начале III в. до н.э. в непосредственной близости от Крыма, он отмечал, что эта версия «встретила скепсис и критику специалистов по скифам и сарматам» (упоминаются публикации И.В. Бруяко и И.Н. Храпунова). Однако эти уважаемые исследователи не являются специалистами в области классической лингвистики, в то время как С.Р. Тохтасьев, по словам А.В. Симоненко, авторитетный антиковед и блестящий лингвист, не исключает упоминание в декрете о «несении Диониса» сарматов [Тох-тасьев, 2005, c. 292, 300].
Одно из основных свидетельств о причастности савроматов (сарматов) к гибели Скифии, принадлежащее Диодору Сицилийскому, А.В. Симоненко также подвергает сомнению, отмечая, что это событие не датировано автором [Симоненко, 2018, с. 29]. УДи-одора речь идет о переселении савроматов скифами из Мидии на Танаис и о том, что много лет спустя савроматы, усилившись, поголовно истребили население Скифии и превратили ее в пустыню [Diod. II, 43, 7]. Ранее это сообщение Диодора подробно рассматривалось С.В. Полиным [1992, с. 96–97]. В результате автор пришел к выводу, что этот эпизод вставлен Диодором в канву повествования об архаической Скифии и имеет отношение к этому периоду ее истории. Из сообщения Диодора в данном случае следует, что речь идет о причерноморской Скифии, судя по месту выселения савроматов. Если допустить, что такой тотальный разгром Скифии произошел в ранний период ее истории, то вряд ли Скифия состоялась бы как мощное раннегосударственное образование в последующее время. Не может это сообщение Диодора относиться и к времени массового распространения сарматских памятников между Доном и Днеп- ром, так как по С.В. Полину Скифия уже более века находилась в запустении. Логичнее предположить, что погром Скифии, учиненный по Диодору савроматами, приходится на время отмеченного исследователями тотального разрушения поселений от Дона до Днестра [Виноградов, Марченко, Рогов, 1997, с. 6–27] и поселений в лесостепной полосе [Медведев, 1997, с. 50–66]. С.В. Полин не обратил внимание на то, что Диодор нападение саврома-тов на Скифию специально выделил из рассказа о древней истории Скифии словами «много лет спустя», на что справедливо указывал А.П. Медведев [1997, с. 61].
А.В. Симоненко делает упор на то, что у Диодора в нападении на Скифию фигурируют савроматы, выведенные скифами из Мидии, а не сарматы, связь которых с Мидией никем не обосновывалась. Исследователь считает, что Диодор во времена написания своего труда название «сарматы» знал, оно было уже в широком употреблении, но он специально называет виновниками нападения на Скифию сав-роматов, противопоставляя их сарматам. С таким мнением трудно согласиться, поскольку в античной литературе оба названия отождествлялись, а не противопоставлялись [Plin. NH, IV, 80]. Кстати, Плиний Старший, помещая сарматов у Танаиса, считал, что своим происхождением они связаны с мидянами [Plin. NH, IV, 19], что еще раз подтверждает отождествление савроматов и сарматов в античной литературе. Естественно, что нюансы происхождения сарматов Диодору, как и другим античным авторам, не были известны. Если же мы обратимся к археологическим источникам, то археологическая культура, которая отождествляется с савроматами, о которых писал Геродот, прекращает свое существование в IV в. до н.э. Употребление этнонима «савроматы» во времена Диодора относилось уже к другому народу – сарматам.
Как уже отмечалось, А.В. Симоненко при анализе письменных источников обращается к авторитету С.Р. Тохтасьева в тех случаях, когда проделанный этим исследователем анализ текстов из отдельных сочинений античных авторов позволял поставить под сомнение раннее упоминание в них сарматов. В результате он приходит к выводу об отсутствии или сомнительности раннего употреб-
А.С. Скрипкин. К дискуссии о причине гибели Скифии ления в античных письменных и эпиграфических источниках названий «сарматы» и «Сарматия», именуя это непредвзятым анализом. Однако по неизвестным причинам А.В. Симоненко не вступает в полемику с С.Р. Тохтась-евым, который не исключает упоминания этнонима «сарматы» в декрете о «несении Диониса» [Тохтасьев, 2005, с. 292] и который считал, что Диодор «прямо связал савроматов архаических времен с сарматами, опустошившими Скифию в начале III в. Древние основывались, надо думать, не только на очевидном созвучии этнонимов, но и на приблизительном совпадении мест обитания савроматов VI– IV вв. до н.э. и сарматов III–II вв. до н.э.» [Тох-тасьев, 2005, с. 296].
Я рассуждаю так, если все же этноним «сарматы», исходя из уже много раз цитируемой статьи С.Р. Тохтасьева, был известен начиная с III в. до н.э., то почему его не могли употребить Антигон, Калимах и Теофраст. Ведь С.Р. Тохтасьевым не приводятся неопровержимые данные об отсутствии у этих авторов упоминания о сарматах, он высказывает только свои сомнения в их наличии, полагая, что они являются результатом позднейшей редакции. Но опять же, о поздних редакциях трудов этих авторов у нас нет никаких сведений.
В принципе, моя версия о начале дестабилизации ситуации в Северном Причерноморьем в связи с появлением новых кочевников с востока близка выводам, сделанным в статье С.Р. Тохтасьева. Появление восточных кочевников у Танаиса он связывает с приходом сюда в середине IV в. до н.э. сирматов. К этому утверждению С.Р. Тохтасьева я бы сделал некоторые уточнения. Он считал, что сирматы пришли на Нижний Дон с территории, располагающейся у Окса, где их упоминал Плиний [Тохтасьев, 2005, с. 299]. Мне уже неоднократно приходилось писать, что в IV в. до н.э. в Волго-Донском регионе в погребальных памятниках кочевников происходят существенные изменения как в погребальном обряде, так и в материальной культуре. Здесь со всей очевидностью начинают фиксироваться те черты, которые ранее появляются и распространяются в Южном Приуралье. В первую очередь это погребения в дромосных ямах и в подквадратных ямах с диагональным положением погребенных. В таком сочетании в более раннее время они известны только в Южно-Уральском регионе. Да и вещи: керамика, мечи, зеркала, конская упряжь, особенно из Поволжья, – находят прямые аналогии в южноуральских памятниках IV в. до н.э. Рецептура бронзовых изделий, в том числе и наконечников стрел, из дромосного погребения в кургане 4 у хут. Сладковского, расположенного на правобережье Дона, характерна для «восточного металла» и хорошо представлена в памятниках ранних кочевников Южного Приуралья и Нижнего Поволжья [Барцева, 1984]. Это как раз тот случай, когда происходит совпадение свидетельств письменных источников и данных археологии. Сопоставление материалов этих типов источников позволят предполагать, что новые явления, фиксируемые в археологическом материале, обусловлены появлением здесь сирматов письменных источников. Причем исходным районом их продвижения в сторону Поволжья и Нижнего Дона было Южное Приуралье [Скрипкин, 2010; 2016а]. Фиксация же Плинием сирма-тов на Оксе может объясняться тем, что южноуральские кочевники были в постоянных связях с районами Средней Азии, принимали там непосредственное участие в разных событиях во время утверждения персов или захвата части Средней Азии Александром Македонским. Районы Приаралья входили в зону кочевий номадов Южного Приуралья, так что сирматы в какие-то периоды могли появляться в разных районах Средней Азии, где и были зафиксированы источниками Плиния.
Совокупный анализ сведений, приведенных в «Географии» Страбона, и результатов раскопок, особенно в конце прошлого – начале нынешнего века, позволяет утверждать, что в V–IV вв. до н.э. в Южном Приуралье сложился достаточно сильный союз племен во главе с даями. Сирматы, по всей вероятности, входили в состав этого союза, что подтверждается южноуральским характером памятников на Нижней Волге и Дону, по времени совпадающих с появлением рассматриваемого этнонима. Страбон помещал даев «на левой стороне при входе в Каспийское море...», то есть к востоку от Северного Прикаспия и Волги, отметив, что в их состав входили различные племенные группировки [Strabo, XI, 7, 1; 8, 2], одной из которых могли быть сирма- ты. Появление в IV в. до н.э. в Поволжье и на Нижнем Дону погребальных памятников, не известных здесь ранее в савроматское время, свидетельствует об этнических изменениях в составе кочевников указанного региона. Эти данные подтверждают тот факт, что сирматы не могут отождествляться с савро-матами, тем более не могут являться носителями их культуры.
А.В. Симоненко не совсем верно воспроизводит мою реконструкцию событий, связанных с гибелью Скифии. В его интерпретации она выглядит следующим образом: первый удар по Скифии нанесли даи (дахи), покинувшие свои земли в Южном Приуралье и двинувшиеся на запад, где они становятся известными под именем сирматы. Территорию Скифии они не заняли, ограничившись политическим господством. Во II в. до н.э. появляются кочевники, носители прохоровской культуры, и занимают некогда опустошенную савроматами и даями Скифию [Симоненко, 2018, с. 32]. Да нет же, это все не так! Собственно даи не наносили удара по Скифии, в это время они не покинули свои земли в Южном Приуралье, таковыми были сирматы, входившие в состав племенного объединения во главе с даями и осуществлявшие экспансионистские планы этого союза. Такая ситуация реконструируется исключительно на археологических данных и совпадении их с письменными источниками. Эти события привели к дестабилизации обстановки в Скифии, изменению политической ориентации Боспорского царства [Виноградов, Марченко, Рогов, 1997]. Собственно даи проявляли военную активность в Средней Азии, взаимодействуя с персами, а затем оказывая сопротивление Александру Македонскому [Балахванцев, 2017, с. 28–41]. По моему мнению, к последней четверти IV в. до н.э. происходит распад племенного союза, возглавляемого даями, о чем свидетельствует прекращение сооружения погребений их знати в Южном Приуралье, в том числе и в знаменитом Филипповском курганном могильнике. Вслед за этим, вероятно, уже в III в. до н.э. начинают употребляться названия «Сарматия» и «сарматы». Центром «Сарматии», скорее всего, становится Нижнее Поволжье. Не исключено вхождение в ее состав и Южного Приуралья. В этом отношении я пол- ностью солидарен с С.Р. Тохтасьевым, который на основании исследования письменных источников пришел к заключению о том, что в III – начале II в. до н.э. сарматы (саврома-ты) в массе продолжали жить за Танаисом, имеется в виду – к востоку от Дона. Сирма-ты контролировали степные территории Нижнего Дона в пределах большей части второй половины IV в. до н.э. Судя по характеру памятников, и Поволжье, видимо, входило в зону их влияний. Ведь античные авторы, сообщая о Танаисе как пограничном районе обитания савроматов, сирматов и сарматов, определяли только западные границы их владений, поскольку территории восточнее Танаиса вплоть до времени Клавдия Птолемея им не были известны.
С III в. до н.э. вновь происходят некоторые изменения в погребальном обряде и материальной культуре кочевников Нижнего Поволжья и Южного Приуралья. Исчезают погребения в дромосных ямах, а также в подквадратных ямах с положением погребенных по диагонали. Наблюдается унификация погребального обряда, ведущими становятся погребения в простых вытянутых прямоугольных и подбойных ямах. В подавляющем большинстве преобладают впускные захоронения, обычно расположенные по кругу под курганной насыпью. Эти новые явления, видимо, связаны с какими-то изменениями этнического состава кочевников к востоку от Дона, что нашло отражение в появлении этнонима «сарматы».
Массовые разрушения в 70–60-е гг. III в. до н.э. поселений в Причерноморье и, вероятно, гибель городищ лесостепи связаны с кочевниками «Сарматии». В дальнейшем, как отмечал С.Р. Тохтасьев, сарматы ограничивались набегами с целью грабежа или сбора дани с зависимого населения Северного Причерноморья.
Я не могу согласиться с мнением А.В. Симоненко о том, что сарматы прохоровской культуры появляются со II в. до н.э. [Симоненко, 2018, с. 30]. Сам он эту версию не разрабатывал. Возможно, здесь просматривается влияние никем не поддержанных идей В.Ю. Зуева. Большая часть исследователей, а именно К.Ф. Смирнов, М.Г. Мошкова, А.Х. Пшенич-нюк, Л.Т. Яблонский, А.Д. Таиров, рассматри-
А.С. Скрипкин. К дискуссии о причине гибели Скифии вали становление раннесарматской (прохоров-ской) культуры как длительный процесс взаимодействия автохтонных и миграционных процессов с эпицентром в Южном Приуралье, причем подтверждают это не только археологические, но и антропологические данные.
Дискуссия в основном вращается вокруг проблемы, связанной с выделением сарматских памятников III в. до н.э. Речь идет не только о Северном Причерноморье, но и о более восточных районах – от Дона до Южного Приуралья включительно. В свое время С.В. Полин, отрицая причастность сарматов к гибели Скифии, обосновывал это отсутствием сарматских памятников, близких по времени этому событию, не только в Северном Причерноморье, но и в эпонимном памятнике раннесарматской культуры, расположенном в Южном Приуралье – Прохоровском курганном могильнике. Рассмотрев находки из четырех прохоровских курганов, раскопанных местными крестьянами в начале XX в., он пришел к выводу, что три из них (кург. 2, 3 и 4) датируются в пределах V–IV вв. до н.э. С датировкой погребения из кургана 1 С.В. Полин окончательно не определился, сославшись на мнение ряда авторов, датировавших отдельные находки из него в пределах IV–I вв. до н.э. [Полин, 1992, с. 74–77]. В вышедшей гораздо позже статье С.В. Полин практически воспроизводит те же идеи, что были высказаны им в конце прошлого века. Он предпринял попытку проанализировать новые погребальные комплексы из раскопок Л.Т. Яблонским Прохоров-ских курганов 2003–2005 гг., высказав ряд критических замечаний в адрес тех исследователей, выводы которых не соответствовли его хронологическим представлениям как о датировке прохоровских курганов, так и раннесарматской культуры в целом [Полин, 2018].
С.В. Полин положительно оценивает работы В.Ю. Зуева, который «решительно пересмотрел периодизацию раннесарматской культуры». Он также отметил, что В.Ю. Зуев принял и развил его идеи относительно датировки прохоровских курганов [Полин, 2018, с. 271, 272], но это не совсем так. В.Ю. Зуев принял только разделение Прохоровских курганов на две группы, но в их датировках он существенно расходится с С.В. Полиным. И даже разделение В.Ю. Зуевым этих курганов на две груп- пы не совсем тождественно представлениям С.В. Полина, поскольку С.В. Полин выдел в этом в большей мере территориальное различие, а В.Ю. Зуев – хронологическое и культурное. В.Ю. Зуев по материалам раскопок курганов у с. Прохоровка до их доследования в 2003–2005 гг. датировал курганы 3 и 4 (северная группа) второй половиной V – рубежом V– IV вв. до н.э., а курганы 1, 2 (южная группа) – рубежом II–I вв. до н.э., с возможным омоложением до середины I в. до н.э. [Зуев, 1998, с. 16]. В.Ю. Зуев оказался верен своему первоначальному тезису о датировке прохоровс-ких курганов и после их доследования Л.Т. Яблонским, несколько изменив их датировки, курганы 3 и 4 он датировал – V–IV вв. до н.э., а курганы 1 и 2 – второй половиной II–I в. до н.э. [Зуев, 2013, с. 514].
Несмотря на мнение С.В. Полина о том, что В.Ю. Зуев принял и развил его идеи на предмет датировки прохоровских курганов, мне сложно заметить здесь какое-либо единомыслие или развитие первоначальной его идеи. Развитие можно видеть лишь только в том, что С.В. Полин датирует курган 2 IV в. до н.э., а В.Ю. Зуев – второй половиной II–I в. до н.э. Это имеет отношение и к кургану 1. Трудно представить, как можно разойтись так в датировках сарматских комплексов. Ведь речь идет не об одном погребении, а о целой их серии после доследования могильника. Причем в публикациях обоих авторов я не заметил критических замечаний в адрес друг друга.
Л.Т. Яблонский, организовавший экспедицию и доследовавший прохоровские курганы, кроме четырех, ранее раскопанных крестьянами, исследовал еще три курганные насыпи, в которых в общей сложности оказалось 38 погребений [Яблонский, 2010]. На основании анализа всей совокупности открытых погребальных комплексов Л.Т. Яблонский пришел к выводу о том, что «курганы у д. Прохоровка образуют однородную в культурно-хронологическом отношении группу и датируются IV–II вв. до н.э.». По его мнению, большинство погребений из курганов Прохоровки датируются IV– III вв. до н.э. и они вместе с другими погребальными памятниками Южного Приуралья (Переволочаны, Бердянка, Старые Киишки, Покровские могильники и др.) «хорошо документируют непрерывное развитие раннесар- матской культуры Южного Приуралья в IV– II вв. до н.э.» [Яблонский, 2010, с. 81].
Эти выводы Л.Т. Яблонского попытался оспорить С.В. Полин, отстаивая прежние свои взгляды на удревнение погребений Прохоров-ского курганного могильника и проблематичность выделения сарматских памятников III в. до н.э. Но эта попытка не во всех случаях была удачной. Так, например, вновь открытое погребение 4 в кургане 1 С.В. Полин датирует по находкам в нем меча с прямым перекрестием и серповидным навершием и двух кинжалов с аналогичными навершиями и перекрестиями и бронзовыми наконечниками стрел IV в. до н.э. С этой датой трудно согласиться по следующей причине. Мечи и кинжалы с серповидным навершием и прямым перекрестием появляются в IV в. в небольшом количестве и, скорее всего, в конце этого века. В кочевнических памятниках IV в. до н.э. Южного Приуралья ведущим типом клинкового оружия являлись мечи так называемого переходного типа. Причем какое-то время они, видимо, сосуществовали с мечами с прямым перекрестием и серповидным наверши-ем, что следует из находки меча переходного типа вместе с античной амфорой, позволяющей датировать эту находку первыми двумя десятилетиями III в. до н.э. [Монахов, 2006]. Следует отметить, что в памятниках IV в. до н.э. не отмечено ни одного случая нахождения с одним погребенным одновременно мечей и кинжалов с серповидным навершием и прямым перекрестием. К тому же в погребении 4 прохоровского кургана 1 вместе с мечом было найдено даже два кинжала данного типа, что свидетельствует о времени их массового распространения. Известно большое количество раннесарматских погребений с находками в них одновременно мечей и кинжалов с серповидными навершиями, в которых отсутствуют какие-либо основания для датировки их IV в. до н.э., неизвестны в них и хроноиндикаторы II–I вв. до н.э. Бронзовые наконечники стрел с узкой треугольной головкой, внутренней втулкой и опущенными жальцами из погребения 4 относятся к одному из поздних типов бронзовых наконечников стрел в сарматских комплексах. Еще К.Ф. Смирнов считал, что такие наконечники (тип XIX) продолжают встречаться вплоть до III–II вв. до н.э.
[Смирнов, 1961, табл. 1]. Таким образом, погребение 4 в кургане 1 не вписывается в контекст кочевнических памятников Южного Приуралья IV в. до н.э. Кстати, полной аналогией погребению 4 прохоровского кургана 1 по набору клинкового оружия является погребение 2 из кургана 19 Бишунгаровского могильника. Здесь также были найдены меч и два кинжала с прямыми перекрестиями и серповидными навершиями, сопровождаемые набором бронзовых и железных стрел. В этом комплексе нет каких-либо находок, которые давали бы основания датировать его IV в. до н.э. или II–I вв. до н.э. Это как раз тот погребальный комплекс, который претендует быть датированным III в. до н.э. [Пшеничнюк, 1983, с. 31– 32, табл. XXIII].
Отстаивая датировку погребения 4 из кургана 1 непременно IV в. до н.э., С.В. Полину, видимо, следует еще вступить в дискуссию с В.Ю. Зуевым, который заявил, что его работы, подкрепленные результатами раскопок Л.Т. Яблонского, подтвердили деление курганов у с. Прохоровка на две группы, и что раннесарматские захоронения южной группы датируются второй половиной II – I в. до н.э. Таким образом, вновь открытое погребение 4 в кургане 1 должно датироваться этим же временем [Зуев, 2013, с. 514].
Вышесказанное не подтверждает уверенность С.В. Полина и в датировке IV в. до н.э. центрального погребения 1 из этого же кургана, основанную на том, что если впускное погребение 4 датируется IV в. до н.э., то основное, естественно, не может быть датировано позже. Кроме того, специальные исследования фиал из погребения 1 на предмет даты их изготовления и попадания их в погребение кочевника, несмотря на всю сложность этой проблемы, позволили сделать следующие выводы. Исследование надписей на фиалах показало, что больше оснований отнести их к последней трети IV – III в. до н.э. [Балахван-цев, 2010, с. 268]. М.Ю. Трейстер не исключал возможности использования фиал в погребении 1 в качестве фаларов со второй половины III в. до н.э. [Трейстер, 2010, с. 277]. Из погребения 1 кургана 1 происходит железная кираса. Относительно недавно А.В. Дедюль-кин провел обстоятельное изучение этой кирасы на предмет ее датировки и пришел к
А.С. Скрипкин. К дискуссии о причине гибели Скифии выводу, что эту находку следует датировать временем не ранее середины III в. до н.э. [Де-дюлькин, 2014, с. 91].
С.В. Полин с безапелляционной уверенностью датирует мечи с двутавровыми рукоятями из кургана 2 (погр. 1 и 2) IV в., даже не объясняя, на чем основана его уверенность. Мечи прохоровского типа с двутавровыми рукоятями распространены в основном в Южном Приуралье, здесь их известно 23 экземпляра. По мнению исследователей, они продолжают традицию «переходных» мечей этого региона [Рафикова, Федоров, 2017, с. 40], что не исключает их датировку и III в. до н.э. Более того, меч, найденный у пос. Острый, с двутавровой рукоятью, практически идентичный мечу из погребения 1 прохоровского кургана 2, и датируется на основании амфорного материала и конского убора концом III – II в. до н.э. [Симоненко, 2010, с. 16–17, рис. 1].
При хронологическом анализе С.В. Полиным комплексов Прохоровских курганов с учетом их доследований Л.Т. Яблонским просматривается непременное желание исключить в них наличие погребений, которые следует относить к III в. до н.э. Это имеет отношение, например, к погребению 4 кургана «б». С.В. Полин пишет, что обнаруженный в нем железный кинжал имеет дуговидное перекрестие, и на этом основании датирует погребение 4 IV в. до н.э. Но это совсем не так. Вот как этот кинжал описывает Л.Т. Яблонский: «Кинжал с треугольным клинком, прямым перекрестием с дуговидной верхней гранью, серповидным навершием» [Яблонский, 2010, с. 51, рис. 69]. Перекрестие этого кинжала было прямым, он ничего общего не имеет с мечами переходного типа, имеющими дуговидное или изогнутое под углом перекрестие, ни по сходству перекрестия, ни по общему виду. Наличие в этом погребении колчана с бронзовыми и железными трехлопастными наконечниками стрел в сарматских погребениях также не является непременным признаком IV в. до н.э. Совместное нахождение вышеописанного кинжала и содержимого колчана в погребении 4 кургана «б», скорее всего, свидетельствует о III в. до н.э., поскольку в погребениях кочевников Волго-Уральского региона IV в. до н.э. в большинстве случаев преобладают бронзовые наконечники, а в погребениях II–I вв. – желез- ные трехлопастные наконечники стрел. Показательно в этом отношении погребение 9 в этом же кургане, в котором были обнаружены кинжал с кольцевым навершием и железные трехлопастные наконечники стрел и которое претендует быть датированным II–I веками.
В целом для погребений Прохоровских курганов характерно наличие признаков раннесарматской культуры. Это выражается в наличии ориентировок погребенных в южный сектор, в широком использовании подбойных ям, преобладании впускных захоронений. Это имеет отношение к некоторым категориям: появление бронзовых зеркал с валиком по краю диска, глиняных лепных сосудов, украшенных по тулову пучками вертикальных линий; широкое использование мечей или кинжалов с серповидным навершием и прямым перекрестием.
Аргументом С.В. Полина о проблематичности выделения сарматских памятников III в. до н.э. является отсутствие хроноиндикаторов этого времени. Нет хроноиндикаторов, нет и памятников рассматриваемого времени, а соответственно и населения. Спрашивается, о каких хроноиндикаторах должна идти речь? Было бы интересно узнать, какие сарматские памятники, относящиеся к III в. до н.э., имел в виду С.В. Полин, заявляя, что в небольшом количестве они все же имеются. Дело в том, что хронология савроматских памятников Поволжья и в некотором отношении Южного Приуралья, ранее относившихся к одной культуре, строилась на основе хронологии скифских памятников Северного Причерноморья. С гибелью Скифии и наступившим кризисом в этом регионе, виной чему в немалой степени были сарматы, оказались разорванными ранее установившиеся связи. Но это не обозначает непременно развитие кризисных явлений в кочевом мире в Волго-Уральском регионе. Ранее в связи с некоторым омоложением завершения раннесарматской культуры волго-уральские сарматские памятники были объединены в одну хронологическую группу, датируемую III–I вв. до н.э. [Скрипкин, 1997]. В этот период происходит унификация основных признаков сарматской культуры, которые практикуются в течение всего этого времени (определенный набор конструкций погре- бальных ям, значительное преобладание впускных захоронений, расположенных вокруг центра кургана, преобладание ориентировки погребенных в южный сектор, массовое распространение лепной, зачастую однотипной керамики, клинкового оружия, бронзовых зеркал, украшений) [Клепиков, 2000, с. 116–117].
С накоплением нового материала и его осмыслением появилась возможность выявления серии новых более или менее устойчивых хроноиндикаторов, позволивших выделить сарматские памятники II–I вв. до н.э. К ним относятся отдельные типы поясных пряжек, клинкового оружия, находящие прямые аналогии в памятниках центральноазиатского ареала; фибул, отдельных находок металлической посуды римского провинциального производства [Скрипкин, 2000].
Вычленение сарматских погребальных комплексов II–I вв. до н.э. из общей массы сарматских памятников III–I вв. до н.э. позволило выделить некоторые признаки, которые должны характеризовать сарматские захоронения III в. до н.э. Во-первых, в них отсутствуют хроноиндикаторы II–I вв. до н.э.; во-вторых, в ряде случаев в них усматривается культурное наследие памятников IV в. до н.э. Например, сохранение в колчанных наборах бронзовых наконечников стрел, которые помещаются вместе с железными наконечниками; преобладание мечей и кинжалов с серповидным навершием и прямым перекрестием, причем зачастую они встречаются вместе в одном погребении, в то время как в сарматских памятниках II–I вв., как правило, помещались разнотипные мечи или кинжалы, когда один из них имел кольцевое на-вершие или без металлического навершия [Скрипкин, 2015, с. 191–197] 2.
Попытка В.Ю. Зуева на примере нескольких случаев нахождения отдельных бронзовых наконечников в погребениях II–I вв. до н.э. обосновать невозможность использования смешанных колчанных наборов, включающих бронзовые и железные наконечники стрел, для выделения сарматских погребений III в. до н.э. оказалась несостоятельной [Клепиков, 2000, с. 117–118]. Речь идет не об отдельных находках бронзовых наконечников, а о колчанных наборах. Имеются случаи нахож- дения в сарматских погребениях архаических бронзовых наконечников стрел, датируемых VII–VI вв. до н.э. Это, скорее всего, признак культовых представлений сарматов [Скрипкин, 1990, с. 74]. Следует также отметить, что речь в данном случае идет о тенденциях смены типов вещей в отдельных хронологических группах. В силу неодинакового времени существования типов вещей в процессе развития материальной культуры сарматов отдельные из них могут сохраняться более длительное время, но они уже не характеризуют те тенденции, которые определяют новый этап в развитии культуры сарматов. Таким образом, по колчанным наборам в сарматских погребальных комплексах Волго-Уральского региона в определенной мере просматривается тенденция временной смены этой категории находок. Для IV в. до н.э. характерно преобладание бронзовых наконечников стрел; для III в. до н.э. – как правило, сочетание бронзовых и железных наконечников, для II–I вв. до н.э. – нахождение в колчанах преимущественно железных наконечников 3.
По этой причине к «неуловимому» III в. до н.э. следует относить большинство захоронений курганного могильника Старые Киишки, где в семи курганах было открыто 124 погребения. Однотипность погребального обряда и вещественного материала, выражающаяся в одинаковых конструкциях могильных ям, их расположении по кругу под курганной насыпью с ненарушением друг друга; нахождение исключительно мечей с серповидным наверши-ем, в ряде случаев мечей и кинжалов в одном погребении, колчанных наборов с бронзовыми и железными наконечниками стрел; отсутствие хроноиндикаторов II–I вв. до н.э. – все это свидетельствуют об указанной выше хронологической позиции сарматских погребений этого могильника [Садыкова, Васильев, 2001]. Из других сарматских памятников, претендующих быть датированными III в. до н.э., следует назвать захоронения из кургана 6 могильника Покровка-10 [Яблонский, 2017, с. 205–213, рис. 107–110], серию погребений в Шумаевских курганах [Моргунова и др., 2003, с. 53–176], Би-шунгарово [Пшеничнюк, 1983, с. 18–33] и ряде других могильников Южного Приуралья. Аналогичные сарматские погребения распространяются и в Нижнем Поволжье.
С.В. Полин скептически отнесся к предложенному В.М. Клепиковым способу выделения сарматских памятников Нижнего Поволжья III в. до н.э., который получил название «зажатых датировок». Он обращается к одной из статей С.В. Демиденко, в которой высказаны сомнения в абсолютной объективности этого метода. В этом случае следовало воспользоваться и статьей В.М. Клепикова, являющейся ответом на критику С.В. Демиденко [Клепиков, 2008]. Основное внимание в этой статье С.В. Демиденко уделяет погребению 5 из кургана 1 у с. Верхний Ерус-лан в Нижнем Поволжье, в котором в мужском погребении были найдены бронзовые и железные наконечники стрел, меч с серповидным навершием и прямым перекрестием, бронзовый котел и некоторые другие вещи. По мнению С.В. Демиденко, котел из этого погребения относится к группе, датируемой концом II в. до н.э. – первой половиной II в. н.э., поэтому наличие в сарматских погребениях совместно бронзовых и железных наконечников стрел не является обязательным признаком III в. до н.э. [Демиденко, 2007]. В.М. Клепиков отметил, что С.В. Демиденко оставил без внимания общую планиграфию раскопок кургана 1. Дело в том, что над погребением 5 располагалось другое впускное ограбленное погребение в широкой прямоугольной яме, дно которой только немного было выше дна погребения 5. Угол этой ямы как раз накрывал погребение 5, и именно в этом месте располагался тот самый котел. Скорее всего, котел принадлежал этому впускному, более позднему погребению. Иначе трудно объяснить, почему котел практически лежит на костяке погребения 5. Это – с одной стороны, с другой – по мнению других исследователей, нет абсолютной уверенности в том, что этот тип котлов датируется непременно не ранее II в. до н.э. [Карнаух, Синика, Сердюк, 2016, с. 222–225].
Я не буду комментировать вполне аргументированный ответ В.М. Клепикова на критику С.В. Демиденко в отношении использования приема «зажатых датировок», хочу только отметить, что ни В.М. Клепиков, ни я не считаем его универсальным способом для выявления сарматских памятников III в. до н.э. Он использован по причине практически полного отсутствия хроноиндикаторов III в. до н.э. Основан же он собственно на принципе взаимовстречаемости типов вещей в погребальных комплексах, часто используемом в археологии при выявлении хронологических горизонтов комплексов отдельных памятников или культур.
Версия о появлении сарматов в степных районах Южного Приуралья в Поволжье только со II в. до н.э. ни коим образом не согласуется ни с археологическими, ни с письменными источниками. По В.Ю. Зуеву сарматы появляются с середины II в. до н.э. «с ярко выраженным прохоровским культурным комплексом вещей, заимствованных в Китае, Средней Азии, на Ближнем Востоке» [Зуев, 2013, с. 517]. Во-первых, более или менее уверенно ко II–I вв. до н.э. в курганах у с. Прохоровка относится только одно погребение 9 из кургана «б» из раскопок Л.Т. Яблонского, в котором был найден кинжал с кольцевым навер-шием и железные черешковые наконечники стрел [Яблонский, 2010, с. 53–54, рис. 73, кат. 1540–1552]. О каком ярко выраженном прохоровском комплексе, начиная с середины II в. до н.э., здесь можно говорить? Во-вторых, если сарматы появляются только с середины II в. до н.э., то откуда тогда взялись европейские сарматы царя Гатала, упомянутые Полибием в связи с событиями 179 г. до н.э.? Исследователями признано, что это одно из бесспорных ранних упоминаний сарматов [Тохтасьев, 2005, с. 292] 4. И надо полагать, что появились они здесь несколько раньше и успели уже заявить о себе, прежде чем попасть на страницы договора, заключенного рядом припонтийских государств. Не следует исключать, как было сказано выше, и случаи более раннего упоминания сарматов.
В представлении В.Ю. Зуева и А.В. Симоненко сарматы – это новые кочевники со II в. до н.э., освоившие степи Восточной Европы. С этой точки зрения, если придерживаться версии о запустении восточноевропейской степи в III в. до н.э., трудно объяснить, каким образом в Волго-Уральском регионе сохраняются элементы погребального обряда и некоторые типы вещей в памятниках II– I вв. до н.э., появившиеся еще в IV в. до н.э. Так, в Южном Приуралье на тот период, к которому относится известный Филипповс- кий курганный могильник (фаза «В» по периодизации Л.Т. Яблонского), датируемый с конца V по третью четверть IV в. до н.э., распространяются ориентировка погребенных в южный сектор, подбойные могильные ямы, расположение погребений вокруг центра кургана, жертвенная пища, представленная костями овцы [Яблонский, 2017, с. 218]. Все эти детали погребального обряда получают широкое распространение во II–I вв. до н.э. в памятниках Волго-Уральского региона. В погребениях этого времени одним из основных видов клинкового оружия являются мечи и кинжалы с прямым перекрестием и серповидным навершием, которые также появляются здесь еще в IV в. до н.э. [Скрипкин, 2016б, с. 270]. Этой даты появления мечей прохоровского типа придерживается и С.В. Полин [2018, с. 270].
На Нижнем Дону В.П. Глебовым учтено 500 исследованных сарматских погребений II–I вв. до н.э. Не меньше, если не больше, их открыто на территории Нижнего Поволжья, известны они и в Южном Приуралье. Откуда вдруг появляется такая масса кочевников во II в. до н.э., где та их исходная территория с перечисленными выше культурными традициями? Ссылка А.В. Симоненко на работу М.А. Балабановой по антропологии сарматов не совсем корректна. М.А. Балабанова как в статье, на которую ссылается А.В. Симоненко [Балабанова, 2010], так и в ряде других своих работ не говорила о появлении во II–I вв. до н.э. совершенно нового населения, которое занимает доминирующее положение в степях на юго-востоке Европы. Она отмечала включение мигрантов, характеризующихся долихокранией, в среду субстратного населения, для которого была характерна брахикрания, с преобладанием в этом процессе местного населения, обитавшего здесь с более раннего времени. Этот факт как раз подтверждает непрерывное присутствие в волго-уральских степях кочевого населения в течение всей второй половины I тыс. до н.э. Миграции, естественно, имели место, и это видно на примере археологических памятников II–I вв. до н.э., подкрепленных антропологическими исследованиями, но ни о какой кардинальной смене населения речи не может быть.
По мнению А.В. Симоненко, удар по Скифии был нанесен меотами, возможно, в союзе с савроматами или сираками. Но вряд ли сав-роматы и сираки могли быть союзниками ме-отов в нападении на Скифию. Если обратиться к археологическим источникам, приоритет которых над письменными источниками в отдельных случаях признает и А.В. Симоненко, то следует констатировать, что памятники, относимые к савроматской культуре, в Волго-Донском регионе прекращают свое существование, по всей вероятности, к середине IV в. до н.э. Отождествить какие-либо археологические памятники здесь после этого времени с савроматами не представляется возможным. Сиракский племенной союз сформировался не ранее II в. до н.э. [Шевченко, 2011, с. 55; Скрипкин, 2013], поэтому сираки также не могли быть союзниками меотов в скифских событиях.
Меотская версия гибели Скифии обосновывается А.В. Симоненко исключительно на археологическом материале, причем на одной его категории – на находках на территории Северного Причерноморья деталей конской упряжи: пластинчатых налобников и нагрудников, крупных бусин-амулетов и удил с крестовидными строгими насадками, которые находят аналогии в меотских памятниках СевероЗападного Кавказа [Симоненко, 2018, с. 33].
В связи с такой реконструкцией возникает вопрос: зачем меотам, оседлому земледельческому населению, надо было громить северопричерноморских кочевников-скифов, да и располагали ли они для этого необходимыми военными ресурсами, чтобы нанести одновременно удар по степной и лесостепной Скифии? Надо полагать, что у меотов были другие проблемы – взаимоотношения с соседними кочевниками, с правителями Боспора.
А.В. Симоненко среди вещей, найденных в Северном Причерноморье, особое значение придает удилам с крестовидными насадками, обнаруживающими, по его мнению, аналогии исключительно на Кубани. Однако удила с такими насадками были обнаружены в Прохоров-ских курганах в Южном Приуралье [Яблонский, 2010, с. 19, рис. 12, 2 , кат. 274, 347]. Они ничем не отличаются от кубанских аналогов, из чего следует, что удилами такой конструкции пользовались и кочевники Южного Приуралья.
Мне уже неоднократно приходилось обращать внимание моих оппонентов на ситуацию, сложившуюся начиная с IV в. до н.э. на обширной территории от Нижнего Дона до Южного Приуралья и Западного Казахстана. Археологические материалы позволяют утверждать, что здесь формируется мощное кочевое объединение или объединения, сокрушившие Скифию. В конечном счете, сарматы доходят до Дуная, а не меоты. Вероятнее всего, северокавказское население могло входить в состав сарматского кочевого объединения. Не будет лишним напомнить, что по представлениям античных географов южная граница Азиатской Сарматии проходила по Закавказью.
Попытки опровергнуть сообщение Диодора Сицилийского о причастности савроматов, под которыми подразумеваются сарматы, неубедительны. Диодор специально не противопоставлял савроматов сарматам, это свидетельство было заимствовано им из других источников и вставлено в контекст своего сочинения. В реальности савроматов уже не существовало ни во времена падения Скифии, ни тем более при жизни Диодора Сицилийского. Память о них сохраняла только письменная традиция. Реальность этого сообщения Диодора признавали и признают ученые разных поколений, в том числе и лингвисты. К ним, кстати, относится и С.Р. Тохтасьев. Мои основные положения по рассматриваемой теме во многом совпадают с его выводами. В хронологической последовательности они выглядят следующим образом: примерно в середине IV в. до н.э. в низовьях Тана-иса появляются сирматы; в первой половине III в. до н.э. происходит нападение на Скифию савроматов, в которых следует видеть сарматов; в III – начале II в. до н.э. сарматы продолжают обитать к востоку от Танаиса, совершая набеги в Северное Причерноморье с целью грабежа или сбора дани с греческих городов и варварского населения [Тохтасьев, 2005, с. 300].
Список литературы К дискуссии о причине гибели Скифии
- Балабанова М. А., 2010. Новые данные об антропологическом типе сарматов // Российская археология. № 2. С. 67-77.
- Балахванцев А. С., 2010. Надписи на фиалах из Прохоровки // Яблонский Л. Т. Прохоровка. У истоков сарматской археологии. М.: ТАУС. С. 262-268.
- Балахванцев А. С., 2017. Политическая история ранней Парфии. М.: ИВ РАН. 192 с.
- Барцева Т. Б., 1984. Результаты спектроаналитического изучения металлических вещей из кургана 4 у хут. Сладковский // Смирнов К. Ф. Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. М.: Наука. С. 141-148.
- Виноградов Ю. А., Марченко К. К., Рогов Е. Я., 1997. Сарматы и гибель "Великой Скифии" // Донские древности. Вып. 5: Сарматы и Скифия: сб. науч. докл. III Междунар. конф. "Проблемы сарматской археологии и истории". Азов: Азов. краевед. музей. С. 6-27.
- Габелко О. Л., Завойкин А. А., 2004. Еще раз о вифинско-понтийско-боспорской эре // Боспорский феномен: проблемы хронологии и датировки памятников: материалы науч. конф. Ч. 1. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. С. 74-81.
- Дедюлькин А. В., 2014. О датировке эллинистических железных кирас из Южного Приуралья // Уфимский археологический вестник. Вып. 14: Сарматы и внешний мир: материалы VIII Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. "Проблемы сарматской археологии и истории". С. 84-93.
- Демиденко С. В., 2007. Об одном из аспектов "проблемы III в. до н.э". в сарматской археологии // Российская археология. № 2. С. 48-54.
- Зуев В. Ю., 1998. Прохоровские курганы в Южном Приуралье и проблема хронологии раннесарматской культуры: автореф.... дис. канд. ист. наук. СПб. 32 с.
- Зуев В. Ю., 2013. О появлении сарматов в степях Евразии по археологическим данным // Боспорский феномен. Греки и варвары на Евразийском перекрестке: материалы Междунар. науч. конф. СПб.: Нестор-История. С. 512-521.
- Карнаух Е. Г., Синика В. С., Сердюк М. И., 2016. Скифский клад из Дебальцево // Stratum plus. № 3. С. 217-238.
- Клепиков В. М., 2000. Памятники III в. до н.э. в Нижнем Поволжье // Раннесарматская культура: формирование, развитие, хронология: материалы IV Междунар. конф. "Проблемы сарматской археологии и истории". Вып. 1. Самара: СНЦ РАН. С. 116-124.
- Клепиков В. М., 2008. Погребение из могильника Верхний Еруслан - археологический оксюморон? // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 9. С. 288-295.
- Мачинский Д. А., 1971. О времени первого активного выступления сарматов в Поднепровье по свидетельствам античных письменных источников // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 13. Л.: Аврора. С. 30-54.
- Медведев А. П.,1997. Новые материалы о финале лесостепной Скифии // Донские древности. Вып. 5: Сарматы и Скифия: сб. науч. докл. III Междунар. конф. "Проблемы сарматской археологии и истории". Азов: Азов. краевед. музей. С. 50-66.
- Монахов С. Ю., 2006. О хронологии сарматского погребения с гераклейской амфорой из Башкирии // Liber Archaeologicae: сб. ст., посвящ. 60-летию Б.А. Раева. Краснодар; Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН. С. 89-93.
- Моргунова Н. Л., Гольева А. А., Краева Л. А., Мещеряков Д. В., Турецкий М. А., Халяпин М. В., Хохлова О. С., 2003. Шумаевские курганы. Оренбург: ОГПУ. 392 с.
- Полин С. В., 1992. От Скифии к Сарматии. Киев: ИА АНУ. 201 с.
- Полин С. В., 2018. Сарматское завоевание Северного Причерноморья (современное состояние проблемы) // Древности. Исследования. Проблемы: сб. ст. в честь 70-летия Н.П. Тельнова. Кишинев; Тирасполь: Stratum plus. С. 267-288.
- Пшеничнюк А. Х., 1983. Культура ранних кочевников Южного Урала. М.: Наука. 200 с.
- Рафикова Я. В., Федоров В. К., 2017. Курганы Южного Зауралья. Кн. 1: Учалинский и Абзелиловский районы Республики Башкортостан. Уфа: Китап. 244 c.
- Садыкова М. Х., Васильев В. И., 2001. Поздние прохоровцы в Центральной Башкирии // Уфимский археологический вестник. Вып. 3. С. 55-80.
- Симоненко А. В., 2010. Сарматские всадники Северного Причерноморья. СПб.: Факультет филологии и искусства СПбГУ; Нестор-История. 328 с.
- Симоненко А. В., 2018. О сарматском завоевании Скифии // Нижневолжский археологический вестник. Т. 17, № 1. С. 27-49.
- DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2018.1.2
- Скрипкин А. С., 1990. Азиатская Сарматия. Проблемы хронологии и ее исторический аспект. Саратов: Изд-во СГУ. 299 с.
- Скрипкин А. С., 1997. Анализ сарматских погребальных памятников III-I вв. до н.э. // Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. II: Раннесарматская культура (IV-I вв. до н.э.). М.: ИА РАН. С. 131-212.
- Скрипкин А. С., 2000. К проблеме выделения сарматских памятников Азиатской Сарматии II-I в. н.э. // Раннесарматская культура: формирование, развитие, хронология: материалы IV Междунар. конф. "Проблемы сарматской археологии и истории". Вып. 1. Самара: СНЦ РАН. С. 137-149.
- Скрипкин А. С., 2010. К событиям IV в. до н.э. на восточных границах Причерноморской Скифии // Археология и палеоантропология евразийских степей и сопредельных территорий. М.: ТАУС. С. 184-191.
- Скрипкин А. С., 2013. О времени появления сираков на Кубани // Шестая Международная Кубанская археологическая конференция: материалы конф. Краснодар: Экоинвест. С. 385-387.
- Скрипкин А. С., 2015. Клинковое оружие в разработке хронологии и некоторых вопросов этнополитической истории раннесарматской культуры Волго-Уральского региона // Война и военное дело в скифо-сарматском мире: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. памяти А.И. Мелюковой. Ростов н/Д: ЮНЦ РАН. С. 191-197.
- Скрипкин А. С., 2016а. Гибель Скифии. Сарматский фактор // Stratum plus. № 3. С. 17-31.
- Скрипкин А. С., 2016б. О происхождении мечей прохоровского типа // Константин Федорович Смирнов и современные проблемы сарматской археологии: материалы IX Междунар. науч. конф. "Проблемы сарматской археологии и истории", посвящ. 100-летию со дня рождения Константина Федоровича Смирнова. Оренбург: ОГПУ. С. 264-275.
- Скрипкин А. С., 2017. Сарматы. Волгоград: Изд-во ВолГУ. 293 с.
- Смирнов К. Ф., 1961. Вооружение савроматов. М.: Изд-во АН СССР. 162 с.
- Тохтасьев С. Р., 2005. Sauromatae - Sarmatae - Syrmatae // Херсонесский сборник. Вып. XIV. С. 291-306.
- Трейстер М. Ю., 2010. Серебряные фиалы из Прохоровского кургана № 1 // Яблонский Л. Т. Прохоровка. У истоков сарматской археологии. М.: ТАУС. С. 269-279.
- Шевченко Н. Ф., 2011. Степи Прикубанья и сираки в VI-III вв. до н.э. // Историко-археологический альманах. Вып. 10. Армавир; Краснодар; М.: Армавир. краевед. музей. С. 44-57.
- Яблонский Л. Т., 2010. Прохоровка. У истоков сарматской археологии. М.: ТАУС. 384 с.
- Яблонский Л. Т. 2017. На востоке скифской ойкумены. М.: Грифон. 397 с.