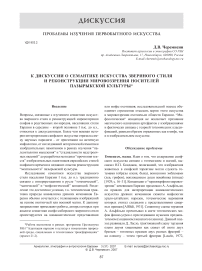К дискуссии о семантике искусства звериного стиля и реконструкции мировоззрения носителей пазырыкской культуры
Автор: Черемисин Д.В.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Дискуссия
Статья в выпуске: 3 (31), 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14522613
IDR: 14522613 | УДК: 903.2
Текст статьи К дискуссии о семантике искусства звериного стиля и реконструкции мировоззрения носителей пазырыкской культуры
Вопросы, связанные с изучением семантики искусства звериного стиля и реконструкцией мировоззрения скифов и родственных им народов, населявших степи Евразии в середине – второй половине I тыс. до н.э., относятся к дискуссионным. Более чем вековая история интерпретации скифского искусства отразила смену научных парадигм – от ориентации на античную мифологию, от исследований исторической семантики изобразительных памятников в рамках изучения “палеонтологии мышления” и “стадиальности надстроечных явлений” до разработки методики “прочтения текста” изобразительных памятников евразийских степей скифского времени и недавних опытов реконструкции “ментальности” пазырыкской культуры.
Исследование семантики искусства звериного стиля населения Евразии I тыс. до н.э. традиционно связано с интерпретациями в русле “тотемической”, “магической” и “мифологической” концепций. Разделение это достаточно условно, т.к. тотемическая трактовка природы анимализма древних кочевников Евразии обычно сочетается с толкованием изображений на основе охотничьей или военной магии. К данному направлению примыкают работы, авторы которых при анализе семантики скифо-сибирского звериного стиля ориентируются на шаманистические представления или мифы охотников; исследовательский подход объединяет стремление отыскать корни этого искусства в мировоззрении охотничьих обществ Евразии. “Ми-фологическая“ концепция не исключает признание магического назначения артефактов с изображениями и фактически связана с теорией тотемических классификаций, равным образом отраженных как в мифе, так и в изобразительном искусстве.
Обсуждение проблемы
Тотемизм, магия. Идеи о том, что содержание скифского искусства связано с тотемизмом и магией, высказал Н.П. Кондаков, полагавший, что изображения животных в скифской торевтике могли служить тотемами (образы оленя, быка), воинскими эмблемами (лев, грифон), воплощением души покойника (птицы) [1929, с. 16–31]. Концепцию о “териоморфном мировоззрении” кочевников Евразии предложил А. Альфëльди; он привлек для интерпретации анималистического искусства древних кочевников сюжеты мифологии урало-алтайских народов, тотемические верования которых считал сходными с представлениями северных иранцев [Alföldi, 1931]. Семантику сцены терзания А. Альфёльди прочитывал в свете тотемических мифов финно-угров о преследовании мужским предком-тотемом (хищником) женского (олениха). Данный подход развивали Д. Ласло, трактовавший сцену терзания оленя двумя хищниками как сюжет об охоте двух братьев – тотемных предков двух разных фратрий – на олениху – тотем третьей фратрии [Laszlo, 1972,
р. 107–109], и А. Фаркаш, которая усматривала в сцене борьбы животных миф об убийстве и растерзании предка-тотема с целью создания человека и обретения культуры [Farkas, 1977]. Й.-Г. Андерсон, интерпретируя произведения торевтики из Восточной Евразии (коллекция Лу, включающая т.н. ордосские бронзы) [Andersson, 1932], выдвинул гипотезу об охотничьей магии как идейной основе искусства звериного стиля. Сторонники прочтения сюжетов скифского искусства звериного стиля в свете урало-алтайской мифологии обращались к археологическим памятникам Западной Сибири и Центральной Азии.
В советской археологии в 1930–1940-х гг. концепцию о тотемизме и магии как содержании искусства звериного стиля развивала В.В. Гольмстен, считавшая изображения животных на предметах вооружения тотемическими знаками. По ее мнению, в сценах терзания и борьбы звери ”являются тотемами – символами определенной общественной группы”, а вся композиция выполнена с целью “нанести вред враждебной группе через ее тотем” [1933, с. 113, 117]. Искусство пазырыкской культуры В.В. Гольмстен считала отражением определенной “стадии” развития “культового образа зверя”, который в качестве тотема изображался на оружии. Поскольку с развитием общественных отношений семантика сюжетов и образов меняется, па-зырыкское искусство, расширявшее свою “сферу” по мере разложения родовых отношений, фиксирует “отход от сознания кровной связи с тотемом” и “переход” изображений животных с оружия на принадлежности конского снаряжения “в силу своего магического значения” ([Там же, с. 113]; ср.: [Сорокин, 1978]).
С.С. Черников полагал, что в сакском зверином стиле отражены “пережитки древнего тотемизма”, связывавшие изображения животных с силами природы, и в качестве символов эти изображения помещались на культовых предметах, “в частности, на ритуальном костюме и иных аксессуарах племенных колдунов-шаманов” [1965, с. 135]. Иначе сцены терзания в искусстве саков расшифровывал А.Н. Берн-штам; по его мнению, борьба родов представлена в этих памятниках путем изображения противоборства их тотемов [1952, с. 49]. Н.Л. Членова усматривала тотемическую основу изображений животных в та-гарском искусстве [1967, с. 129].
Опыты реконструкции мировоззрения пазырык-цев как источника сведений об их хозяйстве на основе интерпретации находок из Первого Пазырыкского кургана были предложены ведущими скифологами М.П. Грязновым, С.И. Руденко и С.В. Киселевым в 1930–1940-х гг. Интерпретация семантики конской маски с рогами оленя базировалась на положении лингвистической теории Н.Я. Марра о том, что олень как средство передвижения “стадиально” предшествовал коню и поэтому в разных языках термины, обозна- чавшие оленя, были позднее перенесены на лошадь, сменившую в хозяйстве оленя [1926]. После раскопок М.П. Грязновым в 1929 г. Первого Пазырыкского кургана факт “маскирования” коня или трансформации его в оленя долгое время привлекался в качестве хрестоматийного аргумента для обоснования этой теории, а археологические материалы понимались “точно препараты, специально изготовленные для иллюстрации известных языковедных положений” [Марр, 1929, с. 324]. Сторонники данной концепции полагали, что в сфере культа пазырыкцев “законсервировалось” почитание оленя, чье место в реальной жизни к середине I тыс. до н.э. заняла лошадь, которую при погребении с человеком маскировали “под оленя” [Грязнов, 1937, 1950; Киселев, 1951]*.
С.И. Руденко сначала интерпретировал маску коня из Первого Пазырыкского кургана как отражение “религиозного пережитка”, связанного с древним оленеводством, “предшествовавшим коневодству”, но впоследствии отказался от такой трактовки [1953, с. 226]. Развитие взглядов крупнейших “пазырыкове-дов” М.П. Грязнова и С.И. Руденко на данный вопрос происходило на фоне первоначального господства и последующего развенчания идей Марра, в т.ч. о “стадиях” в освоении транспортных средств населением Евразии и об отражении этапов данного процесса в языке. При этом их выводы о “консервации” в мировоззрении и культе пазырыкцев воспоминаний о хозяйственном укладе, основанном на “древнем оленеводстве”, не учитывались в реконструкциях, которые касались археологических культур Горного Алтая. Носителей ни одной из известных культур эпохи бронзы на Алтае С.И. Руденко, М.П. Грязнов и С.В. Киселев не считали оленеводами, не шла речь и о какой-то миграции оленеводов на Алтай. Показательно, что представление о “древнем оленеводстве”, сформированное в результате интерпретации в свете лингвистических постулатов Марра лишь одной находки – конcкой маски из Первого Пазырыкского кургана, не нашло подтверждения в комплексе каких-либо более или менее репрезентативных археологических источников; это, на мой взгляд, было бы совершенно невозможно, если бы с транспортным оленеводством был действительно связан хозяйственный уклад древнего населения Алтая (см.: [Черемисин, 2005]).
В 1970-е гг. тотемическую концепцию семантики звериного стиля развивал А.Д. Грач, считавший, что звериные образы выражают в первую очередь тотемические представления ранних кочевников разных этнокультурных зон Евразии. Сцены терзания А.Д. Грач воспринимал как отражение в искусстве звериного стиля реальных событий противостояния родов или военно-политических союзов эпохи разложения родового строя [1972]. По мнению А.Д. Грача, сюжеты звериного стиля были призваны прославлять торжество победителя, апофеоз войны, право сильного, славу и победу, а “соединение тотемистической первоосновы и магического значения объектов и сюжетов произведений скифо-сибирского искусства лежало в основе семантики этих произведений” [1980, с. 83]. Установившаяся традиция определяет содержание скифского искусства звериного стиля как отражение тотемизма. Так, А.А. Нейхардт в работе, посвященной историографии отечественной скифологии, отметила, что “звериный стиль свидетельствует в первую очередь о преобладании тотемистических представлений в религии скифов” ([1982, с. 213]; см.: [Доватур, Каллистов, Шишова, 1982, с. 39]).
Многочисленные интерпретации памятников скифо-сибирского искусства основывались на тотемизме первобытных охотников, а также на промысловой, симпатической или военной магии. Помимо археологов, к тотемизму и магии как основам искусства кочевников Евразии обращались этнологи и фольклористы, определяя истоки мифологических систем народов Сибири в древностях скифской эпохи. Например, тюркологи А.-М. фон Габэн и Ж.-П. Ру, изучавшие мифологию народов Северной Азии, сцену терзания “скифо-сибирской” торевтики трактовали как “борьбу народов, являющихся разными тотемами” либо как воплощение симпатической магии: ”атакующий хищник идентифицируется с человеком-охотником, и в этом заключено магическое значение этих произведений искусства” [Roux, 1966, p. 95, 172].
Некоторые исследователи объясняли магическую семантику искусства ранних кочевников Евразии не охотой, а военным бытом степняков-скотоводов. По мнению И.В. Яценко, “магическое содержание звериного стиля своими корнями связано с древними тотемистическими представлениями”, но назначение этого искусства в том, чтобы наделять воина – обладателя предметов с изображениями животных, прежде всего оружия, – атрибутами этих животных, и поэтому в образах зверей “подчеркивалось то, что убивало жертву… и то, что помогало выследить ее” [1971, с. 131–133]. К.Ф. Смирнов полагал, что главный характер скифо-сибирского искусства звериного стиля – магический, а животные в изображениях символизируют определенные качества (зоркость, силу, ловкость и смелость в бою) [1976, с. 75, 88]. А.П. Смирнов считал изображения зверей в сюжетах скифского искусства оберегами, которые и ограждали людей от беды, и давали им качества зверя [1966, с. 167]. А.М. Хазанов и А.И. Шкурко определяли звериный стиль как “нерасчлененное единство социальных, этико-эстетических и религиозных ком- понентов”, социальной основой которого была военная аристократия, а религиозной – магические представления [1976, с. 44].
Более подробно способ интерпретации сюжетов скифского искусства аргументировал Г.А. Федоров-Давыдов, полагавший, что предметы звериного стиля служили оберегами, амулетами и апотропеями: ”древ-ний анимизм и аниматизм наделял изображение качествами живого существа, способного помочь человеку”. Апотропеем является не изображение животного, а то, что исследователь называет “предметом-животным”, в котором образ зверя неотделим от вещи [Федоров-Давыдов, 1976, с. 22–24]. Создание фантастических персонажей на примере образов пазырыкского искусства Г.А. Федоров-Давыдов объяснял желанием заполучить более сильный оберег; в русле этого предположения сцену терзания он трактовал как процесс проникновения одного животного в другое, чтобы стать его “полезной частью”. В результате соединения несоединимых в природе частей, мистически воплощавших различные качества зверей, получались “сверхсинтетические” существа, самые сильные апотропеи, в которых быстроногий олень сливался бы с мощным тигром [Федоров-Давыдов, 1975]. Идея исследователя о тесной связи изображений с артефактами, на которых они помещались, представляется очень продуктивной, но вряд ли назначение предметов с изображениями в зверином стиле можно сводить только к магической функции оберега.
В дискуссиях 1970-х – 1980-х гг. подходы к интерпретации искусства звериного стиля на основе охотничьей и военной магии подвергались критике сторонниками “мифологической концепции”. Необоснованной представляется тенденция искусственного вычленения “магии” как основы изобразительного искусства из общей системы верований, поскольку понятие магии обычно используется как общее обозначение разнообразных обрядов и соответствующих им поверий. По И.М. Дьяконову, “магия… есть совокупность способов воздействия на природные силы с помощью метонимически-ассоциативных средств и отражает точно то же состояние мышления, что и мифология” [1990, с. 181].
“Мифологическая” концепция. Археологи, развивавшие с конца 1960-х гг. иной подход к анализу семантики скифо-сакского искусства, в частности Д.С. Раевский, Е.Е. Кузьмина, указывали на невозможность объяснить феномен звериного стиля выражением исключительно магических представлений, ссылаясь на то, что в истории человечества никогда не было эпохи, в которой рефлексия в отношении окружающего мира сводилась бы к магии (см.: [Арутюнов, 1982, с. 140]). Д.С. Раевский показал, что гипотеза об исключительно магическом значении образов звериного стиля не соответствует уровню развития скифской религии.
Я.А. Шер, определяя методику изучения семантики древнего искусства, в частности наскальных изображений Средней и Центральной Азии, указывает, что “мифические образы, обряды и магические действия – части единой ритуально-мифологической моделирующей системы”, в которой магические действия, заклинания, гимны были соотнесены с образным строем изобразительного искусства [1980, с. 258– 262]. Миф, функционировавший в качестве универсальной знаковой системы, актуализировался в ритуале, призванном обеспечить миропорядок. Согласно В.Н. Топорову, именно ритуал был колыбелью изобразительного искусства [1982, с. 18]. Е.Е. Кузьмина предложила интерпретацию сюжета противоборства пары животных (кони и верблюды), основанную на соотнесении авестийского гимна Тиштрии и текстов магических заклинаний на согдийском языке, читавшихся во время обряда вызывания дождя, с сюжетами изображений [1978, с. 105–106]. Принципы парциальной магии, возможно, отражены в парциальных изображениях зверей, акцентированных видовых признаках животных, “зооморфных превращениях” и т.п.
Таким образом, можно говорить о магической составляющей мифо-ритуальной картины мира и вероятном соотнесении магических действий и представлений о качестве оружия, одежды или ритуальных атрибутов с сюжетами и образами изобразительного искусства, но невозможно объяснить феномен звериного стиля выражением исключительно магических представлений или воплощением тотемов древних племен. Иследователи, не отрицавшие магического назначения атрибутов с изображениями в зверином стиле, избегали выделять магию как главную причину анимализма скифской эпохи. По мнению М.И. Артамонова, на том уровне религиозного мышления, которого достигло население Евразии в первой половине I тыс. до н.э., зооморфные персонажи “играли роль оберегов” и одновременно “воплощали в себе злые и добрые космические силы, наполнявшие мир” [1968, с. 45]. Восходящие к искусству Передней Азии и связанные с “иранским дуалистическим ми- ровоззрением”, эти изображения служили апотропе-ями-амулетами, с одной стороны, и воплощениями космических сил – с другой. По М.И. Артамонову, представления о борьбе противоположных стихийных начал, характерные для иранского религиозного мировоззрения и отраженные в образности Древнего Востока, были переработаны на просторах Евразии в соответствии с местными верованиями и тотемическими традициями, примером чего на Алтае являются пазырыкские конские маски и образ “человеко-зверя с оленьими рогами” на войлочном ковре из Пятого Пазырыкского кургана [1973, с. 235].
В связи с дискуссией по проблемам языкознания (1951) и критикой марризма (в т.ч. теории стадиальности и “яфетической теории” Марра, на которые ориентировались исследования исторической семантики изобразительных памятников в рамках изучения “палеонтологии мышления”) “мифологическая” концепция в определенном смысле была дискредитирована. Однако работы, базировавшиеся на строгом источниковедческом анализе, например исследования К.В. Тревер на древнеиранских письменных и изобразительных материалах, не утратили значения. В данном направлении в 1920-х – 1940-х гг. с памятниками скифо-сарматской эпохи работали сотрудники Государственной академии истории материальной культуры К.В. Тревер, И.И. Мещанинов, А.А. Миллер, Л.А. Мацулевич. Мифология как основа скифского искусства считалась утраченной, а источники, касающиеся прежде всего азиатской части Евразии, не позволяли выйти на уровень достоверных интерпретаций.
“Мифологическая” концепция семантики искусства звериного стиля развивалась на фоне становления структурно-семиотического направления, работ Тартусской школы по теории знаковых систем, новейших открытий памятников скифской эпохи в Евразии и развития методов реконструкции общественных отношений по археологическим источникам. Наиболее достоверные результаты получены в ходе реализации Д.С. Раевским, Е.Е. Кузьминой, А.К. Акишевым, Б.И. Мозолевским, С.С. Бессоновой, Д.Г. Савиновым и другими археологами методов семантической реконструкции в рамках “мифологической” концепции содержания скифо-сибирского искусства. Д.С. Раевский значительно расширил возможности изучения скифо-сакской мифологии и искусства, дав развернутую характеристику скифской религиозно-мифологической системы как части мифологии древнеиранской [1977, 1985]. Основным источником для реконструкции служили сюжетные изображения на драгоценных культовых сосудах, расшифрованные им как графическое выражение этногонической скифской легенды. При этом Д.С. Раевский показал, что преобладание в скифо-сакском искусстве зооморфных персонажей связано с “автономным антро- поморфному коду способом моделирования мира”, зооморфные образы которого образуют стабильную знаковую систему, “призванную адекватно выражать скифскую модель мира” [1979, с. 74; 1985, 2003].
Значительный вклад в изучение семантики искусства звериного стиля внесли работы Е.Е. Кузьминой. Исследовательница рассматривает скифо-сакский звериный стиль как знаковую систему бесписьменных народов Евразии, как “воплощение в изобразительном искусстве всего строя их мышления, их мифологии и фольклора” [1977, с. 119]. Для работ Е.Е. Кузьминой, посвященных анализу содержания скифского искусства, характерен переход от случайных иранских аналогий к системному анализу скифской духовной культуры как части мифологии индоиранской (см., напр.: [Кузьмина, 2002]).
Ряд оригинальных исследований Е.В. Переводчи-ковой посвящен разработке проблемы “языка звериных образов“ скифского искусства [1979, 1980, 1994]. Принципиальное значение имеют результаты работ Е.В. Переводчиковой, проводившиеся с целью выявить изобразительные способы воплощения в искусстве звериного стиля древней классификации животного мира путем выделения совокупности признаков изображений. Исследовательница, разделяя точку зрения о том, что в искусстве звериного стиля “посредством зооморфных образов выражались определенные идеологические представления”, показала, что при дифференциации персонажей скифского звериного стиля в качестве маркеров разных сфер мироздания служили различные приемы трактовки разных групп звериных образов [1994, с. 13–16, 24–27]. А.К. Акишев предложил реконструкцию значения ансамбля зооморфных персонажей как выражения сакской “модели мира” в парадном одеянии “золотого человека” из кургана Иссык. Прочтение семантики звериных образов, как показал А.К. Акишев, – один из путей реконструкции иссыкской “космограммы” [1984].
Следует отметить, что сторонники “мифологической” концепции иначе, чем исследователи, разделяющие идеи о тотемном характере образов звериного стиля, рассматривают понятие “тотемизм”. Концепция К. Леви-Строса о тотемизме как первобытной классификационной системе [Lévi-Strauss, 1962; Леви-Строс, 1994, с. 37–110], на основе которой сложились развитые классификации древности, в т.ч.“ми-фопоэтическая” традиция, космологические, социальные модели и т.п., была принята этнологами, археологами, культурологами. Животные в таких системах классификации явлений природного и культурного мира “выступают как один из вариантов мифологического кода” – зооморфического, отдельные элементы которого “имеют постоянно закрепленное за ними значение” и играют роль своеобразных классификаторов [Топоров, 1982; 1987б, с. 440–448].
Шаманизм. Древности пазырыкской культуры не раз были интерпретированы в свете популярной в XX в. концепции шаманизма. Основным источником для шаманских прочтений пазырыкских реалий был комплекс Второго Пазырыкского кургана. Ф. Ханчар определил погребенного в этом кургане как шамана [Hančar, 1952], с чем категорически был не согласен С.И. Руденко [1960, с. 322–323]. С.С. Сорокин [1978], Ф.Р. Балонов [1987], Г.Н. Курочкин [1988, 1992, 1993, 1994] обращались к идее Ф. Ханчара, расширяя возможное восприятие “шаманистической окраски” па-зырыкской культуры в целом. При этом С.С. Сорокин и Ф.Р. Балонов считали возможным видеть в погребенном во Втором Пазырыкском кургане шамана ”высокого ранга”, тесно связанного с миром духов и, возможно, исполнявшего функции вождя.
Изучая мировоззрения ранних кочевников Алтая, С.С. Сорокин обратился к назначению пазырыкских артефактов и иконографии ряда зооморфных образов [1978]. Очень интересны его версии и подход к выяснению причин, обусловивших изображение реальных и фантастических животных на седельных подвесках, теле вождя из Второго Пазырыкского кургана и гвоздях в крышке колоды из Большого Берельского кургана [Там же, с. 182–189]. С.С. Сорокин предлагал интерпретацию пазырыкского изобразительного комплекса, основываясь на том, что “шаманизм в той форме, которая нам хорошо известна по этнографическим материалам, уже существовал на Алтае в середине I тыс. до н.э.”; вождь из Второго Па-зырыкского кургана мог быть шаманом, а фигуры животных на конской узде и саркофаге из Берельско-го кургана – изображениями добрых духов из пантеона ранних кочевников Алтая.
В середине 1980-х гг. Г.Н. Курочкин в серии публикаций предложил свое прочтение семантики элитных погребальных комплексов пазырыкской культуры, содержания изобразительных сюжетов и назначения ансамбля ритуальных атрибутов, основанное на ви́дении в археологических памятниках эпохи ранних кочевников на Алтае истоков шаманизма сибирских народов. Он определял могильник Пазырык как “корпоративное кладбище верховных жрецов”, считая, что на Алтае был “сакральный центр скифского мира” [1993]. Основанием служил весьма ограниченный круг источников, например, бальзамированные тела погребенных с татуировкой, музыкальные инструменты, в т.ч. резонансный “барабан-тамбурин”. Методы интерпретации изобразительного комплекса пазырыкской культуры (например, анализ сюжетов на войлочном ковре из Пятого Пазырыкского кургана) [Курочкин, 1988, 1993; Зуев, 1992], позволявшие авторам выявить шаманскую “окраску” пазырыкской культуры, мне представляются необоснованными, а выводы – заданными априорной установкой на некую совершенно искусственно сконструированную разновидность шаманских верований – “скифо-сибирский шаманизм” и желанием представить Пазырыкский могильник как корпоративное кладбище жреческой аристократии.
С отражением шаманских представлений о строении мироздания Г.Н. Курочкин связывал материалы не только Больших Пазырыкских, но и рядовых курганов в истоках Чуи, сравнивая изобразительный ряд пазырыкских головных уборов со структурой “шаманской” картины мира, атрибутами шаманских обрядов и т.п. [1988, 1992, 1994]. Л.С. Марсадолов также считал вождя из Второго Пазырыкского кургана жрецом и шаманом и допускал возможность определять изображения фантастических зверей его татуировки как образы увиденных в состоянии транса зверей “астрального мира”, таким образом “материализованных” и проникших в мир людей [2003, с. 375].
В свете данных о пазырыкской культуре, полученных в ходе исследований на плато Укок Н.В. По-лосьмак и В.И. Молодиным, такие феномены пазы-рыкской культуры, как мумификация и татуировка, теряют свою “шаманскую” уникальность. Что касается “шаманистической окраски” найденных в Па-зырыке музыкальных инструментов – роговых “барабанов” (см.: [Руденко, 1953, с. 324–325]), то после исследований В.Д. Кубарева на Юстыде [1991, с. 68], Н.В. Полосьмак в Ак-Алахе I (кург. 1) [1994б, с. 25, 28, рис. 18] и Ак-Алахе III (кург. 1) [2001, с. 198, рис. 133], а В.И. Молодина в Верх-Кальджине II (кург. 1) и в Верх-Кальджине II (кург. 3) [2000а, с. 95, рис. 102; с. 113, рис. 142] стало ясно, что они являются роговыми сосудами бокаловидной формы. Обнаружение таких “барабанов” на Укоке in situ в отсеке для утвари в одном ряду с керамическими и деревянными сосудами [Феномен…, 2000, с. 71, рис. 62; с. 95, рис. 102; с. 113, рис. 142; с. 146, рис. 175, 4 ] позволяет заключить, что данные изделия не являются музыкальными инструментами и вряд ли могут иметь какое-либо отношение к “пазырыкскому шаманизму”.
Таким образом, “шаманистическая окраска” па-зырыкской культуры есть лишь следствие ошибочной атрибуции артефактов (“барабаны” как атрибуты шаманского культа), а также произвольного прочтения содержания ритуалов (трактовка пазырыкской мумификации в свете этнографических сибирских материалов как посмертное (?!) “посвящение в шаманы”) и изобразительных сюжетов ( якобы “шаманское” содержание изображений на войлочных коврах из Пятого Пазырыкского кургана). Развитием подобных интерпретаций стали “метареконструкции”, связанные с определением мест “сакральных центров” Евразии в эпоху ранних кочевников, с восстановлением истории перемещений этих центров, а также опыты ранжирования археологических культур по степени их “идеологической нагрузки”.
Более продуктивным представляется не поиск соответствий между “уникальными”, экстраординарными по полноте и сохранности или просто необычными археологическими материалами и отдельными элементами шаманизма народов Сибири, а анализ мифоритуального комплекса ранних кочевников Евразии в контексте индоиранской мифологической традиции. Зафиксированные для скифов и других ираноязычных народов черты культуры, которые отдельные исследователи сравнивали с шаманскими, видимо, восходят к элементам мифоритуальной практики индоиранцев, типологически сходным, как считают Г.М. Бонгард-Левин, Э.А. Грантовский, К. Мейли, Г. Нюберг, Ф. Фюссман, Ж. Келленс, Ф. Жинью и др., с “шаманским комплексом” сибирских народов. Однако чаще археологи предпочитают либо видеть изображения шаманов прошлого в маскированных или зооантропоморфных персонажах наскального искусства Центральной Азии и Южной Сибири [Бо-ковенко, 1996], либо определять шаманский характер “религиозной” системы, исходя из особенностей погребальных ритуалов носителей определенных археологических культур [Кузьмин, 1992]. Обратившись к сюжетам пазырыкской деревянной резьбы, пронизанным “идеями борьбы и круговорота”, Н.А. Бо-ковенко даже определил наличие “северного варианта буддизма”, бывшего, по его мнению, наряду с зороастризмом и шаманизмом составной частью “саяно-алтайской” религиозной системы номадов Центральной Азии [1996, с. 41]. В.Д. Кубарев также был склонен трактовать некоторые мотивы в декоративно-прикладном искусстве ранних кочевников Алтая как “многочисленные символы буддизма” или некие “протобуддийские символы” [1984]. На мой взгляд, нет оснований для определения в пазырыкском археологическом комплексе элементов буддизма, зороастризма или каких-либо других религий древности.
Эзотерика. Совершенно оригинальное направление в интерпретации археологических памятников Южной Сибири, в т.ч. изобразительных, возможно, имеющих отношение к античным мифам об аримас-пах и грифах, связано с работами Д.А. Мачинского. По мнению исследователя, аримаспов, считавшихся одноглазыми, можно соотнести с “трехглазыми” каменными изваяниями окуневской культуры в Минусинской котловине, где находился древний “сакральный центр”, который был “важнейшим фактом предыстории религиозной жизни Скифии” [1996, с. 3; 1989, 1995, 1997]. Согласно представлениям А.Д. Мачинского, этот центр возник в связи с миграцией носителей афанасьевской культуры, а в эпоху раннего железа он в силу каких-то причин “переместился” на Алтай. Наиболее подробно концепция А.Д. Мачинского, которую сам он называет лишь “системой ассоциаций”, изложена в работе “Уникальный сакральный центр III – середины I тыс. до н.э. в Хакасско-Минусинской котловине” [1997]. Ассоциациями соединяются данные античной традиции описания “восточных областей Скифии” и авторский анализ изобразительного комплекса окуневской культуры. Изучив по публикациям археологов-сибириеведов “развитие окуневской изобразительной традиции” и ее содержание, А.Д. Мачинский счел возможным сопоставить античные сведения об аримаспах и гипербореях с каменными изваяниями Хакасско-Минусинской котловины [1997, с. 270–273, 275–277]. Под содержанием понимается воспроизведение на окуневских стелах эзотерического знания о “многослойном энергетическом поле человека”, которое отражено также в индо-тибетской эзотерической традиции. “Единственный глаз на челе аримаспов”, населявших в эпоху Аристея “северо-восточную треть Казахстана”, но пришедших туда с востока [1996, с. 4], – не что иное, как “чакра аджна”, орган экстрасенсорного зрения, показанный на минусинских изваяниях. Таким образом, по А.Д. Мачинскому, античные авторы, описав аримаспов одноглазыми, зафиксировали традиции эзотерических знаний обитателей уникального южно-сибирского “сакрального центра” эпохи бронзы, “переместившегося” в скифскую эпоху с берегов Енисея на просторы Алтая.
На мой взгляд, данные выводы сделаны на основе интуитивного эзотерического подхода к трактовке археологических артефактов и письменных источников. Идеи северного буддизма – ваджраяны – предлагается соотнести с афанасьевскими и окуневскими археологическими древностями. Показательно, что обоснованию этих аллюзий Д.А. Мачинскому служат не капитальные труды индологов – Т.Я. Елизарен-ковой, Я. Гонды или Л. Рену, а работы современных мистиков и теософов. При этом сам метод откровений и интуитивных ассоциаций не верифицируется, а аксиоматическое знание не проверяется рациональными суждениями. Например, выделение “сакрали-зованного слоя общества аримаспов” – “одноглазых ясновидящих” [1996, с. 5] – представляется авторской интерпретацией, основанной исключительно на экстрасенсорном прочтении источников.
Между тем, исходя из подобных ассоциаций, исследователь соединяет многочисленные факты культурной истории Евразии от Средиземноморья до Южной Сибири в диапазоне от III до I тыс. до н.э. Блуждающий между Енисеем и Алтаем центр “интенсивной сакрализации” определяется и по картографированию археологических реалий, и по элементам древнеиранской картины мира, произвольно связываемой Д.А. Мачинским с Южной Сибирью. Любопытно, что Н.Ю. Кузьмин, основываясь на результатах изучения генезиса шаманизма по археологическим материалам, заставил евразийский “сак- ральный центр” “пропутешествовать” в обратном направлении, т.е. с Алтая на Енисей [1992, с. 128–129]. Таким образом, характер источников и глубина ассоциаций позволяют авторам перемещать “сакральные центры” Евразии как с запада на восток, так и с востока на запад, а также определять своеобразный синтетический характер духовной культуры населения Саяно-Алтая: “симбиоз индоевропейских и шама-нистских представлений особенно ярко проявляется в пазырыкских курганах Алтая” [Там же, с. 128].
А.Д. Мачинский отмечает, что памятники афанасьевской культуры известны на Алтае [1996, с. 8– 11], и “сакральный центр, судя по всему, перемещается с VI в до н.э. в Горный Алтай”, где в материалах погребений, относящихся к “корпорации” “верховных жрецов-шаманов” (по Г.Н. Курочкину), “прослеживается развитие многих тем… афанасьевско-оку-невской религиозной традиции” [Мачинский, 1997, с. 280]. В пазырыкских налобниках “особо богато украшенных коней” Д.А. Мачинский видит не только солярные знаки, но и ”знаки третьего глаза” [Там же]. Однако круглая форма налобной конской бляхи представляется совершенно недостаточным аргументом в пользу определения следов “переживания афанасьев-ско-окуневских религиозных тем” у пазырыкцев.
Таким образом, мистико-интуитивный способ постижения евразийских культурных реалий дает возможность Д.А. Мачинскому на уровне ассоциаций сопрягать археологические источники с фрагментами свидетельств античных авторов. Кроме того, данный метод позволяет в известном смысле создавать новый гиперборейский миф о “сакральных центрах” в Сибири – на Енисее и Алтае. Представляется, что уровень достоверности подобных “метареконструкций” определен методологией их построения в рамках когнитивного поля, где общепринятые критерии объективности, базирующиеся на принципах картезианской науки, не действуют. Постулируемое “шаманисти-ческое” содержание пазырыкской культуры, выделение “центров сакральности” в Евразии, “история” перемещения этих центров, введение “эзотерических” прочтений археологических реалий в исторические реконструкции “ранней истории религиозной жизни Скифии” [Мачинский, 1995, с. 57–60; 1996, с. 3; 1997] и интерпретации на основе “тонкочувственных” ассоциаций сюжетов изобразительного искусства, на мой взгляд, не дают оснований для территориального определения “земли аримаспов”.
При этом обращение к предыстории самого сюжета о борьбе аримаспов и грифов, или, в терминах эзотерики, к его “прошлой жизни”, представляет несомненный интерес, прежде всего с точки зрения отражения в нем мифологических представлений его создателей. Мнение Г.М. Бонгард-Левина и Э.А. Грантовского о том, что легенда об аримаспах и грифах восходит к общеарийским представлениям о загробном мире, позволяет в античном сюжете о борьбе пигмеев с журавлями (Гомер, Илиада, III, 5–7) усматривать прямую параллель “скифскому мифу”. Опираясь на сравнительный анализ многочисленных вариантов подобного сюжета о борьбе фантастических персонажей, великанов или карликов с птицами (данные иранской и индийской мифологической традиции), можно сделать вывод, что в основе всех версий лежит индоевропейская мифологема [Запо-рожченко, Черемисин, 1997]. Она реконструируется следующим образом: на границе миров обитают тератологические существа – стражи входа в потусторонний мир – одноглазые великаны, безносые карлики, пигмеи, змеи и другие чудовища. В “иной мир” могут проникать лишь фантастические птицы, вступающие в жестокие схватки с его охранниками и доставляющие “туда” души умерших, а “оттуда” – новую жизнь (напиток бессмертия, в поздних версиях – золото). Свидетельством архаичности исходной мифологемы могут являться, с одной стороны, сходные мотивы в мифологии дардов и кафиров Гиндукуша, а с другой – сюжет скандинавской мифологии о похищении меда поэзии Одином, по Ж. Дюмези-лю, – общеиндоевропейский, или миф о похищении золотых яблок орлиноподобным великаном Тьяцци, причем в отместку Один лишает Тьяцци зрения. И “скифская”, и античная версии включают исходный текст, но только в инвертированном виде – грифоны превратились в охранников золота, а аримаспы стали его похитителями. Античная традиция сохраняет несколько версий исходного мифа, контаминировавших между собой и ставших благодаря Аристею и Геродоту общим местом позднейших историкогеографических сочинений. Актуализации варианта грифономахии греки, видимо, обязаны скифам. Материалами археологических памятников Евразии (Пятый Пазырыкский курган, саркофаги из Вульчи) подтверждается идея М.И. Ростовцева о возможной связи данного сюжета, в частности изображений сцен гераномахии в росписях “склепа пигмеев” в Керчи, с погребальным культом [Там же, с. 83–90].
Античной традиции об аримаспах, восходящей к Аристею Проконесскому и ставшей общим местом историко-географических сочинений, посвящена обширная литература. Присутствие в античном и “греко-скифском” искусстве сюжета противоборства человека и фантастического грифона вызывает обращение к этой теме археологов. Все изобразительные памятники, запечатлевшие данный сюжет (килик из Вульчи, Келермесское зеркало, калаф из Большой Близницы и др.), подчеркивают “скифский” характер мифа (одежда, головные уборы, оружие варваров), что позволяет видеть в нем отражение скифской легенды, сохраненной античными авторами. По Д. Бол- тону, сюжет о борьбе аримаспов с грифами восходит к скифскому эпосу (к легендам исседонов), с которыми греков познакомил Аристей [Bolton, 1962].
В исторических интерпретациях традиционно учитывается локализация “стерегущих золото грифов” и борющихся с ними за золото одноглазых аримаспов у Рипейских гор. С аримаспами гипотетически отождествляются носители различных археологических культур эпохи бронзы и скифского времени, однако этногеографические определения исследователей противоречивы и недостоверны (античные сведения о Рипейских горах на краю земли гипотетически соотносили практически со всеми значительными горными системами Евразии; характеристика аримаспов как конных воинов, вызвавших подвижку номадов “из глубин Азии”, применима к широкой кочевнической среде и т.д.) (см.: [Черемисин, 1987]).
Грифон – один из главных персонажей эпической традиции, сохраненной античными авторами. Грифон – центральная фигура, воплощающая мифологический персонаж, чей образ в искусстве культур скифского круга в Сибири собственно и позволяет исследователям проецировать античный миф об ари-маспах и “стерегущих золото грифах” на археологические материалы Южной Сибири – Алтая и Минусинской котловины. Преобладание образа грифона в искусстве пазырыкской культуры стало основанием для соотнесения сведений Геродота, восходящих к Аристею Проконесскому о “стерегущих золото грифах”, с носителями пазырыкской культуры (С.И. Руденко, Н.В. Полосьмак). Особо актуальной для Алтая является тема “Пазырыкский грифон и современность” (см.: [Марсадолов, 1996; Самушкина, 2006]).
Образ фантастической “птицы” на гербе Республики Алтай, нового регионального субгосударственного образования, официально определен как “грифон – Кан-Кереде”; в нем совмещены восходящий к античной мифологии образ и персонаж алтайского эпоса, связанный с ведийским Гарудой и ламаизмом. В персонаже, изображенном на республиканском гербе, совершенно отчетливо воспроизведены черты пазырыкской иконографии образа; реальным прототипом является фигура орлиного грифона на седельной покрышке из Второго Пазырыкского кургана* [Руденко, 1948, с. 15, табл. CV, 1]. Л.С. Марсадолов, базируясь на эзотерических (астрологических) дефинициях, считает возможным определять грифона как персонаж “темного подземного мертвого астрального мира” [2003, с. 372]. По его мнению, именно этот “астральный зверь” погубил династию пазырыкских вождей, а связанный с образом грифона символ на гербе Республики Алтай пагубно влияет на социальное развитие края [2003]. Дискуссии о “вредоносном” или “благостном” воздействии этого символа в качестве герба на современную жизнь региона ведутся в Горном Алтае на уровне государственных структур, в Курултае и т.п. до сих пор; последний всплеск споров связан с выпуском в 2006 г. юбилейной монеты с изображением герба республики, что лишний раз свидетельствует об актуальности исследования семантики персонажей пазырыкского звериного стиля.
Имитация . Следует дать оценку еще одной новейшей тенденции в исследовании мировоззрения населения Евразии скифской эпохи, тем более что речь идет о духовной культуре носителей пазырык-ской культуры. П.К. Дашковский в серии публикаций тезисного характера и в кандидатской диссертации предложил реконструкции социальной структуры и “системы мировоззрений населения Алтая пазы-рыкского времени” [2002]. Источниками сведений о “мировоззрениях” и об особенностях “ментального развития пазырыкцев” [Там же, с. 4] ему послужили археологические материалы, антропологические определения и результаты палеогенетических анализов, статьи и монографии исследователей-археологов, труды специалистов в области разных научных дисциплин (“литература по теоретическим аспектам изучения социальной и духовной сферы общества”), материалы религиоведения, исторической науки, лингвистики, психологии, этнографии, а также “религиозно-философские источники” [Там же, с. 4–5]. Использование “системно-структурного подхода” к изучению этих источников, по мнению автора, позволяет реконструировать несколько мировоззренческих комплексов – по крайней мере два, поскольку речь идет именно о ”мировоззрениях” пазырыкцев.
Впоследствии П.К. Дашковский в соавторстве с А.А. Тишкиным предпринял “структурно-аналитическое” изучение объектов пазырыкской культуры [Тишкин, Дашковский, 2003, с. 244], материалов погребально-поминальной обрядности пазырыкцев и в итоге определил их религиозно-мифологическую систему как синтез иранской религиозной традиции (“маздаизма” в его митраистском варианте), шаманизма как “более ранней формы религии”, элементов индоиранской религиозной традиции и индоевропейских верований [Там же, с. 277–279]. Кроме того, соавторами, по их словам, зафиксирована “трансляция архетипов” в обрядах и искусстве пазырыкцев и другие “тенденции в мировоззренческом и ментальном развитии номадов Центральной Азии” [Там же, с. 280–284]. Судя по названию, в данной работе идет речь о нескольких различных “мировоззрениях” населения Алтая скифской эпохи.
На мой взгляд, полученные выводы не связаны с настоящей реконструкцией мифоритуального комплекса пазырыкцев на основе материалов археологии; они являются следствием аппликации методов наук, традиционно применяемых к корпусу источников, отличных от источников археологических. В результате использования методов аналитической психологии, у соавторов это “структурно-семиотический психоанализ” [Там же, с. 125], в частности психологии личности (что вряд ли допустимо в отношении психологии членов родового или потестарного общества), к изучению погребальных археологических комплексов в последних можно усмотреть любые (какие угодно) архетипы. В погребениях “и в искусстве” пазырыкцев авторам удалось обнаружить архетипы в том понимании, как их трактуют медицина и психоанализ, а не культурология (у пазырыкцев, согласно реконструкциям соавторов, это “архетип Героя”, “архетип Самости”, “архетип Мирового дерева” и “многие другие” архетипы) [Там же, с. 284]. Далекими от археологических дефиниций воспринимаются зафиксированные авторами у пазырыкцев “комплексы” – “комплекс коня” и “комплекс Вселенной” [Даш-ковский, 2002, с. 21; Тишкин, Дашковский, 2003, с. 279]. Какими методами удалось это установить и каким образом проявились многочисленные “архетипы” в искусстве, – в публикациях не уточняется, но П.К. Дашковский и А.А. Тишкин утверждают, что им удалось определить “трансляцию” архетипов. Обращение к сравнительному религиоведению и истории религии позволило им выявить в “религии” пазырык-цев элементы не только зороастризма, но и “классического маздаизма”, или “вариант западно-иранских верований”, а также шаманизма и т.п. [Дашковский, 2002, с. 19–21; Тишкин, Дашковский, 2003, с. 277, 283].
Данные результаты и способы их получения мне представляются необоснованными. При подобном подходе к названным соавторами “источникам” вряд ли возможно выделить собственно пазырыкское мировоззрение, ту специфику, которая отличает идеологию носителей пазырыкской культуры от какой-либо иной. Может быть, поэтому в работе соавторов речь всегда идет о нескольких разных “мировоззрениях”? На мой взгляд, основанием для достоверных исторических реконструкций служат определение и изучение реального культурного контекста тех или иных комплексов артефактов. В рамках этого контекста воссоздается сфера представлений носителей культуры или их мировоззрение, но не различные “мировоззрения”, если только не понимать как несколько мировоззрений пресловутые “менталитет” и “ментальность” пазырыкцев [Тишкин, Дашковский, 2003, с. 120–126]. П.К. Дашковский в многочисленных пуб- ликациях, которые по содержанию в значительной мере дублируют друг друга, очень высоко оценивает личный вклад в дело реконструкции “мировоззрений” носителей пазырыкской культуры и фиксации их “ментального развития”, по-моему, безосновательно связывая особые возможности постижения мира идей древних номадов с методами аналитической психологии и даже предлагая опыты “психоархеологии”. Между тем не учитываются методологические строгие требования при обращении к теории архетипов (см.: [Раевский, 1998, 1999]). Например, обнаруженный соавторами “архетип Мирового дерева” не относится к архетипам, а является культурологической моделью, которую в своих трудах разрабатывал В.Н. Топоров. Реконструкции “мировоззрений”, выполненные П.К. Дашковским и А.А. Тишкиным на основе “литературы по теоретическим аспектам изучения социальной и духовной сферы общества”, на мой взгляд, вовсе таковыми не являются; скорее их можно определить как имитацию действительной реконструкции, украшенную множеством сносок на труды Ф. Броделя, М. Вебера, Л. Февра, Ж. Дерриды, М. Элиаде, Э. Фромма, К. Юнга и его последователей и т.п.
Показательно, что соавторы, реализуя собственный “системно-структурный подход”, в конкретной реконструкции мировоззренческих и мифологических представлений пазырыкцев, созданной Н.В. Полосьмак и основанной не на цитатах, а на междисциплинарном синтезе в изучении источников [Полосьмак, 1992, 1993а, б, 1994а, б, 1996, 1997, 1999, 2002а, б], смогли определить лишь методологическую основу ее работ “по довольно сложной теме”, оценить “высокий уровень обработки археологического материала” и усмотреть основания для конструктивной критики. При этом они совершенно не заинтересовались результатами (которые стоило бы учесть в собственном анализе “системы мировоззрений”), хотя исследовательница, по их снисходительным оценкам, успешно реконструировала “определенные верования и обряды ранних кочевников Алтая” [Тишкин, Дашковский, 2003, с. 89–91].
Новейшие опыты реконструкции мировоззрения пазырыкцев и дискуссии о природе искусства звериного стиля. Образцами, на мой взгляд, являются исторические реконструкции, в т.ч. мировоззренческие, выполненные на основании корпуса археологических источников пазырыкской культуры М.П. Грязновым [1937, 1950, 1956, 1961]* и С.И. Руденко [1948, 1953, 1960, 1961], во многом по-разному видевших исторические реалии, отраженные в археологическом комплексе Больших Пазырыкских курганов. Новый этап в изучении пазырыкской культуры связан с работами С.С. Сорокина, В.Д. Кубарева, Д.Г. Савинова, А.С. Суразакова, Л.С. Марсадолова, З.С. Самашева,
А.-П. Франкфора и других археологов, раскопками которых открыты и исследованы массовые рядовые пазырыкские памятники и более редкие захоронения знати (Берель). В конце XX в. новый корпус чрезвычайно информативных источников был получен и осмыслен в ходе исследования неразграбленных комплексов Укока (раскопки Н.В. Полосьмак и В.И. Мо-лодина) [Полосьмак, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000а–г, 2001; Молодин, 2000а, б, 2003; Феномен…, 2000; По-лосьмак, Молодин, 2000]. Новые данные, составляющие основу для разнообразных реконструкций, получены также в результате продолжения исследований могильника Берель [Самашев и др., 2000; Самашев, Мыльников, 2004] и материалов Больших Пазырык-ских курганов [Балонов, 1991; Баркова, 1984, 1985, 1987, 1995, 1999, 2003; Баркова, Панкова, 2005; По-лосьмак, Баркова, 2005].
Н.В. Полосьмак на основе изучения совокупности новейших материалов из раскопок на плато Укок предложила реконструкцию мировоззренческих и мифологических представлений пазырыкцев [1997, 1999, 2000а–г, 2001]. Имея в качестве предмета исследования уникальный корпус источников, а отправной точкой данные, полученные в результате междисциплинарного синтеза естественных и гуманитарных наук, Н.В. Полосьмак обратилась к содержанию ритуалов (практике мумификации), костюму, мужским и женским головным уборам и прическам, татуировкам пазырыкцев. В результате проведенных исследований Н.В. Полосьмак обосновала ряд заключений, позволяющих представить многие аспекты па-зырыкского общества в этнографическом приближении. Н.В. Полосьмак исследовала культурные связи пазырыкцев и контекст погребений представителей разного социального статуса; особое место в ее работах заняли сюжеты, связанные с изучением “женской сферы” в культуре древних скотоводов Алтая.
Многие выводы Н.В. Полосьмак, основанные на тонких наблюдениях и глубоком анализе, имеют прямое отношение к сюжетам и образам изобразительного искусства; некоторым из них (образы рыбы, грифона, “феникса”) посвящены разделы монографий или отдельные статьи. Однако предметом специального исследования изобразительный комплекс Укока или только могильников Кутургунтас и Ак-Алаха не стал, и в реконструкции мировоззрения и мифологии пазырыкцев “зооморфический” код как один из вариантов или одна из составляющих мифологического кода специально ею подробно не исследовался. При этом заключения Н.В. Полосьмак о головных уборах, прическах, одежде пазырыкцев, о конском убранстве и т.п. могут служить отправной точкой для реконструкции их мифологических представлений.
Впервые обнаруженные полностью сохранившиеся образцы головных уборов, например, подтвердили наши представления о месте и роли зооморфных деталей уборов, большая серия которых была уже известна по материалам раскопок рядовых пазырыкских погребений в истоках р. Чуи. Благодаря раскопкам Н.В. По-лосьмак значительно увеличен корпус источников по многим категориям погребального инвентаря, что делает заключения о роли определенных классов артефактов и месте тех или иных изображений в структуре погребального комплекса гораздо более достоверными, а реконструкции – более обоснованными. Н.В. По-лосьмак строго придерживается методики исторических реконструкций, предлагая панораму возможных прочтений в свете данных этнографии, фольклора и мифологии народов Сибири. Исследовательница очень осторожна в том, что касается интерпретаций “информации” о социальном статусе, семейном положении и т.п., которая заложена в женские головные уборы и прически, полагая, что достоверно можно судить только о символике убора [2001, с. 155].
Не менее ценны результаты изучения неразграбленных мерзлотных захоронений, исследованных В.И. Молодиным в могильнике Верх-Кальджин и других пазырыкских курганах Укока [Молодин, 2000а, 2003; Феномен…, 2000; Полосьмак, Молодин, 2000, 2003]. В.И. Молодин отметил ряд закономерностей формирования пазырыкского археологического комплекса, затронул проблемы интерпретации назначения ряда ритуальных атрибутов, в частности наверший головных уборов и нашейных гривен. Он привлек пазырыкские изобразительные материалы для решения проблем, связанных с историческими судьбами пазырыкской культуры, что наряду с проблемой ее генезиса стало предметом специального исследования в рамках оригинальной авторской концепции [2000б; 2003, с. 157–163, рис. 107–109].
На мой взгляд, даже для пазырыкской культуры, сохранившей благодаря мерзлоте огромный корпус археологических свидетельств, обычно разрушенных временем, актуально положение о том, что для реконструкции мифологии “изобразительное искусство является единственным или по крайней мере самым авторитетным источником информации, ибо создает условия для реконструкций, которые невозможны на материале других источников” [Топоров, 1987б, с. 485]. Собственно, таким же образом оценивал изобразительный комплекс Первого Пазырыкского кургана и М.П. Грязнов, полагавший, что “основная масса изображений… в Пазырыке… представляет собой изображения религиозного содержания и позволяет установить особенности мировоззрения и религиозных представлений ранних кочевников Алтая”*. “Памятники изобразительного искусства… знакомящие нас с кругом идей и представлений пазырыкского обще- ства… представляют собой наибольшую ценность для изучения именно этих вопросов” [Там же, с. 356].
М.П. Грязнов считал, что такие представления формировались, возможно, задолго до эпохи ранних кочевников и в дальнейшем своем развитии послужили основой для сложения мировоззрения современных народов Алтая. Как установил исследователь, только в одном комплексе Первого Пазырыкского кургана на 206 бляхах, аппликациях и бронзовых изделиях размерами от 0,05 до 1 м и более имеются изображения 11 разных зверей и фантастических чудовищ в 45 вариантах. По его заключению, все изображенные животные являются представителями местной фауны, “мифические чудовища и… реальные звери изображены на одних и тех же предметах, в одних и тех же местах, теми же изобразительными приемами, часто вместе в одной композиции… Очевидно, что и чудовища, и реального вида звери являются одной категорией образов” [Там же, с. 72]. Большая часть артефактов из Первого Пазырыкского кургана, как отмечал М.П. Грязнов, была изготовлена специально для погребения. По его мнению, изобразительное искусство Пазырыка позволяет предположить, что у ранних кочевников Алтая существовали “представления о делении мира на три части – землю, небо и подземный мир”; обитателями каждого из них были “различающиеся по степени могущества” персонажи.
Заключение
Обзор истории развития исследовательских стратегий в изучении семантики звериного стиля Евразии позволяет сделать вывод о возможности постижения содержания сюжетов и образов этого искусства. Изучение семантики искусства звериного стиля – часть реконструкции мифологических представлений скифов, саков и других евразийских народов I тыс. до н.э. Наиболее продуктивным видится анализ изображений в рамках “мифологической” концепции содержания сюжетов и образов. Опыты реконструкции семантики искусства звериного стиля основаны на методике “прочтения текста” изобразительных памятников искусства евразийских степей скифского времени [Кузьмина, 1983; Раевский, 1985], которая предполагает изучение на разных уровнях – уровне мифологических универсалий, в контексте общеиндоевропейских и индоиранских мифологем, к которым восходят фиксируемые феномены духовной культуры ираноязычных народов скифской эпохи, и на уровне собственно скифских представлений.
При реконструкции мировоззрения, на мой взгляд, наиболее продуктивны подходы, связанные с реализацией методов семиотического исследования содержания скифского искусства и мифологии. К дан- ному исследовательскому направлению некоторые ученые относятся критически. Так, В.А. Кореняко предпринял попытку трансформировать представления об искусстве скифо-сибирского звериного стиля [2002а]. Реконструкции Д.С. Раевского, по его мнению, являются демонстрацией якобы неудовлетворительного состояния практики применения методов, лишь претендующих на статус “структурно-семиотических”, поскольку они сосредоточены на изучении содержания образов. Синтактике же и прагматике, как разделам семиотики, по мнению В.А. Кореняко, приверженцы “структурно-семиотического метода” не уделяли достаточного внимания. В.А. Кореняко подвергает тотальному сомнению предложенные подходы к трактовке природы данного феномена (дефиницию, определение социальных, эмоциональных, психофизиологических и эстетических основ, заключения о технологии производства артефактов и семантике конкретных образов и композиций, а также этимологию древних этнонимов) в рамках собственной “эндогенной” гипотезы, согласно которой истоки искусства звериного стиля связаны с субкультурой охотников-звероловов – участников облавных охот, чьей добычей были живые звери. Принимая во внимание “не замеченные” археологами изображения, подобные произвольно трактованной фигуре кабана на зеркале из могильника Жиланды, ландшафтное районирование памятников скифской эпохи на территории Ставропольского края, поэтические описания охоты в литературных памятниках нового и новейшего времени, нарративных средневековых источниках и другие сведения, В.А. Кореняко постулирует собственное прочтение ряда сюжетов искусства звериного стиля как воспроизведение пойманных живьем и “cвязанных” диких животных. Именно эта “прагматика”, по его мнению, определила и стилистику искусства звериного стиля [Там же].
По древним изображениям исследователь даже считает возможным определить, каким именно способом были связаны пойманные животные, например кабан из Жиланды [Там же]. Следует отметить, что его заключения полностью противоречат выводам Л.Б. Ермолова, изучавшего способы охоты на кабана в скифскую эпоху и убедительно показавшего, что только металлические орудия эпохи бронзы сделали охоту на дикого кабана относительно безопасной для человека, а этого зверя – одним из основных объектов охоты населения Евразии [1980, с. 160]. Еще более надежным способом добычи стало поражение кабана с лошади; именно данный способ запечатлен в большинстве сцен охоты на кабана в евразийских изобразительных памятниках эпохи раннего железа и средневековья.
С точки зрения В.А. Кореняко, его “прагматическая” “эндогенная” “военно-охотничья” гипотеза позволяет предложить “конкретную реконструкцию семантики наиболее популярных и простых образов раннекочевнического искусства” во всем спектре составляющих [2002а, с. 175]. На мой взгляд, концепция В.А. Кореняко умозрительна и не обоснована сколько-нибудь серьезным корпусом источников и доказательств; музейные этнографические коллекции декоративно-прикладного искусства народов Центральной Азии XIX–XX вв., на которые он ссылается [2002б], не являются таковыми. Гипотеза о связи феномена звериного стиля с достаточно узким половозрастным и социальным слоем населения степной Евразии не работает при анализе материалов культур, к которым принадлежит представительный массив изображений в зверином стиле на артефактах, имеющих отношение не только к элите общества ранних кочевников. Сфера прагматики изображений в зверином стиле пазырыкской культуры, по моему мнению, значительно шире того, как ее представляет В.А. Коре-няко. Фиксируемые на пазырыкских материалах принципы сочетания определенных зооморфных образов с конкретными группами артефактов, причем вне зависимости от социальных и половозрастных страт общества (часть анализа, соответствующая выяснению синтакти-ки искусства звериного стиля как “текста”) [Черемисин, 2006], только подтверждают результаты семантических реконструкций в рамках “мифологической концепции” и, в частности, заключения Д.С. Раевского относительно искусства звериного стиля как феномена культуры, отражающего представления о “картине мира” ираноязычного населения степной Евразии I тыс. до н.э. Следует отметить, что претенциозность публикаций В.А. Ко-реняко и строгость, с которой он проводит экспертизу концепций С.И. Руденко, Н.Л. Членовой, Д.Г. Савинова, Д.С. Раевского, Н.Ф. Корольковой, В.И. Абаева и других исследователей, столь существенно не соответствует методологии, на которой базируются его собственные “эндогенные” построения, что всерьез соотнести глубину его экстравагантной концепции, противопоставляемой альтернативным подходам к анализу искусства звериного стиля, не представляется возможным. Результаты нашего исследования лишний раз демонстрируют несостоятельность критики структурно-семиотического метода, предпринятой с позиций искусствознания, охотоведения и музеологии [Кореняко, 2002а].
Корпус источников пазырыкской культуры позволяет предложить более достоверные реконструкции содержания сюжетов и образов звериного стиля. Возможности верификации гипотез и выбора интерпретационных подходов связаны с археологическим контекстом, не нарушенным благодаря мерзлоте. Реконструкция семантики сюжетов и образов искусства пазырыкцев возможна при сохраненной структуре ансамблей древних артефактов с изображениями в зверином стиле. Так, изобразительный ряд пазырыкских го- ловных уборов строго структурирован. Как следует из результата анализа изображений на головных уборах, система зооморфных образов связана с выражением картины мира, в которой верхний мир маркирован образом птицы (форма головного убора, навершия), средний – копытными: оленями и рогатыми травоядными с признаками разных животных. В одном ряду с данными персонажами, изображения которых закреплены за атрибутами разных зон головных уборов, находятся образы хищников (волк, барс, грифон), запечатленные на нашейных гривнах. Их фигуры занимают нижний регистр изобразительного ряда, связанного с головой погребенного. На мой взгляд, хищники на гривнах противопоставлены копытным в налобной зоне головного убора и маркируют языком зооморфных образов нижний мир [Черемисин, 2006].
Изобразительный ряд пазырыкских атрибутов с фигурами на погребальных облачениях с птицами в верхней части головного убора, оленями и фантастическими копытными в средней части и с хищниками на шее погребенных, а также рыбами, соответствующими сфере телесного “низа”, представляет срез картины мира, переданной посредством зооморфных образов. Достаточно четко явленная структура ансамблей артефактов, которая позволяет говорить о контекстуальных связях зооморфных изображений, очевидно, отражала существовавшую у пазырыкцев иерархию животных, в соответствии с которой за разными персонажами звериного стиля было закреплено определенное место в системе образов на ритуальных атрибутах. Одним из способов презентации мифологем было создание визуального ряда и манифестация изобразительных текстов в парадно-церемониальных ритуалах, в т.ч. в погребальном обряде. В убранстве коней, сопровождавших элитные пазырыкские захоронения (в культовоцеремониальных масках, на седельных подвесках, парадной узде), развернуты ансамбли зооморфных изображений, связанных с актуализацией сюжета терзания жертвенного коня [Черемисин, 2005].
Сформированные на источниках из памятников, не сохраняющих предметы из недолговечных материалов, представления об искусстве звериного стиля как феномене, связанном с родовой знатью или с военной дружиной, не соответствуют реалиям пазырыкской культуры. В одинаковых предметах с одинаковыми изображениями в социально разнородных захоронениях мужчин, женщин и детей можно видеть выражение определенных мифологем, единых для всего общества, их презентацию в ритуале погребения языком изобразительного искусства. Обращение к контексту зооморфных образов на предметах, связанных с погребальной обрядностью носителей пазырыкской культуры, позволяет выявить структуру ансамблей ритуальных атрибутов с изображениями и сделать вывод о продуктивности применения структурно-семиотического метода к анализу назначения и семантики искусства звериного стиля. Это дает надежду на возможность реконструкции определенных аспектов мировоззрения пазырыкцев. В отношении антропоморфных сюжетов в искусстве пазырыкской культуры следует отметить, что они уже были интерпретированы в качестве ценного источника исторических реконструкций [Баркова, Гохман, 1994; Кляшторный, Савинов, 1998].