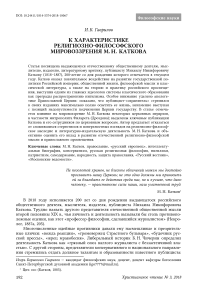К характеристике религиозно-философского мировоззрения М. Н. Каткова
Автор: Гаврилов Игорь Борисович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 3 (80), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена выдающемуся отечественному общественному деятелю, мыслителю, издателю, литературному критику, публицисту Михаилу Никифоровичу Каткову (1818-1887), 200-летие со дня рождения которого отмечается в текущем году. Катков оказал значительное воздействие на развитие государственной политики Российской империи, общественной жизни, философской мысли и классической литературы, а также на теорию и практику российского просвещения, выступив одним из главных идеологов системы классического образования как преграды распространению нигилизма. Особое внимание уделено апологетике Православной Церкви: показано, что публицист-«охранитель» стремился в своих изданиях максимально полно осветить ее жизнь, неизменно выступая с позиций недопустимости подчинения Церкви государству. В статье отмечается влияние на мировоззрение М. Н. Каткова некоторых церковных иерархов, в частности митрополита Филарета (Дроздова); выделены ключевые публикации Каткова и его сотрудников по церковным вопросам. Автор предлагает отказаться от сложившихся стереотипов и поверхностных взглядов на религиозно-философское наследие и литературно-издательскую деятельность М. Н. Каткова и объективно оценить его вклад в развитие отечественной религиозно-философской мысли и православного просвещения
М. н. катков, православие, "русский европеец", интеллектуальная биография, консерватизм, русская религиозная философия, нигилизм, патриотизм, самодержавие, народность, защита православия, "русский вестник", "московские ведомости", te "russian europeаn"
Короткий адрес: https://sciup.org/140246576
IDR: 140246576 | DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10067
Текст научной статьи К характеристике религиозно-философского мировоззрения М. Н. Каткова
«установитель русского просвещения», «Петр Великий газетного слова» (В. В. Розанов), «первый и величайший русский публицист» (К. Н. Леонтьев), «человек глубокого и разностороннего образования, владеющий словом почти с пушкинской свободой», принесший «себя в жертву ежедневной публицистике» (Петров, 2012, 585). К. П. Победоносцев видел в московском просветителе «единственного умного и чуткого к истинно русским интересам и к твердым охранительным началам» журналиста, «борца за русскую правду» (Победоносцев, 1993, 490–491). По мысли писателя и драматурга Д. В. Аверкиева, Катков — это человек, воплощавший в себе эпоху, «микрокосм России, быть может, еще не той, какою она есть теперь, но той, какою она стремится стать» (Аверкиев, 1887, 132). Высоко оценивали заслуги Михаила Никифоровича перед Православной Церковью многочисленные церковные издания: «преданный Церкви сын ее», «неустрашимый защитник истины» (Некролог, 1887c, 148).
На фоне приведенных антагонистических высказываний российских современников Каткова интересен отзыв французского историка, профессора Анатоля Леруа-Болье, автора фундаментального труда «Империя царей и русские» (Leroy-Beaulieu, 1991), написанного по итогам четырех путешествий автора по Российской империи: «В этом москвиче, страстно любившем все свое национальное, не было ничего восточного и еще менее варварского. Он никогда не принадлежал к слепым ненавистникам „гнилого Запада“. Своим воспитанием, своими вкусами, всею своею личностью, этот ярый защитник славянства был западником, настоящим европейцем» (Леруа-Болье, 1887, 201).
Автор биографии Каткова в популярной серии Павленкова «Жизнь замечательных людей», плодовитый либеральный публицист польского происхождения Р. И. Се-ментковский утверждал, что мыслитель никогда не имел самостоятельной позиции и «не указывал новых путей», «пел только с чужого голоса», а его учение «вытекало из соображений личной выгоды» и будет очень скоро забыто. Он заключал, что публицистическая деятельность Каткова «не имеет для потомства никакого значения», т. к. она «не может представлять никакого интереса ни с научной точки зрения, ни в смысле развития и расширения вынесенного нами государственного опыта» [Сементковский, 2014, 597–598]. Такая трактовка личности и учения знаменитого публициста была распространена еще при его жизни и оказала заметное воздействие на дореволюционную, советскую, западную и современную российскую историографию [Котов, 2017].
Объективным попыткам разобраться в идейном наследии М. Н. Каткова положила конец негативная характеристика «вождя мирового пролетариата» В. И. Ленина, ставшая в советские годы хрестоматийной: «Либеральный, сочувствующий английской буржуазии и английской конституции, помещик Катков во время первого демократического подъема в России (начало 60-х гг. XIX в.) повернул к национализму, шовинизму и бешеному черносотенству» (Ленин, 1973, 43–44). Уже в 1920-е гг. крупный партийный идеолог советский литературовед В. Я. Кирпотин, пытаясь заклеймить мировоззрение мыслителя, утверждал: «В философии он поддерживал клерикальное направление». Катков для него был «не просто мракобес, а реакционер с политическим горизонтом и пониманием» [Кирпотин, 1827, 152]. На протяжении десятилетий в советской историографии Михаил Никифорович воспринимался как «закулисный вдохновитель реакционной политики правительства Александра III», сумевший «объединить вокруг себя все темные силы дворянско-помещичьей реакции»; публицист, снискавший «популярность в среде реакционного дворянства» и ставший «официальным выразителем шовинистической политики великодержавного государства» [Тагер, 1931].
Примечательно, что подобный взгляд разделяли и разделяют до сих пор многие западные исследователи русской консервативной мысли — А. Валицкий, Р. Пайпс и др. Так, последний видит в Каткове «разочаровавшегося либерала», который «отверг все, чему поклонялся»; для него идейная эволюция мыслителя — постепенный переход к «прямой реакции» [Пайпс, 2008, 160–162].
Но уже в 1970-е гг. в СССР появляются «первопроходческие» монографии В. А. Китаева и В. А. Твардовской, которые, сохраняя прежние «идеологические» оценки, смогли, тем не менее, заложить значительную эмпирическую базу для дальнейшего научного исследования консервативного наследия М. Н. Каткова [Китаев, 1972; Твардовская, 1978]. Твардовская, например, пишет о его искренней ненависти к революции, к демократическим и социалистическим идеям «разночинской интеллигенции», но в жизненном пути Каткова находит «поучительный образец того, как служение исторически несправедливому и обреченному делу накладывает неизгладимую и необратимую печать оскудения на личность». Отмечая несомненную одаренность и образованность публициста, она, однако, утверждает, что к концу карьеры он не избежал умственной и нравственной деградации [Твардовская, 1978, 268].
Широкое изучение огромного литературного наследия мыслителя начинается только в 1990-е гг. Г. Н. Лебедева в диссертации 1996 г. впервые отходит от советских идеологических штампов, определяя ранний этап мировоззрения Каткова как «мнимый либерализм» и показывая, что на протяжении всей своей писательской деятельности он оставался консерватором, проделав сложную эволюцию в рамках этого направления русской мысли [Лебедева, 1996]. Значительный вклад в исследование консервативного мировоззрения московского издателя и публициста внесли такие ученые, как Е. В. Деревягина, Г. П. Изместьева, С. М. Санькова, О. С. Кругликова, С. Н. Шипилов, Е. В. Перевалова и др. [Деревягина, 2004; Изместьева, 2004; Санькова, 2007, 2009; Кругликова, 2008; Шипилов, 2009; Перевалова, 2010].
-
А. Э. Котов в своих многочисленных публикациях показывает неоднородность и многомерность религиозно-философских идей русских консервативных мыслителей последней трети XIX в. В частности, он выделяет консервативно-демократическое направление (славянофильство и почвенничество), «сословный консерватизм» Р. А. Фадеева и В. П. Мещерского, имперский консерватизм, церковный традиционализм Т. И. Филиппова и Н. Н. Дурново, «консервативный романтизм» К. Н. Леонтьева. Воззрения М. Н. Каткова в этой панораме определены как «бюрократический национализм» — идеология, опирающаяся на государственную бюрократию [Котов, 2017, 38].
Философское мировоззрение Каткова рассматривают в своих работах также И. А. Едошина [Едошина, 2012], Э. А. Попов и И. В. Велигонова [Попов, Велигонова, 2014]. При объяснении общественного влияния публициста два последних автора обращают внимание на его личность, для которой, по их мнению, «было характерно идеалистически-романтическое восприятие действительности (наличие четкого идеала должного) в сочетании с рационализмом и практичностью». Ядром идейной позиции мыслителя они показывают идею самодержавной власти [Попов, Велигонова, 2014, 34].
* * *
Детство Михаила Никифоровича Каткова прошло в обстановке крайней бедности и нужды. Потеряв в пять лет отца (титулярного советника), он вынес множество лишений и унижений. Мать — Варвара Акимовна, урожденная Тулаева (из обедневшего грузинского дворянского рода) — вынуждена была работать кастеляншей (надзирательницей) в Бутырской пересыльной тюрьме, где будущий публицист и провел детские годы. Но, будучи глубоко верующим православным человеком, Варвара Акимовна сделала все возможное, чтобы дать сыну не только твердое нравственное воспитание, но и самое лучшее классическое образование.
Катков с отличием закончил словесное отделение Императорского Московского университета (1834–1838), где слушал лекции Н. И. Надеждина, М. Т. Каченовского, М. П. Погодина, С. П. Шевырева и др., получив степень кандидата. Преподаватели часто восхищались его блестящими ответами на экзаменах и рекомендовали их остальным студентам в качестве образца.
В годы учебы мыслитель входил в знаменитый философский кружок Н. В. Станкевича, в котором также состояли К. С. Аксаков, В. Г. Белинский, В. П. Боткин,
М. А. Бакунин и проч. Участники кружка «видели в нем замечательное литературное дарование и большое расположение к философским занятиям» [Панаев, 1950, 146]. В этот период Катков был увлечен философией Гегеля и познакомил с ней своих товарищей.
Благодаря поддержке Белинского в студенческие годы он начинает активно сотрудничать с западническими журналами «Московский наблюдатель» и «Отечественные записки». Каткову принадлежит 58 публикаций за два года, включая множество переводов. Белинский встречал новые статьи и рецензии своего молодого талантливого приятеля восторженно: «Я вижу в нем великую надежду науки и русской литературы», «Преобладание мысли в определенном и ярком слове есть отличительный характер его статей и высокое их достоинство» (Белинский, 2012, 8).
В 1840-е гг. М. Н. Катков, как и многие молодые русские мыслители, увлекается немецкой философией. Особое влияние на него оказало учение Шеллинга, для углубленного знакомства с которым он совершает свое первое путешествие в Германию. «Искренность его увлечения германской философией и поэзией выразилась в том факте, что он, будучи лишен всяких средств к существованию, предпринял поездку за границу и прожил около двух лет в Германии в самом бедственном положении», — сочувственно свидетельствует даже такой пристрастный биограф, как Р. И. Сементковский [Сементковский, 2014, 541]. «В лекциях Шеллинга по философии Откровения, соединявших идеализм и Священное Писание, он нашел созвучие своим собственным взглядам на мир, еще не достаточно сформированным, но в основе своей консервативным» [Санькова, 2008, 25].
По возвращении в Москву мыслитель резко и окончательно расходится с Белинским, увидевшим в бывшем приятеле «Хлестакова в немецком вкусе» (Белинский, 2012, 11)]2. Нельзя не согласиться с С. М. Саньковой, что разрыв Каткова и Белинского имел глубокий духовный корень — различное отношение к вере и Церкви. Белинский в то время страстно увлекается революционно-демократическими идеями и приходит к атеизму. В 1845 г. он пишет Герцену: «Истину я взял себе — и в словах „Бог“ и „религия“ вижу тьму, мрак, цепи и кнут, и люблю теперь эти два слова, как следующие за ними четыре» (Белинский, 1956, 205). Катков же даже в своих юношеских исканиях сохранил взращенную матерью глубокую религиозность [Санькова, 2008].
1840-е г. вошли в историю русской мысли как эпоха окончательного размежевания двух непримиримых «партий» — западников и славянофилов. Философия, бывшая ранее в России наукой, ограниченной узким кругом учителей и учеников, становится основным интересом нового поколения. Она вовлекает в свой круговорот все силы общества, а главное — происходит поиск «существа русского и нерусского в мировоззрении, в жизнепонимании, в духе» [Чижевский, 48–49]3.
Резко порвав с прежним кругом, Михаил Никифорович посещал славянофильский салон А. П. Елагиной, но так и не сблизился с представителями этого направления. Он не мог закрепиться в рядах какой-либо «партии», т. к. с самого начала ощущал себя независимым мыслителем. О своем отношении к славянофильским кружкам Катков ярко свидетельствует в письме к А. Н. Попову: «Я здесь молчу и только слушаю. Там слышишь, что Россия гниет; здесь, что Запад околевает, как собака на живодерне; там, что философия цветет теперь в России и надо бы держать ее как можно далее от жизни, заключить ее в формулы, чтобы толпа не смела в нее вмешиваться; здесь, что философия… есть не более как выражение немецкого филистерства» (Катков, 1888, 482).
После успешной защиты в 1845 г. магистерской диссертации «Об элементарных формах русского языка» М. Н. Катков был принят адъюнктом по кафедре философии и читал лекции по истории философии, логике и психологии на словесном отделении. Сохранились противоречивые мнения о его преподавании. Так, Б. Н. Чичерин вспоминал, что «никто из слушателей не понял ни единого слова из всего того, что читал профессор». Н. А. Любимов, П. М. Леонтьев, Е. М. Феоктистов, напротив, считали эти лекции выдающимся явлением в жизни университета. Сам Катков в беседе с С. М. Соловьевым выразил специфику той исторической ситуации, в которой он читал свой первый курс, так: «Вся эта толпа ничего не понимает из моих лекций, а ждет, не ругну ли я Бога» (Соловьев С., 1893, 315).
Под влиянием концепции позднего Шеллинга мыслитель выбирает основной темой для научной работы философию досократиков. Итогом его историко-философских занятий стали «Очерки древнейшего периода греческой истории» (М., 1853). Ценность труда заключалась прежде всего в опоре автора на самостоятельно переведенные первоисточники. По личному признанию, он был одушевляем «тем общим воззрением, которое дает жизнь его мысли и вынесено им из положительной философии Шеллинга, старался сблизиться с предметом и изучать его в самой действительности» (Катков, 2011, 342). Для понимания общей атмосферы эпохи написания этой книги и философского метода начинающего исследователя существенно и другое его замечание во вступлении: «История философии стала в наше время решительною потребностью, однако же ни задача, ни способы ее не приведены в достаточную ясность» (Катков, 2011, 161).
Именно в Московском университете в 1847 г. Катков познакомился с также недавно вернувшимся из Германии после прослушивания курса лекций Шеллинга молодым ученым, филологом-классиком Павлом Михайловичем Леонтьевым (1822–1874). В его лице он обрел на многие годы ближайшего друга, верного единомышленника и главного сподвижника.
Университетской карьере Михаила Никифоровича помешала волна революций в Западной Европе. Опасаясь распространения революционных идей в России, император Николай I в 1850 г. издает Высочайшее повеление, согласно которому вводились значительные ограничения на преподавание политической философии в российских университетах. В частности, запрещалось читать лекции по философии преподавателям, не имеющим духовного сана, и Катков был вынужден покинуть кафедру. По-видимому, стремясь сохранить талантливого и образованного сотрудника, руководство университета в 1851 г. вверяет ему редакторство газеты «Московские ведомости». Одновременно он становится чиновником особых поручений при Министерстве народного просвещения. Получив, наконец, постоянное казенное жалованье и выйдя из нужды, Катков женится на княжне Софье Петровне Шаликовой (1830–1913), дочери писателя П. И. Шаликова, и обретает прочное семейное положение и личное счастье, став впоследствии отцом большого многодетного семейства.
В 1855 г., благодаря поддержке товарища министра народного просвещения князя П. А. Вяземского и статс-секретаря графа Д. Н. Блудова, мыслитель получает разрешение выпускать журнал «Русский вестник». Биографы отмечали, что издание сосредоточило в себе все лучшие силы русской интеллигенции, причем «взгляды редакции отличались необычайной широтой», соединяя вместе «корифеев славянофильства и западничества» [А–в, 1897, 554].
В исследовательской литературе распространено мнение, что в первое время существования журнала, т. е. в 1855–1862 гг., Катков придерживался либеральных взглядов. Однако более аргументированной представляется точка зрения, согласно которой его союз с либеральными западниками был тактическим [Маркелов, 1996]. Это подтверждает и тот факт, что уже в 1858 г. временные либеральные союзники (Е. Ф. Корш, П. Н. Кудрявцев, А. В. Станкевич) покинули редакцию и Катков полностью сосредоточил руководство изданием в своих руках.
Патриотическая позиция «Русского вестника» и его главного редактора проявилась довольно быстро, особенно — в полемике с революционно-демократическими журналами, прежде всего со знаменитым «Современником». Журнал был основан еще в 1836 г. А. С. Пушкиным, однако с 1858 г., когда «Современник» возглавлял «триумвират» в составе Н. А. Некрасова, Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, из литературного издания он превратился в политическую трибуну радикальных революционно-демократических материалистических идей и «утилитаризма» в эстетике. По этой причине оттуда ушли Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев и другие авторитетные литераторы. Известный ученый и публицист Н. А. Любимов так оценивал труды Каткова-просветителя по разоблачению лжепророков российской интеллигенции: «Деятели „Современника“, претендовавшие быть общественными учителями и вождями, изобличались в невежестве, сводились с пьедесталов; великаны обращались в размер ничтожеств» (Любимов, 2012, 310).
На страницах возглавляемого Катковым «Русского вестника» были опубликованы главные шедевры русской классической литературы второй половины XIX в. — художественная проза таких писателей, как И. С. Тургенев («Накануне, 1860; «Отцы и дети», 1862; «Дым», 1867), Ф. М. Достоевский («Преступление и наказание», 1866; «Идиот», 1868; «Братья Карамазовы», 1879–1880), Л. Н. Толстой («Казаки», 1863; первые главы «Войны и мира», 1865–1869; «Анна Каренина», 1875–1877), А. К. Толстой («Князь Серебряный», 1863), П. И. Мельников-Печерский («В лесах», 1871–1874; «На горах», 1875–1881), Н. С. Лесков («Соборяне», 1872; «Запечатленный ангел», 1873; «Захудалый род», 1874). Политика редактора была направлена на широкое освещение религиозной жизни русского народа, пробуждение в российском обществе интереса к церковной и духовно-нравственной проблематике. Это осуществлялось благодаря публикации произведений, содержащих положительные образы священников, монахов, старцев и в целом русского православия, — таких как роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» и роман-хроника Н. С. Лескова «Соборяне» с живыми и глубокими изображениями православных священнослужителей — старца Зосимы, протопопа Савелия Туберозова, священника Захарии Бенефактова и диакона Ахиллы Десницына [Андреев, 2013].
Одно из главных мест в «Русском вестнике» занимал т. н. «антинигилистиче-ский роман»: «Взбаламученное море» А. Ф. Писемского (1863), «На ножах» (1870– 1874) Н. С. Лескова, «Панургово стадо» (1870) и «Две силы» (1874) В. В. Крестовского и др. Кульминацией этого жанра стала публикация романа-предупреждения Ф. М. Достоевского «Бесы» (1871–1872), по поводу которого автор признавался: «То, что пишу, — вещь тенденциозная, хочется высказаться погорячее. (Вот завопят-то про меня нигилисты и западники, что ретроград!). Да черт с ними, а я до последнего слова выскажусь» (Достоевский, 1986, 110). В другом письме Достоевский замечает: «…Кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую и Бога. Ну, если хотите знать, — вот эта-то и есть тема моего романа» (Достоевский, 1986, 145).
Еще в 1869 г. сам M. H. Катков писал о нигилистических настроениях в кругах российской студенческой молодежи: «Вред нигилизма заключается главным образом в миазмах его существования, а не в способности к самостоятельно организованному политическому действию. Искренними нигилистами могут быть только совершенно незрелые молодые люди, которых, к сожалению, благодаря фальшивой педагогической системе… в таком обилии выбрасывали на свет наши учебные заведения» (Катков, 1897a).
Именно Михаил Никифорович и ввел термин «нигилизм» в современном его значении в русскую мысль [Ширинянц, 2005, 232]. Проблема этого явления в литературе и в жизни чрезвычайно занимала мыслителя. Так, «Отцам и детям» он посвящает две программные рецензии — «Роман Тургенева и его критики» (1862) и «О нашем нигилизме по поводу романа Тургенева» (1862). В последней Катков определяет нигилизм как некий «отрицательный догматизм», «религию отрицания» со своими авторитетами, культами и догмами: «Отрицательное направление есть своего рода религия, — религия опрокинутая, исполненная внутреннего противоречия и бессмыслицы, но тем не менее религия, которая может иметь своих учеников и фанатиков» (Катков, 1862, 408).
Уже в этой ранней антинигилистической полемике публицист намечает свою антиреволюционную программу просвещения — «философию жизни»: «Есть только одно верное радикальное средство против этих явлений — усиление всех положительных интересов общественной жизни. Чем богаче будет развиваться жизнь во всех своих нормальных интересах, во всех своих положительных стремлениях, религиозных, умственных, политических, экономических, — тем менее будет оставаться места для отрицательных сил в общественной жизни» (Катков, 1862, 426). В 1866 г. он пишет: «Все эти лжеучения, все эти дурные направления родились и приобрели силу посреди общества, не знавшего ни науки, свободной, уважаемой и сильной; ни публичности в делах, касающихся самых дорогих для него интересов, — посреди общества, находившегося под цензурой и полицейским надзором во всех сферах своей жизни. Все эти лжеучения и дурные направления, на которые слышатся теперь жалобы, суть плод мысли подавленной, неразвитой, рабской во всех своих инстинктах, одичавшей в своих темных трущобах» (Катков, 1866).
Катков глубже многих современников смог осознать антихристианскую суть и опасность грядущего коммунизма. Кульминацией его борьбы с революционным духом стало разоблачение кумира российских интеллигентов А. И. Герцена, издававшего в Лондоне журнал «Колокол». Михаил Никифорович считал, что готовивший России «кровавые реформы» Герцен и прочие революционеры — это лишь марионетки «в руках европейски организованной против нас революции», жалкое орудие внешних врагов России (Катков, 1915, 297). Издатель оценивал их деятельность так: «Может ли быть что-нибудь позорнее, что-нибудь презреннее той роли, которую играли эти наши преобразователи человечества с их „Колоколом“, с их революционными прокламациями, в которых добродушно предлагалось вырезать до 100000 помещиков и провозглашение демократической и социальной республики… и их планом раздробить Россию и покрыть ее фаланстерами?» (Катков, 1863).
В 1863 году начинается новый важный этап в работе Каткова: он берет в аренду «Московские ведомости», быстро превратив скромное университетское издание в самую влиятельную политическую газету Российской империи. Его трудами она становится предметом внимательного чтения двух российских императоров — Александра II и Александра III (считавших газету «своей»), чиновничьей элиты, видных общественных деятелей и литераторов, крупнейших журналистов, дипломатов и политиков Западной Европы. Так, Ф. М. Достоевский в одном из писем признавался: «Передовые „Московских ведомостей“ читаю с наслаждением. Они производят глубокое впечатление» . Е. Феоктистов вспоминал, что «под влиянием громовых статей „Московских ведомостей“ рассеивался мало-помалу хаос в понятиях общества»; Катков, по его словам, «создал здоровое общественное мнение…, имя его гремело по всей России, едва ли кто после Пушкина пользовался такой славой» (Феоктистов, 1991, 143–144).
Возглавив издание накануне своего 45-летия, просветитель оставался у его руля на протяжении почти четверти века — до конца жизни. Все это время он ежедневно писал в свежий номер одну-две, иногда три статьи, так что за год их собиралось до 600–700. После его смерти вдова опубликовала 25 томов этих передовиц, распределив их по годам и снабдив книги ценным тематическим указателем.
* * *
Важное место в авторской публицистике и в изданиях М. Н. Каткова в целом занимает тема православия. Существуют десятки свидетельств современников Михаила Никифоровича о его глубокой личной религиозности и твердой приверженности Православной Церкви. Например, даже идейно неблизкий московскому публицисту
-
В. С. Соловьев вспоминал разговор с ним «о воскресении мертвых и о духовной телесности», после которого у него не осталось «никаких сомнений в искренности и глубине его личных религиозных убеждений» (Соловьев В., 2012, 554–555). По словам современной исследовательницы, «Москва знала Каткова набожным человеком. Его уважали как храмосоздателя и старосту лицейской церкви. Было общеизвестно, что в любой час он пешком ходит на Остоженку в церковь Лицея, чтобы помолиться уединенно, а в дни престольных праздников Катковы направляются туда всей семьей» [Изместьева, 2004, 89]. Кроме того, будучи человеком не просто верующим, но воцерковленным, издатель участвовал в различных общественных организациях, связанных с Православной Церковью, — к примеру, был членом Православного миссионерского общества, а также почетным членом Московской духовной академии, которую в письмах называл «родным приютом, куда отныне, среди борьбы, могу я мысленно обращаться, ища освежения и укреплении сил в минуты их упадка» [Перевалова, 2016, 74].
В руководимых им изданиях Катков всесторонне отражал жизнь Церкви, которой придавал «особо важное значение в объединении государства и единении нации», видя ее ведущую роль в нравственном влиянии на общество в силу приоритета «нравственных законов над всеми государственными и общественными институтами» [Перевалова, 2016, 73]. Он сам неоднократно писал статьи на церковные темы и привлекал к сотрудничеству известных церковных авторов, прежде всего — профессоров Московской духовной академии: профессора по кафедре истории и обличения русского раскола Н. И. Субботина, профессора по кафедре церковной истории А. П. Лебедева, протоиерея Д. Ф. Касицына, С. К. Смирнова, заслуженного экстраординарного профессора В. Н. Потапова, И. Н. Корсунского, В. Г. Назаревского и др. Также в журнале публиковались профессора Киевской духовной академии: историк религиозного искусства археолог Н. И. Петров, профессор по кафедре общей церковной истории А. Д. Воронов, многие православные священнослужители. Михаил Никифорович печатал публицистические и научные статьи, обзоры церковной литературы, воспоминания, письма и записки пастырей, рецензии на церковную литературу.
Особое внимание уделялось проблеме сект и раскола. Катков был противником насильственных методов в отношении старообрядцев и указывал на их положительные качества — приверженность «охранительным началам старорусских устоев», несклонность к революционной деятельности и атеистическому нигилизму и материализму. Не имея возможности перечислить все материалы о расколе, назовем лишь некоторые принадлежащие перу самого публициста передовицы «Московских ведомостей»: «Веротерпимость, ее сущность и границы. Раскол» (1864), «Причина происхождения раскола и путь к его уничтожению» (1864), «Историческое обозрение старообрядческого раскола и о необходимости изучения различных раскольничьих сект» (1866), «Отношение Православия к единоверию» (1869), «Старообрядческий школьный вопрос» (1872), «Вопрос о раскольничьих браках» (1874), «Шаткость воззрения на единоверие и нужды единоверия» (1874), «Дарование льгот раскольникам» (1883) и др.
Достойны внимания многочисленные публикации в изданиях Каткова и по греко-болгарской церковной распре: «Решение болгарского вопроса» (1870) Т. И. Филиппова (Филиппов, 1870), «Панславизм и греки» (1873) К. Н. Леонтьева (Константинов, 1873)4 и проч.
Нельзя не согласиться с Е. В. Переваловой, что материалы «Московских ведомостей» и «Русского вестника» по церковной тематике отличались «подлинно православным пониманием вопросов и неподдельной озабоченностью судьбами Православной Церкви в России и в мире» [Перевалова, 2016, 80].
По мнению В. А. Твардовской, охранительная публицистика второй половины XIX в. провозгласила вопрос о Церкви «главным для современного общества»
[Твардовская, 1978, 336]. Большинство публицистов и мыслителей-консерваторов были противниками отделения Церкви от государства. Так, К. П. Победоносцев утверждал, что государство, «отрешенное от Церкви, становится бездуховным, равнодушным к верованию». А Церковь, отделенную от государства, обер-прокурор Святейшего Синода представлял как бы повисшей в воздухе — «без почвы, без ограды, без органической связи с обществом» [Твардовская, 1978, 335–336]. Как отмечал современник Каткова Аверкиев, в своей деятельности журналиста он «постоянно поддерживал интересы православия, с которым считал неразрывно связанным величие России» [Лебедева, 2014, 39].
В советское время утвердился взгляд на публициста как на государственного идеолога, стремившегося подчинить Церковь государству, использовать ее для достижения чуждых ей политических целей. Наиболее ярко это воззрение выразила Твардовская в вышеупомянутой монографии 1978 г.: «Смысл политики, обоснованной Катковым, был вовсе не в усилении господства духовенства, а в том, чтобы руками церковников усиливать позиции самодержавного государства, укреплять его идеологию». По убеждению советской исследовательницы, мыслитель «всегда отводил Церкви роль подчиненную, служебную по отношению к власти» [Твардовская, 1978, 265]. Сегодня, спустя 40 лет, многие авторы продолжают придерживаться такого же мнения.
Обращение к текстам самого Михаила Никифоровича позволяет поставить под вопрос этот догмат современной «катковианы». Приведем названия только некоторых статей публициста: «Превращение христианской Церкви в бюрократический механизм» (1868), «Гнет, тяготеющий над русской церковной жизнью» (1871), «Огрубение нашего церковного быта. Польза допущения всенародного пения в церквах» (1873), «Новая выдумка: русский „клерикализм“» (1882), «Гонение на православие в России» (1884).
Например, в 1868 г. Катков писал: «Что бы ни говорили защитники папства, ей (Церкви. — И. Г. ) не может принадлежать государственная власть, но потому же самому она не может быть также и полицейским учреждением, не слабея в своем существе, не лишаясь своего духа. Ошибочно было бы думать, что Церковь, опираясь на силу, ей не свойственную, может в то же время сохранять в себе и ту силу, которая ей свойственна. Нет, одно из двух. Чем более Церковь, как и всякое духовное дело, опирается на силу ей внешнюю, тем более бездействует она внутренно. Дух, без которого люди начинают обходиться, отлетает от них, и дело, лишенное жизни, подпадает под закон механизма. Истина только там, где есть убеждение в ней, где есть вера в ее силу. Если люди привыкают поддерживать свое дело механическими способами, то дело мертвеет в их руках, и они теряют веру в него» (Катков, 1868b). В одной из поздних передовиц «Московских ведомостей» издатель провозглашает: «Церкви и с ней всему народу — свобода, а власть, полная и нераздельная, — Царю, — вот наша система» (Катков, 1883).
Для понимания мировоззренческой позиции мыслителя важно замечание д. ф.н. О. Л. Фетисенко, согласно которому Катков не хотел разрушать синодальный строй, но предлагал его реформировать — ослабить государственный присмотр за Церковью, «полицейскую опеку», оживить церковную жизнь; мыслил Церковь как свободную, но безвластную [Фетисенко, 2012, 301–302].
Воззрения Михаила Никифоровича на Православную Церковь и ее роль в обществе формировались под влиянием многих выдающихся церковных деятелей: митрополита Филарета (Дроздова), архиепископа Николая (Касаткина), епископа Игнатия (Рождественского), сербского митрополита Михаила (Йовановича), архиепископа Леонида (Краснопевкова), ректора Московской духовной академии (1878–1886) протоиерея С. К. Смирнова и др. [Перевалова, 2016, 74].
Остановимся на взаимоотношениях московского публициста с митр. Филаретом. Катков неоднократно писал о нем как о великом святителе и первым заговорил о необходимости публикации и изучения его литературного наследия [Дмитриев, 2009]:
«Отныне он (свт. Филарет. — И. Г. ) становится неистощимым предметом изучения, которое не преминет внести новые силы в наше сознание, в наше просвещение. Прошедшая жизнь великого ума, следившего за всем, на все отзывавшегося и во всем принимавшего участие, снова вступит в действие для созерцающей мысли и разумения» (Катков, 1897b). При жизни митрополит внимательно следил за литературной и общественной деятельностью Каткова, особенно с 1863 г., когда тот возглавил «Московские ведомости» и получил от него на свои труды архипастырское благословение (Некролог, 1887g, 119). Патриотическая позиция издателя «не могла не привлечь на его сторону святителя… который и сам же держался тех же воззрений… и издавна руководился теми же началами русской государственной жизни» (Некролог, 1887g, 119).
В статье 1867 г., рассуждая об исторической роли святого, Катков отмечает, что «мы не должны забывать его государственное значение. <…> При высоком и ясном политическом разумении живо и крепко всегда принимал он к сердцу интересы России. <…> В церковной жизни нашего народа были от начала великие деятели и великие дела, и если мы мало знаем их и мало умеем ценить их значение и пользу их труда, то они, тем не менее, составляют богатство нашего народа, которое мы инстинктивно чувствуем» (Катков, 1867а). В том же году, отзываясь на кончину владыки, публицист отмечает, что «в Бозе почивший архипастырь был крепкий хранитель — хранитель, по преимуществу остерегавшийся касаться даже того, что застеняет чистоту и славу хранимого» (Катков, 1867b). Позднее он констатирует: «Если бы Бог продлил до сего дня жизнь митрополита… назидания Филарета, обращенные к гражданскому смыслу, не казались бы теперь только умозрением, а были бы прямым ответом на горячие вопросы жизни» (Катков, 1882a).
Представляется, что такие вопросы, как влияние на мировоззрение мыслителя Православной Церкви, ее иерархов и богословов, проблема соотношения Церкви и государства в религиозно-философском мировоззрении М. Н. Каткова еще недостаточно проработаны в современной научной литературе и нуждаются в новых исследованиях.
* * *
М. Н. Катков с самого начала был одним из главных идеологов т. н. Великих реформ императора Александра II, стремился соединить социальное реформаторство с верностью традиционным началам русской жизни — православию и самодержавию. Михаил Никифорович старался направлять движение государственных преобразований во многих областях — судебной, крестьянской, военной и т. д. Но, пожалуй, главным его достижением стала грандиозная реформа системы российского образования — от начального и гимназического до университетского. Именно в образовании этот бывший университетский профессор видел основу для борьбы с нигилизмом и усиления положительных элементов в общественной жизни.
Активно занимаясь разработкой университетской реформы, Катков не меньшее внимание уделял развитию начального образования. В 1884 г. он писал: «Если с прямого пути собьются лишь некоторые классы общества, так называемая интеллигенция, то в благоприятное время сама жизнь еще как-нибудь исправит зло и создаст новую интеллигенцию. Но если помутятся здравый смысл народа и народная совесть, если поколеблется материк, то исправление трудно и тяжкие катастрофы станут неизбежными» (Катков, 1884). Говоря о народной школе в пореформенной России, он связывал ее развитие с Православной Церковью: «Ни к чему иному не может примыкать народная школа, как к Церкви. Только священнослужитель может быть по преимуществу призванным народным учителем. Итак, Церковь — вот истинная опора народной школы» (Катков, 1882b).
Огромное значение для судеб отечественного образования и русской культуры имела полемика «классицистов» и «реалистов» в 1860–1870-е гг. М. Н. Катков, признанный лидер «классицистов», явился основным вдохновителем реформ министра народного просвещения графа Д. А. Толстого. Большинство его противников принадлежало к либеральному лагерю и активно пропагандировало свою позицию в столичных изданиях — «Санкт-Петербургских ведомостях», «Голосе», «Вестнике Европы». (Хотя среди оппонентов были и такие консервативные мыслители, как Д. И. Менделеев, И. С. Аксаков, князь В. П. Мещерский, Н. П. Гиляров-Платонов и др.)
Катков выступал сторонником системы классического образования не только на словах, но старался доказать ее преимущества и практически. Для этого 13 июля 1868 г. вместе с П. М. Леонтьевым он создает Лицей Цесаревича Николая (в честь рано умершего старшего сына Александра II), получивший покровительство наследника престола цесаревича Александра Александровича, будущего императора. Свою задачу основатели заведения сформулировали в «Московских ведомостях» так: «Провести детей, которые будут вверены заведению, через крепкую и здоровую школу и выпустить их зрелыми, готовыми к жизни юношами, которые в своем звании русского были бы в полной силе детьми Европы — вот заявленная цель нашего предприятия, для достижения которой мы не пожалеем усилий. Эти юноши должны получить образование как приготовительное (в гимназических классах Лицея), так и специально ученое (в его университетских классах), не уступающее по высоте и силе своей образованию других стран цивилизованного мира и в то же время соответствующее коренным потребностям нашего общества» (Катков, 1868a, 21).
Помимо теснейшей связи с Православной Церковью и опоры на классические языки, в Лицее велась работа с одаренными детьми. В специально созданную при нем Ломоносовскую семинарию со всей страны отбирались самые талантливые ученики — выходцы из крестьян и мещан. Заведение имело свои домовую церковь, баню, больницу… Как отмечает О. Л. Фетисенко, «уникальным для России было внимание, которое уделялось в Лицее физическому воспитанию, играм на воздухе, прогулкам. А главной целью учебного заведения ставилось воспитание русских европейцев, слуг Государя и Отечества» [Фетисенко, 2013, 131].
Вот лишь некоторые знаменитые имена выпускников Катковского лицея: князь А. Н. Лобанов-Ростовский (1824–1896, председатель Совета «Русского Собрания»), Ю. А. Кулаковский (1855–1919, выдающийся византолог), А. Н. Волжин (1860–1933, предпоследний обер-прокурор Святейшего синода), А. Я. Головин (1863–1930, известный художник), И. Э. Грабарь (1871–1960, живописец и искусствовед), С. В. Симанский (1877–1970, будущий Патриарх Московский и всея Руси Алексий I), Н. С. Арсеньев (1888–1977, религиозный философ-эмигрант), С. В. Бахрушин (1888–1950, российский историк, член-корреспондент АН СССР). В Лицее получили образование и дети Каткова, причем он вносил за их обучение полную плату, а его дружный и гостеприимный дом был всегда открыт для воспитанников заведения.
После воцарения императора Александра III общественное положение и влияние Михаила Никифоровича усилились. Наряду с К. П. Победоносцевым его называли главным идеологом нового курса. В это время «редакция на Страстном бульваре превратилась в своего рода неофициальный правительственный центр, где вершились государственные дела, разрабатывались проекты „контрреформ“, обсуждались и намечались важнейшие должностные перемещения» [Степанов, 1994, 5].
В марте 1887 г., незадолго до смерти публициста, в письме Александру III обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев дал ему следующую характеристику: «Катков — высокоталантливый журналист, умный, чуткий к истинно русским интересам и к твердым охранительным началам. <…> Он стал предметом фанатической ненависти у всех врагов порядка и предметом поклонения, авторитетом у многих русских людей, стремящихся к водворению порядка. <…> Вся сила Каткова — в нерве журнальной его деятельности как русского публициста, и притом единственного, потому что все остальное — мелочь или дрянь, или торговая лавочка» (Победоносцев, 1993, 490–491).
Катков упокоился в любимой им первопрестольной столице на кладбище Алексеевского монастыря5. В слове на отпевании митрополит Московский и Коломенский Ио-анникий (Руднев) отметил уникальность роли Михаила Никифоровича в российской и мировой истории: «Человек, не занимавший никакого видного высокого поста, не имевший никакой правительственной власти, делается руководителем общественного мнения многомиллионного народа; к голосу его прислушиваются иностранные народы и принимают его в соображение при своих мероприятиях» (Некролог, 1887е).
Узнав о смерти Михаила Никифоровича, император Александр III послал его вдове телеграмму, которая была напечатана в «Московских ведомостях»: «Вместе со всеми истинно русскими людьми глубоко скорблю о вашей и Нашей утрате. Сильное слово покойного мужа вашего, одушевленное горячею любовью к Отечеству, возбуждало русское чувство и укрепляло здравую мысль в смутные времена. Россия не забудет его заслуги, и все соединяются с Нами в единодушной молитве об упокоении души его» (Александр III, 1887).
Из множества некрологов и телеграмм, опубликованных в «Русском вестнике», процитируем лишь несколько замечательных откликов церковной прессы. В частности, Газета «Московские церковные ведомости» писала, что публицист «обнаружил всю глубину зол, в которую впал наш учащийся мир, то праздношатательство, ту-неядничество, постыдное презрение честного труда… в руководителях этого мира… Во дни ложного либерализма возвышал могучий голос против разрушения священных уз семьи, против безначалия» (Некролог, 1887d, 146). Автор церковной газеты свидетельствует, что Катков беспощадно громил «злокозненно переданные нам извне затеи „правового порядка“ и как бы грудью целого русского народа отстаивал драгоценное наследие его истории — православную веру и самодержавную власть <…>. Раскрывал всю глубину обуявшего нас зла и заглушал собою бесстыдное рукоплескание убийцам и разрушителям веками сплотившейся жизни Русского царства». Причем он «смотрел на русского человека не только как на гражданина, но и как на христианина, которого высшие идеалы есть Бог и вечность» (Некролог, 1887d, 147). В некрологе на страницах другого авторитетного церковного органа — «Православного обозрения» — почивший предстает как «всесторонне и высоко образованный мыслитель и глубоко убежденный верующий сын Православной Церкви… искренний верноподданный слуга Царя… непреклонный и неустанный борец за… вековечные устои… постигавший глубокие движения народного духа и художественным мощным словом выражавший его помыслы, тревоги и радости, чаяния и идеалы» (Некролог, 1887f).
На смерть М. Н. Каткова откликнулись не только отечественные, но практически все ведущие европейские издания. По убеждению французского историка и писателя А. Леруа-Болье, он «был самым популярным, самым известным человеком всего государства. <…> Могущество этого журналиста представляло собою нечто вроде аномалии, весьма трудно понятной для иностранцев. Этому народу, часто не сознающему своих собственных потребностей, своих собственных страстей, он дал голос, более того: он дал ему сознание. В его речах вся народная масса России слушала самое себя, узнавала самое себя и рукоплескала самой себе» (Леруа-Болье, 1887, 200). «В этой стране, где образованные классы, интеллигенция, как их там называют, и народ составляют как бы две чуждые друг другу народности, Катков был почти единственный человек, голос которого проникал до самых глубоких слоев, до „русской России“. И это было потому, что он затрагивал в ней простые мысли, первоначальные чувства… — любовь к Царю и земле Русской, любовь к православию и православным братьям» (Леруа-Болье, 1887, 201).
Европейский историк очень точно разглядел самостоятельность, самобытность московского мыслителя и публициста, его независимость от партийной борьбы: «Катков весьма отличался от славянофилов, с которыми его часто смешивают на Западе»; он «не принадлежал ни к какой партии и ни к какой школе: для этого он был слишком своеобразен, слишком независим, слишком исключителен. <…> Он был скорее трибуном, могучий голос которого вдохновлялся национальными чувствами, а не политическими формулами или отвлеченными теориями. Это был ум положительный, не заботящийся о доктринах, пользовавшийся ими вместо того, чтобы служить им» (Леруа-Болье, 1887, 201).
Итак, для многих современников Катков был «образцом христианина и гражданина», «охранявшим духовно историческую личность русского народа», «представителем и выразителем» народных мыслей (Аверкиев, 1887).
* * *
Авторитетный современный историк Русской Православной Церкви д. и.н. Н. Ю. Сухова, размышляя о фигуре К. П. Победоносцева, посетовала, как «непросто разрушить миф о злом гении, блоковском „колдуне“… и увидеть трагическую личность, жертвенно служившую Родине и Церкви» [Мамонов, 2013 , 104]. Думается, что при осмыслении личности и мировоззрения Михаила Никифоровича Каткова также требуется уйти от устоявшихся схем и развенчать более чем 100-летнюю мифологию.
Из приведенных свидетельств очевидно, что личность и литературные труды М. Н. Каткова оказали огромное влияние на его современников и рассматривались ими как пример деятельности по укреплению традиционных начал русской жизни, прежде всего — Церкви и государства. Но драматические события нашей истории почти на столетие вырвали из отечественной культуры многие достойнейшие имена, в том числе и это. В результате возможность осмысления трудов мыслителя и публициста — в частности, уникального опыта его полемики с нигилистическими и антигосударственными силами, защиты Православной Церкви и русской культуры — отсутствовала. Хочется надеяться, что дальнейшее серьезное научное исследование религиозно-философского наследия и литературно-издательской деятельности Михаила Никифоровича Каткова позволит отказаться от сложившихся стереотипов и поверхностных взглядов и по достоинству оценить его вклад в развитие отечественной религиозно-философской мысли и православного просвещения.
Список литературы К характеристике религиозно-философского мировоззрения М. Н. Каткова
- Leroy-Beaulieu A. L'Empire des Tsars et les Russes. P., 1991. 1392 p.
- Аверкиев Д. О значении М. Н. Каткова. Памяти М. Н. Каткова//Русский вестник, издаваемый С. Катковою. 1887. С. 131-141.
- Александр III, имп. Памяти М. Н. Каткова//Русский вестник, издаваемый С. Катковою. 1887. С. 3.
- Белинский В. Г. Ах, брат, что это за человек! Из писем о М. Каткове//Катков М. Н. Собрание сочинений: в 6 т. СПб., 2012. Т. 6: Михаил Никифорович Катков: pro et contra. С. 7-12.
- Белинский В. Г. Письмо А. И. Герцену, 26 января 1845 года//Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. М., 1956. Т. 12: Письма 1841-1848. С. 205.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1986. Т. 29. Кн. 1.573 с.
- Катков М. Н. Беспорядки в высших учебных заведениях //Катков М. Н. Собрание передовых статей "Московских ведомостей". 1869 год. М., 1897. URL:htp://dugward.ru/library/katkov/katkov_besporadki_v_vysshih.html (дата обращения: 15.05.2018).
- Катков М. Н. Величие власти русского царя // Московские ведомости.1883.№ 129. URL: htp://dugward.ru/library/katkov/katkov_velichie_vlasti_russkogo_carya.html(дата обращения: 15.05.2018).
- Катков М. Н. Главнейшие основания, на которых предполагается открыть Лицей Цесаревича Николая//Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1868 год. М., 1897. C. 20-22.
- Катков М. Н. Государственное значение митрополита Филарета// Московские ведомости. М.,1867.№ 172. URL: htp://dugward.ru/library/katkov/katkov_gosudarstvennoe_znachenie_mitr_filareta.html (дата обращения: 15.05.2018).
- Катков М. Н. Кончина митрополита Филарета // Московские ведомости. М., 1867. № 255. URL: htp://dugward.ru/library/katkov/katkov_konchina_mitropolita_filareta.html (дата обращения: 15.05.2018).
- Катков М. Н. Наше варварство -в нашей иностранной интеллигенции//Катков М. Н. Идеология охранительства. М., 2009. С. 300-304.
- Катков М. Н. Необходимость уничтожения касты в православном духовенстве // Московские ведомости. М., 1868. № 40. URL: htp://dugward.ru/library/katkov/katkov_neobhodimost_unichtojeniya.html (дата обращения: 15.05.2018).
- Катков М. Н. Нигилизм по брошюре проф. Цитовича//Катков М. Н.Идеология охранительства. М., 2009. С. 383-388.
- Катков М. Н. О нашем нигилизме по поводу романа Тургенева//Русский вестник. 1862. № 7. С. 402-426.
- Катков М. Н. О свободе совести и религиозной свободе//Имперское слово. М., 2002. С. 150-156.
- Катков М. Н. Очерки древнейшего периода греческой философии//Катков М. Н. Сочинения: в 6 т. СПб., 2011. Т. 4: Философские чтения: Статьи, тракта-ты, полемика. С. 161-328.
- Катков М. Н. Православие-основа русской народности//Катков М. Н. Идеология охранительства. М., 2009. С. 411-413.
- Катков М. Н. Письма М. Н. Каткова к А. Н. Попову. 1843-1857//Русский архив. М., 1888. № 8. С. 480-499.
- Катков М. Н. Письмо П. А. Валуеву, 12 мая 1863 г.//Русская старина.СПб., 1915. № 8. С. 296-300.
- Катков М. Н. По поводу гневных выходок газеты "Весть" // Московские ведомости. М., 1866. № 205. URL: htp://dugward.ru/library/katkov/katkov_po_povodu_gnevnyh.html (дата обращения: 15.05.2018).
- Катков М. Н. По поводу погребения митрополита Филарета // Катков М. Н. Собрание передовых статей "Московских ведомостей". 1867 год. № 262.М.,1897. URL: htp://dugward.ru/library/katkov/katkov_po_povodu_pogrebenia_mitr_filareta.html(дата обращения: 15.05.2018).
- Катков М. Н. Проект польского восстания, подписанный Мерославским и найденный у графа Андрея Замойского // Московские ведомости. М., 1863. № 247.URL: htp://dugward.ru/library/katkov/katkov_proekt_polskogo_vosstania.html(дата обращения:15.05.2018).
- Катков М. Н. Славянские первоучители // Московские ведомости.М., 1885. № 92-93. URL: htp://dugward.ru/library/katkov/katkov_slavyanskie_perv.html (дата обращения: 15.05.2018).
- Катков М. Н. Столетний юбилей митрополита Филарета // Московские ведомости. М., 1882. № 357. URL: htp://dugward.ru/library/katkov/katkov_stoletniy_ubiley_mitropolita_filareta.html (дата обращения: 15.05.2018).
- Катков М. Н. Церковно-приходские школы//Московские ведомости. М,1884. № 347, 348.
- Катков М. Н. Церковь и народная школа//Московские ведомости. М,1882. № 290. С. 2.
- Константинов Н. Панславизм и греки//Русский вестник. М.,1873. № 2. С. 904-934.
- Ленин В. И. Карьера//Полн. собр. соч.: в 55 т. М., 1973. Т. 22. С. 43-44.
- Леруа-Болье А. Б. н. «Journal des Debats». Отзывы французской,бельгийской и итальянской печати. Памяти М. Н. Каткова//Русский вестник, издаваемый С. Катковою. 1887. С. 200-203.
- Любимов. Н. А. Катков и его историческая заслуга. По документами личным воспоминаниям//Катков М. Н. Собрание сочинений: в 6 т. СПб., 2012. Т. 6:Михаил Никифорович Катков: pro et contra. С. 281-324.
- Мельников П. И. Счисление раскольников//Русский вестник. М.,1868. № 2. С. 403-442.
- La Republique Française. Отзывы французской, бельгийской и итальянской печати. Памяти М. Н. Каткова//Русский вестник, издаваемый С. Катковою. 1887. С. 205-206.
- Московские ведомости. Отзывы русской печати.Памяти М. Н. Каткова//Русский вестник, издаваемый С. Катковою. 1887. С. 146-147.
- Московские епархиальные ведомости. Отзывы русской печати. Памяти М. Н. Каткова//Русский вестник, издаваемый С. Катковою. 1887.С. 148-149.
- Московские церковные ведомости. Отзывы русской печати. Памяти М. Н. Каткова//Русский вестник, издаваемый С. Катковою. 1887.С. 146-147.
- Памяти М. Н. Каткова//Русский вестник, издаваемый С. Катковою. 1887. С. 25.
- Православное обозрение. Отзывы русской печати.Памяти М. Н. Каткова//Русский вестник, издаваемый С. Катковою. 1887. С. 147-148.
- Сергиев Посад. Письменные заявления.Памяти М. Н. Каткова//Русский вестник, издаваемый С. Катковою. 1887. С. 119-121.
- Павлов Н. М. Полемика Каткова с Герценом: эпизод из шестидесятых годов//Катков М. Н. Собрание сочинений: в 6 т. СПб., 2012. Т. 6: Михаил Никифорович Катков: pro et contra. С. 396-411.
- Петров К. П. Публицист-государственник//Катков М. Н. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 6: Михаил Никифорович Катков: pro et contra. С. 585-610.
- Победоносцев К. П. Письма к Александру III//Победоносцев К. П. Великая ложь нашего времени. М., 1993. С. 341-623.
- Соловьев В. С. Нескольколичных воспоминаний//Катков М. Н. Собрание сочинений: в 6 т. СПб., 2012. Т. 6: Михаил Никифорович Катков: pro et contra. СПб., 2012. С. 554-561.
- Соловьев С. М. Избранные труды. Записки. М., 1983. 438 с.
- Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы (1848-1896). Воспоминания. М., 1991. 464 с.
- Филиппов Т. И. Решение Болгарского вопроса//Русский вестник.М., 1870. № 6. С. 678-723.
- А-в С. Катков М. Н.//Русский биографический словарь А. А. Половцова: в 25 т. СПб., 1897. Т. 8. С. 548-560.
- Андреев М. А. Редакторская деятельность М. Н. Каткова и проблемы религиозной жизни в российском обществе второй половины XIX в.//Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки.Орел, 2013. № 4. С. 135-137.
- Гаврилов И. Б. К вопросу о характеристике философского и научного наследия С. П. Шевырева//Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии. СПб., 2017. № 1. С. 122-133.
- Гаврилов И. Б. Константин Аксаков о «русском воззрении» (1830-1840 гг.)//Христианское чтение. СПб., 2017. № 1. С. 238-262.
- Гаврилов И. Б. Степан Петрович Шевырев о «русском воззрении»//Христианское чтение. СПб., 2016. № 1. С. 254-258.
- Деревягина Е. В. «Московские ведомости» М. Н. Каткова (1863-1887) в русском литературном процессе. Дисс. … канд. филол. наук. Великий Новгород,2004. 250 с.
- Дмитриев А. П. Филаретовский юбилей 1867 г. и кончина святителя в оценках «Триумвирата» московских консерваторов (И. С. Аксаков, Н. П. Гиляров-Платонов, М. Н. Катков)//Филаретовский альманах. М., 2009. Вып. 5. С. 165-186.
- Едошина И. А. Катков как мыслитель//Литературоведческий журнал. М., 2012. № 2. С. 74-92.
- Изместьева Г. П. Михаил Никифорович Катков//Вопросы истории. М., 2004. № 4. С. 71-92.
- Кирпотин В. Я. Катков накануне польского восстания//Звезда.Л., 1927. № 7. С. 141-152.
- Китаев В. А. От фронды к охранительетву. Из истории русской либеральной мысли 50-60-х годов XIX века. М., 1972. 288 с.
- Котов А. Э. Консервативная печать в общественно-политической жизни России 1860-1890-х годов: М. Н. Катков и его окружение. Дисс. … докт. ист. наук.СПб., 2017. 680 с.
- Кругликова О. С. Опыт конструктивного сотрудничества журналистики и власти в пореформенной России: публицистика и общественная деятельность М. Н. Каткова. Дисс. … канд. филол. наук. СПб., 2008. 218 с.
- О значении М. Н. Каткова//Воспоминания о Михаиле Каткове/сост., пред. и комм. Г. Н. Лебедевой. М., 2014. С. 28-40.
- Лебедева Г. Н. Социально-философская концепция русского консерватизма в творчестве М. Н. Каткова. Дисс. … канд. филос. наук. СПб., 1996. 163 с.
- «К. П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России» Александра Полунова/подг. А. В. Мамонов//Российская история. М., 2013.№ 1. С. 91-119.
- Маркелов Е. В. Пути исканий русской интеллигенции: оформление охранительной концепции М. Н. Каткова//Обозреватель. М., 1996. № 10-12 (81-83).С. 99-105.
- Пайпс Р. Русский консерватизм и его критики: Исследование политической культуры/пер. с англ. И. Павловой. М., 2008. 252 с.
- Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950. 472 c.
- Перевалова Е. В. Журнал М. Н. Каткова «Русский Вестник»в первые годы издания (1856-1862). М., 2010. 346 с.
- Перевалова Е. В. Защита Православия в изданиях М. Н. Каткова:журнале «Русский вестник» и газете «Московские ведомости»//Проблемы полиграфиии издательского дела. М., 2016. № 4. С. 71-81.
- Попов Э. А., Велигонова И. В. Когда Слово повелевает Империей. Периодические издания М. Н. Каткова и новые технологии общественно-государственной политики реформирующейся России (середина 1850-х -1880-е гг.). М., 2014. 207 с.
- Попов Э. А., Велигонова И. В. М. Н. Катков: социальный портрет в контексте меняющейся эпохи (к постановке проблемы). Вестник Сургутского педагогического университета. Сургут, 2012. № 4. С. 31-36.
- Санькова С. М. Государственный деятель без государственной должности. М. Н. Катков как идеолог государственного национализма: историографический аспект. СПб., 2007. 298 с.
- Санькова С. М. Михаил Никифорович Катков: в поисках места(1818-1856). М., 2009. 223 с.
- Санькова С. М. Обучение М. Н. Каткова в Берлинском университете как переломный момент в становлении его мировоззрения//Вестник РГУ им. И. Канта.Серия: Гуманитарные науки. Вып. 12. Калининград, 2008. С. 21-26.
- Санькова С. М. Роль Русской Православной Церкви в деле народного образования в представлении М. Н. Каткова//Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. Орел, 2011. № 6.С. 304-306.
- Сементковский Р. Михаил Катков. Его жизнь и литературная деятельность//Воспоминания о Михаиле Каткове. М., 2014. С. 533-598.
- Степанов В. «Зло исчезнет, как только во всем величии выступит Россия». Записка М. Н. Каткова Александру III//Источник. М., 1994. № 5. С. 4-11.
- Тагер Е. Катков//Литературная энциклопедия: в 11 т. М., 1931. Т. 5.С. 162.
- Твардовская В. А. Идеология пореформенного самодержавия(М. Н. Катков и его издания). М., 1978. 279 с.
- Фетисенко О. Л. Гептастилисты: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики (Идеи русского консерватизма в литературно-художественных и публицистических практиках второй половины ХIХ -первой четверти ХХ века). СПб., 2012.784 с.
- Фетисенко О. Л. Константин Леонтьев и Катковский лицей//Литературоведческий журнал. М., 2013. № 32. С. 129-140.
- Чижевский Д. И. Гегель в России. СПб., 2007. 411 с.
- Шипилов С. Н. Эволюция идеологии русского пореформенногоконсерватизма: этнокультурные и политические аспекты: по произведениям М. Н. Каткова. Дисс. … канд. ист. наук. М., 2009. 167 с.
- Ширинянц А. А. Катков Михаил Никифорович//Общественная мысль России XVIII -начала XX века: энциклопедия. М., 2005. С. 231-234