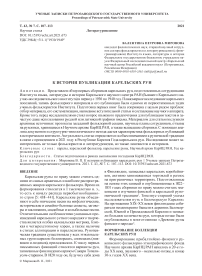К истории публикации карельских рун
Автор: Миронова Валентина Петровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 7 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
Представлен обзор первых сборников карельских рун, подготовленных сотрудниками Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН (бывшего Карельского научно-исследовательского института) в период с 1930 по 1940 год. Планомерное исследование карельских поселений, запись фольклорного материала и его публикация были одними из первостепенных задач ученых-фольклористов Института. Подготовка первых книг была сопряжена с целым рядом проблем: отбор материала, его систематизация, написание вступительной статьи и составление научного аппарата. Кроме того, перед исследователями стоял вопрос языкового предпочтения для публикации текстов и зачастую даже использования русской или латинской графики письма. Материалом для статьи послужили архивные источники: протоколы заседаний фольклорной секции, научные планы сотрудников, отзывы на рукописи, хранящиеся в Научном архиве КарНЦ РАН, а также вышедшие сборники. С помощью анализа документов и структурно-типологического метода дается характеристика фольклорных публикаций в историческом контексте. Актуальность статьи определяется особым вниманием к рунической традиции в связи с проведением в 2021 году в Республике Карелия Года карельских рун. Исследование может заинтересовать не только фольклористов и литературоведов, но также лингвистов и историков
Карелы, карельский фольклор, карельские руны, научный архив карнц ран, год карельских рун
Короткий адрес: https://sciup.org/147235903
IDR: 147235903 | УДК: 398.8(=511.1)"1930/1949" | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.673
Текст научной статьи К истории публикации карельских рун
Карельские руны по праву можно считать одними из самых архаичных и наиболее распространенных жанров карельского фольклора. Время их формирования относится к I тысячелетию н. э., то есть к началу распада первобытнообщинного строя [5: 438–441]. Карельские руны объединяют в себе эпические песни на мифологические, исторические и семейно-бытовые сюжеты, заговоры и заклинания, свадебные и колыбельные песни. Отличительными особенностями указанных произведений карельского устного народного творчества является особая калевальская метрика, близкая к четырехстопному хорею, а также наличие в стихах аллитерации и параллелизма. Рунопевческая традиция существовала у всех этнолокаль-ных групп карелов : беломорских, олонецких (лив-виков и людиков), приладожских. К числу первых письменных фиксаций относятся варианты рун, записанные финляндским врачом Сакари Топели-усом-старшим. В 1820 году он, будучи у себя дома
в Финляндии, записывал карельских коробейников, активно занимавшихся торговлей в разнос на приграничных территориях. Подготовленные на основе этих записей и опубликованные в 1822– 1831 годах сборники по праву можно считать знаковыми в изучении финской и карельской рунопевческой традиции1. Топелиус-старший указал исследователям путь в Беломорскую Карелию. На протяжении XIX–XX веков финляндские собиратели неоднократно бывали в деревнях Беломорской, Южной и Приладожской Карелии и записали большое количество рун, которые позже были опубликованы в многотомнике «Древние руны финского народа»2.
ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ
КАРЕЛЬСКИХ РУН
Формирование прибалтийско- финского рукописного фольклорно-этнографического фонда Научного архива КарНЦ РАН началось в 20-е годы ХХ века, звукового – несколько позже, в конце 30-х годов ХХ века.
В центре внимания первых исследователей была прежде всего поэзия калевальской ме-трики3 – эпические песни и заговоры. У истоков собирания рун в Советской Карелии был уроженец Калевальского района Г. Х. Богданов [1]. Будучи аспирантом кафедры финно-угорской филологии филологического факультета ЛГУ, в 1927–1928 годах он участвовал в трех Северозападных этнологических экспедициях, предпринятых русско-финской секцией Постоянной комиссии по изучению племенного состава населения. Основная цель этих экспедиций – исследование состояния материальной и духовной культуры Карелии. В 1928 году работа была сосредоточена в Беломорской (Северной) Карелии. Г. Х. Богданов отвечал за фиксацию фольклорного и лингвистического материала, а также сбор сведений по молодежному быту и досугу. В ходе этой экспедиции ему удалось зафиксировать пять отрывков карельских эпических песен и 18 отрывков заговорных рун. Кроме того, был записан другой фольклорный материал, часть из которого позже была опубликована в книге «Карельский сборник», вышедшей в Ленинграде в 1929 году. Наряду с текстами устного народного творчества карелов, Г. Х. Богданов попытался дать характеристику состоянию устной поэзии местного севернокарельского населения4.
Дальнейшая история собирания карельских рун напрямую связана с организацией в 1930 году в Карелии Научно-исследовательского института (КНИИ), для сотрудников этнографо-лингвистической секции которого фиксация эпического наследия коренных народов была первостепенной задачей. С 1932 по 1939 год исследователи Института обследовали северные районы: Ке-стеньгский (ныне Лоухский), Калевальский, Ругозерский (ныне Муезерский), Сегозерский (ныне Медвежьегорский), Тунгудский (ныне Беломорский), а также южные – Олонецкий, Пря-жинский и Петровский (ныне Кондопожский). Результатами первых фольклорных экспедиций стали богатые материалы по устной народной поэзии карелов5.
ИСТОРИЯ ПУБЛИКАЦИИ ПЕРВЫХ СБОРНИКОВ РУН
Уже с 1931 года сотрудники этнографо-лингвистической секции на заседаниях обсуждали возможность издания первых фольклорных сборников, однако в течение многих лет эти задумки оставались лишь планами. К примеру, в 1933 году были намечены составление и издание сборника традиционных песен с текстами на финском и русском и на карельском и русском языках. Сроки работы – 1934–1937 годы, тираж – 20 000 экземпляров6.
В плане 1934 года значится уже издание сборника по музыкальному фольклору. Связано это, вероятно, с тем, что в 1934 году при этнографолингвистической секции был создан сектор музыкальной культуры, который возглавил аспирант КНИИ В. П. Гудков. Под руководством ленинградского музыковеда Е. В. Гиппиуса он вел исследование звукорядов и ладов традиционной карельской музыки. Во время работы в Институте В. П. Гудков принимал участие в полевых исследованиях Кестеньги, выезжал также в деревни Ухтинского, Петровского, Пряжинско-го районов, где собирал песни, руны, вел поиски старинных музыкальных инструментов. Наряду с изучением музыкальной традиции Карелии В. П. Гудков был увлечен возрождением древнего музыкального инструмента кантеле [2]. Благодаря активной экспедиционной деятельности к 1935 году сотрудники Института выявили в различных районах Карелии более 20 кантелистов, а наличие кантеле было отмечено в 40 населенных пунктах7. Собранный материал позволил В . П. Гудкову запланировать на 1936 год издание сборника «Карельское кантеле»8. Попутно строились планы по подготовке им же сборника «Национальный фольклор Карелии», объем – 12 п. л., тираж – 3000 экземпляров9.
Практически с начала основания Института в этнографо-лингвистической секции работал В. Я. Евсеев, проводивший активную экспедиционную деятельность10. Результаты полевых выездов исследователь планировал включить в сборник карельского фольклора на местных на-речиях11. Однако после экспедиций в Южную Карелию, где В. Я. Евсееву удалось найти богатый фольклорный материал, его планы несколько изменились. В 1935 году началась работа над сборником под рабочим названием «Южно-карельские (в варианте – ливские) руны “Калевалы”». Исследователь намеревался закончить подготовку рукописи в течение четырех месяцев. Предполагаемый объем сборника – 10 п. л. В книгу вошли бы следующие теоретические разделы:
-
– бытование и сложности собирания;
-
– о скрещивании разных жанров;
-
– лексика и топонимика рун, заимствование рун;
-
– развитие и отражение исторической действительности.
Собственно руны на карельском языке с переводом планировалось опубликовать на 4 п. л.12
На следующий год название книги уже изменилось, в планах значилась подготовка сборника
«Руны ливской Карелии и их язык в свете развития мышления и исторических процессов»13. Большую часть книги автор хотел уделить исследованию эпических песен.
В целом фиксация материала сотрудниками Института проводилась непоследовательно, поскольку собирание, как отмечал В. П. Гудков на совещании по фольклору, проводимом в 1936 году на секции,
«считалось настолько малозначительным делом, что для него трудно было найти людей, имеющих достойную общеобразовательную подготовку и владеющих карельскими наречиями»14.
На этом же заседании обсуждался вопрос о возможном привлечении обучающейся в городе сельской молодежи к экспедиционной работе. Наибольшее количество таких студентов было сосредоточено в Карельском педагогическом институте, в ходе проведения совещания было замечено, что данное учебное заведение в работе по фольклору принимало незначительное участие. Вероятно, настоящее заседание послужило некоторым толчком для активизации собирательской работы среди исследователей. Кроме того, сотрудники Института стали проводить курс народной музыки и фольклора у студентов Карельского педагогического института, что давало возможность ближе познакомиться с ними и предложить им определенный круг работ. Как наглядно демонстрируют архивные коллекции прибалтийско-финского фонда, процесс пополнения рукописными материалами активизировался именно во второй половине 30-х – начале 40-х годов ХХ века.
В дальнейшем записи велись силами не только первых сотрудников научного учреждения, а именно В. Я. Евсеевым, Ф. С. Титковой, И. Я. Паж-лаковым, Е. П. Каллио, но и многочисленными студентами Карельского педагогического института, в большинстве своем карелами по национальности. Студенты могли выезжать в экспедиции как во время летних, так и во время зимних каникул. К примеру, в январе 1939 года было выдано 13 удостоверений студентам Карельского педагогического института для сбора материала в Олонецком, Пряжинском, Калевальском, Ке-стеньгском, Кемском и Лоухском районах.
На 1936 год было запланировано издание сборника карельского фольклора, в котором были бы представлены текстовые и музыкальные образцы на карельских наречиях с русскими переводами. Авторы предполагали во вступительной статье дать характеристику материала. Тираж – 2000–12 000 экземпляров15. Работа должна была выполняться группой исследователей.
Кроме того, в это же время сотрудники Института планировали подготовить и выпустить в свет в издательстве «Кирья» многотомник «Руны Карелии», 16 п. л., куда бы вошли тексты, записанные во всех районах Карелии. Корпус предварялся бы вступительной статьей, в научный аппарат входили бы примечания, нотные приложения, биографический словарь рунопев-цев16. В 1937 году объем книги был уже увеличен до 28 п. л. Однако сборник в намеченное время так и не вышел в свет.
На 1939 год планировалось издание песен Южной и Средней Карелии – 2 п. л. Исполнителем были назначены Ф. С. Титкова и К. Ф. Степ-пиева. В этом же году книга «Карельскойт вахнанайгайзет рахвахан паёт» вышла в Петрозаводске в издательстве «Каргосиздат» тиражом 3000 экземпляров17. В ней опубликовано 24 текста, это в основном поздние рифмованные лирические песни, представлено несколько вариантов лиро-эпических песен. Вступительная статья политизирована, изобилует цитатами из работ В. И. Ленина, М. Горького, подчеркивается, что советская власть способствует сохранению традиционной культуры, а также созданию нового фольклора. Кроме того, указывается, что данное издание будет содействовать развитию карельского литературного языка. Характеристика публикуемого материала представлена лаконично. Сборник снабжен примечаниями: дана паспортизация текстов. Книга была опубликована на русской графике письма без перевода. Руны представлены сюжетами на семейно-бытовую тематику – это «Выкуп девушки», «Морские женихи» и «Молодая жена жалуется на мужа». Тексты в корпусе текстов расположены случайным образом.
В 1939 году в Петрозаводске в издательстве «Каргосиздат» тиражом 5000 экземпляров увидела свет книга И. Пажлакова под редакцией В. Королева «Карелиян эпической паёт»18. В сборник вошло 12 эпических песен, записанных исследователями Института во всех районах Карелии. Представлен круг наиболее распространенных эпических сюжетов: сватовство героев, изготовление лодки, пир в Пяйвёле, поездка в По-хьёлу и др. Причем неопытность начинающих исследователей не позволяла представить четкую классификацию: руны на один и тот же сюжет были разделены другими текстами. Книга снабжена краткими примечаниями: даны паспортные данные исполнителей. В отличие от первого сборника, вступление данного издания дает характеристику каждой опубликованной эпической песне, что, несомненно, является достоинством этого небольшого издания. Кроме того, впервые представлены описания отдельных антропонимов и топонимов. Вступление, тексты и научный аппарат написаны также на карельском языке, использовалась русская графика письма. Обращает на себя внимание тот факт, что составители указанных сборников в своих вступлениях в большом количестве используют русские заимствования. В этой связи текст введения оказывается примитивным, а в некоторых случаях даже смешным19. Использование русского алфавита и обилие русизмов, несомненно, обусловлены языковыми процессами, проходившими в то время в Карелии. В частности, именно в указанный период карельский литературный язык призывали освободить от элементов финского языка и приблизить его к русскому языку [3: 74–75].
Судя по сохранившимся планам работы фольклорной группы, В. Я. Евсеев с 1931 по 1941 год вел подготовку большого количества сборников, но практически ни один из них не был выпущен. К примеру, помимо указанных выше изданий, в 1938 году он работал над сборником «Избранные руны карельского народа»20. На 1939 год у Евсеева в планах стояла также подготовка к изданию книги «Карельский фольклор Ведло-зерского района»21. Причиной несостоявшихся планов, несомненно, был тяжелый характер составителя: архивные документы наглядно демонстрируют, что у В. Я. Евсеева были сложные отношения с коллегами и руководством Института. Кроме того, он достаточно вольно относился к записанному им же материалу, мог легко его перерабатывать и изменять карелоязычные тексты по своему усмотрению22. В 1935 году В. Я. Евсеев был вынужден уйти из Института, поскольку им по просьбе Э. Гюллинга, признанного позже «врагом народа», в финской газете была опубликована заметка о карельском фольклоре23. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, В. Я. Евсеев продолжал самостоятельно собирать фольклор и готовить сборники даже за пределами Института24. В 1938 году он вновь начинает работу в научном учреждении.
В 1940 году в Петрозаводске в издательстве «Госиздат Карело-финской ССР» на русском языке был издан сборник «Сампо», подготовленный В. Я. Евсеевым под общей редакцией Ф. Егорова, в оформлении книги принимал участие художник Г. А. Стронк. Тираж – 5000 экземпляров25. В опубликованном варианте книги тексты представлены на русском языке. В нее вошло 102 варианта рун (полностью или частично), причем составитель использовал как записи финляндских и российских собирателей XIX века, которые были зафиксированы от карелов и опубликованы ранее в многотомнике «Древние руны финского народа» (SKVR – Suomen kansan vanhat runot) и в журнале «Живая старина» за 1894 год26, так и собственные экспедиционные материалы: традиционные руны и некоторые новины (эпические песни на советскую тематику). Корпус текстов состоит из трех разделов в соответствии с тематикой эпических песен: от самых архаичных до наиболее современных сюжетов. В отличие от предыдущих сборников, систематизация рун и композиция в целом продуманы составителем. Книга снабжена примечаниями – двумя небольшими словарями непонятных слов. В первом дается расшифровка антропонимов и топонимов, во втором – непонятные русскому читателю слова карельского происхождения. Над рукописью В. Я. Евсеев работал в течение многих лет, в планах у него было издать двуязычный сборник, однако осуществить свою задумку в 1940 году ученый так и не сумел. Возможно, позднее эти наработки стали основой для сборника «Карело-финский народный эпос»27. На страницах местной печати появилась негативная рецензия на издание В. Я. Евсеева «Сампо», составитель был обвинен в фальсификации текстов28. Вероятно, вольное отношение к материалу было одной из основных причин, не позволивших всем подготовленным этим исследователем сборникам выйти в свет в 1930– 1940-е годы.
В течение нескольких лет исследователями этнографо-лингвистической секции велась работа по подготовке сборника под рабочим названием «Песни народов Карельской АССР». Это было бы первое издание, куда бы вошел музыкальный фольклор народов, населяющих Карелию (песни карелов, вепсов, финнов и русских). Тексты планировалось представить на языке оригинала с кратким содержанием на русском языке. Жанровый состав – руны, обрядовые, шуточные, лирические, плясовые песни, частушки и современный фольклор. В 1941 году выходит сборник «Песни народов Карело-Финской ССР»29. Составителями книги были В. П. Гудков и Н. Н. Леви, ответственный редактор В. И. Машезерский. В издании было три раздела: карельские, русские и вепсские песни. Среди карельских текстов есть эпические, лиро-эпические, лирические, колыбельные песни, частушки и новины. Тексты в сборнике расположены следующим образом: название текста на карельском языке, его перевод.
Далее представлена нотная расшифровка песни. Текст самой песни расположен в два столбца: слева – карельский, справа – русский перевод. Карельский текст представлен русской графикой письма. Во вступительной статье составители отмечают, что сборник является первым опытом публикации музыкального фольклора КарелоФинской ССР и служит началом большого дела – собирания и публикации песенных сокровищ Карелии.
В 1941 году в Государственном издательстве Карело-Финской ССР вышел сборник под редакцией академика Ю. М. Соколова «Карело-финские эпические песни», тираж – 10 000 экземпляров. Ответственным редактором сборника был Х. И. Лехмус30. В книге представлены 12 эпических сюжетов (рождение, подвиги и смерть героев), бытовавших в народе. Систематизация проведена по тематическому принципу. В предисловии отмечены экспедиционные выезды, подчеркивается, что собирательскую работу необходимо продолжать и в дальнейшем. Тексты эпических песен представлены только на русском языке, читатель знакомится с литературными переводами эпических песен на различные сюжеты. В примечаниях дается краткое содержание каждой руны, отдельно отмечено, от кого было записано то или иное произведение. Кроме того, представлен перечень собственных имен с пояснениями. Книга была рассчитана на широкого читателя, прежде всего русскоязычного. Появление целого ряда фольклорных сборников, отражающих карельскую устнопоэтическую традицию на русском языке, также было сопряжено с политическими процессами в Карелии. К сентябрю 1940 года кампания по активному внедрению карельского языка во все сферы жизнедеятельности была свернута [3: 75]. Ученым приходилось достаточно быстро реагировать на политические процессы, проходившие в республике.
В 1941 году В. Я. Евсеевым сверх плана были подготовлены еще два сборника: «Руны Архипа Перттунена» (на финском и русском языках) и «Сказки и песни А. Ф. Никифоровой» (научно-популярное издание). Первый сборник под названием «Избранные руны Архипа Перттунена» вышел в Петрозаводске в Государственном издательстве Карело-Финской ССР уже после войны, в 1948 году, объем – 4,7 п. л., тираж – 10 000 экземпляров31. Однако тексты в вышедшем сборнике были опубликованы только на русском языке. Рукопись сборника «Сказки и песни А. Ф. Никифоровой» так и осталась неопубликованной, как и ряд других изданий, подготовленных сотрудниками Института и не увидевших свет по причине начала войны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, период с 1930 по 1940 год был активным в отношении собирания карельских рун: исследователи Института активно выезжали в различные районы Карелии и записывали сохранившийся материал. Кроме того, велась активная работа со сказителями, итогом этой коммуникации являются новины на советскую тематику. Впоследствии лучшие образцы текстов были опубликованы на страницах небольших изданий. Всего за указанный период вышло в свет пять небольших публикаций. Наработки В. Я. Евсеева легли в основу академического издания «Карельские эпические песни», вышедшего в 1950 году32, и двухтомника «Карело-финский народный эпос». Основными недостатками сборников 1939 года было отсутствие переводов и классификации материала, а также публикация текстов на основе русской графики письма, что, несомненно, уменьшало круг потенциальных пользователей. В сборниках 1940 года, напротив, отсутствовали оригинальные тексты, что, несомненно, практически сразу же уменьшало ценность подобного рода изданий. Языковые предпочтения определялись процессами, проходившими в то время в республике: в августе 1937 года в Петрозаводске состоялась республиканская лингвистическая конференция, на которой было принято решение о создании единого литературного языка для всего карельского населения на основе русского алфавита [4: 56–57]. Вслед за этим постановлением в стенах Института начинаются публикации фольклорных материалов на карельском языке. Позже, с осени 1940 года, после завершения Зимней войны кампания по продвижению карельского языка была свернута, и начался период «финнизации» [3: 75]. Тексты на карельском языке публиковали в меньшем количестве. Еще один существенный недостаток большинства первых сборников – это перевод текстов, который часто был литературным. Подобная подача фольклорного материала еще больше отдаляла публикации от оригинальных источников. Однако работа над первыми сборниками позволила молодым сотрудникам Института накопить определенный опыт и создать основу для будущих добротных академических изданий.
Список литературы К истории публикации карельских рун
- Иванова Л. И. Григорий Харитонович Богданов - общественно-политический деятель и первый северно-карельский собиратель и исследователь народной культуры и языка // Краеведческие чтения: Материалы XI научной конференции, Петрозаводск, 16-17 февраля 2017 года. Петрозаводск, 2017. С. 279-297.
- Марковская Е. В. В. П. Гудков: возрождение музыкального инструмента кантеле и создание ансамбля "Кантеле" в Карелии в 1930-е гг. // Седьмые международные Шёгреновские чтения, Санкт-Петербург, 02-04 марта 2015 года. СПб.: Европейский Дом, 2016. С. 395-401.
- Нагурная С. В. Карельская письменность // Народы Карелии: Историко-этнографические очерки. Петрозаводск: Периодика, 2019. С. 65-77.
- Филимончик С. Н. Развитие науки в Советской Карелии в 1920-1930-е гг. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2014. 76 с.
- Siikala A.-L. Itämerensuomalaisten mytologia. Helsinki: SKST, 2012. 536 s.