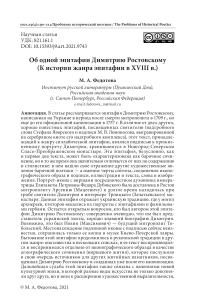К истории жанра эпитафии в XVIII в. (об одной эпитафии Димитрию Ростовскому)
Автор: Федотова Марина Анатольевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается эпитафия Димитрию Ростовскому, написанная на Украине в период после смерти митрополита в 1709 г., но еще до его официальной канонизации в 1757 г. В отличие от двух других, хорошо известных эпитафий, посвященных святителю (надгробного слова Стефана Яворского и надписи М. В. Ломоносова, выгравированной на серебряном киоте его надгробного комплекса), этот текст, принадлежащий к жанру силлабической эпитафии, являлся подписью к прижизненному портрету Димитрия, хранившемуся в Новгород-Северском Спасо-Преображенском монастыре. Эта эпитафия, безусловно, как и первые два текста, может быть охарактеризована как барочное сочинение, но в то же время она значительно отличается от них по содержанию и стилистике: в нем нашли свое отражение другие художественные явления барочной поэтики - а именно: черты синтеза, соединения иконографического образа и подписи, иллюстрации и текста, слова и изображения. Портрет-икона с виршами посредничеством духовника императрицы Елизаветы Петровны Федора Дубянского была доставлена в Ростов митрополиту Арсению (Мацеевичу) и долгое время находилась при гробе святителя Димитрия в интерьере Троицкого (Зачатьевского) монастыря. Данная эпитафия отражает украинскую традицию, где у могил архиереев, ктиторов вешались их портреты с эпитафиями и фамильными гербами. Остается открытым вопросом, кто был автором этой эпитафии Димитрию Ростовскому: совершенно очевидно, что им был представитель украинской элиты, хорошо знавший биографию Димитрия. Возможно, это был Иоанн (Максимович) - будущий митрополит Тобольский. Местонахождение подлинной иконы с подписью сейчас неизвестно, сохранилась только ее копия в музее Киево-Печерской лавры. Бытование этой эпитафии продолжилось в рукописной традиции в другом жанре: она известна в нескольких списках, и ее текст воспроизводился и воспринимался отдельно от иконографического образца в качестве агиографического сочинения (виршевого жития), которое послужило в свою очередь источником для других житийных памятников, посвященных Димитрию Ростовскому и созданных уже после его канонизации. Дальнейшая судьба этой эпитафии также связана с явлениями новой культурной эпохи, в которой разные виды искусства не только дополняли друг друга, но и вели к расширению художественной выразительности, к созданию, взаимодействию и взаимозаменяемости новых художественных форм, эволюции жанровой природы, что, безусловно, важно при изучении поэтики жанров XVIII в.
Эпитафия, стиль барокко, эволюция жанров, иконография, агиография, проблемы атрибуция, источниковедение, канонизация, димитрий ростовский, иоанн максимович
Короткий адрес: https://sciup.org/147236181
IDR: 147236181 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.15393/j9.art.2021.9743
Текст научной статьи К истории жанра эпитафии в XVIII в. (об одной эпитафии Димитрию Ростовскому)
Х орошо известны и изучены два стихотворных текста, посвященных Димитрию Ростовскому и относящихся к жанру эпитафии, — это надпись на серебряном киоте с портретом кисти П. Ротари [Мельник, 2008: 73], атрибутируемая М. В. Ломоносову, и написанное силлабикой надгробное слово Стефана Яворского «Стихи памяти смертной, всякому нелестной», произнесенное им во время погребения ростовского святителя. Оба сочинения, без сомнения, могут быть отнесены к стилю барокко, входящему в нач. — сер. XVIII в. в новую фазу своего развития, сопряженного с петровскими преобразованиями. Так, богословское содержание барочных проповедей Стефана Яворского, осмысляющих не только нравственные, но и гражданские ценности, в последнее время все чаще рассматривается в свете «имперских амбиций России» [Киселева: 1], а риторическая «громкость» стихов М. В. Ломоносова, все еще отвечающая устремлениям Петровской эпохи, соотносится с «общей традицией метафорического стиля, раскрывшегося в петровском барокко» [Морозов: 34].
Эпитафия, написанная Стефаном Яворским в 1709 г.1, как справедливо заметила Л. Б. Сукина, с одной стороны, описывает конкретное действо, участниками которого были слушатели и читатели текста, с другой — является наставлением к читателю, призывом к просвещению в вере, характерным для латинизированного богомыслия как Стефана Яворского, так и Димитрия Ростовского [Сукина]. Деление данного текста на две части (одна — с ярко выраженным религиозно-философским началом, вторая — с описанием конкретного события) привело к тому, что в одной из рукописей части эпитафии приписываются разным авторам: первая часть атрибутируется самому Димитрию Ростовскому, а вторая — Стефану Яворскому. Запись перед первой частью стиха (нач. «Взирай с прилежанием, тленны человече…») гласит: «Стихи того ж Димитрия митрополита, ростовскаго чудотворца, на паметь смертную сочиненныя и над гробом его поставленныя, яже всякому потребны благочестивому читателю»; запись перед второй частью стиха (нач.: «Преселила есть ныне пастыря крепчайша…») свидетельствует: «Стихи, приложенные к вышеозначенным стихам преосвященным Стефаном, митрополитом резанским и муромским, бывши при погребении приснаго своего любителя и от всея души своея к нему ревнителя Димитрия митрополита, ростовскаго чудотворца»2. Атрибуция Димитрию Ростовскому данного текста в целом вполне закономерна, так как в творчестве Димитрия характерные для барочной эстетики сочинения-медитации есть: укажем хотя бы на «Краткое рассуждение о смерти», или «Слово Димитрия Ростовского, сочиненное в некую окянства своего пользу» (нач.: «Вем восхождение мое на исхождение, житие на сокращение…»).
Для эпитафии, как ни для какого другого жанра религиозно-философской лирики, характерны медитации на темы ничтожности земного существования, смерти, рассуждения о Судном дне, загробной судьбе человека. Однако в эпитафии Стефана Яворского доминирует не трагическая тема, а дидактико-моралистическое начало, это, прежде всего, учительное слово, проповедь благочестия, богомысленное размышление. Еще более ярко выраженный призыв к «богомысленному размышлению» читается в стихотворной строфе, авторство которой приписывается М. В. Ломоносову:
«О, вы, что Божество в пределах чтите тесных, Подобие Его мня быть в частях телесных!
Вперите в мысль, чему Святитель сей учил, Что ныне вам гласит от лика горних сил: “На милость Вышняго, на истину склонитесь, И к матери своей вы церькви примиритесь!”»3.
Эти строки являются заключительным аккордом эпитафии-надписи, выгравированной на серебряном киоте:
«Всемогущий и непостижный Бог чудными искони делами явил святую свою великолепную славу и во дни наши: в благословенное государствование благочестивейшия, самодержав-нейшия, великия государыни императрицы Елисаветы Петровны, самодержицы всероссийския, новыми чудотворениями в России просиявшаго, здесь почивающаго святаго мужа, пре-освященнейшаго митрополита Димитрия Ростовскаго и Ярос-лавскаго, отдавшего Божие Богови верою, кротостию, воздержанием, учением, трудолюбием; цесарево цесареви ревностию и терпением, поборствуя Петру Великому против суемудренна-го раскола.
В Богоспасаемом граде Киеве родился сей житель небеснаго Иерусалима около 1650 года4. Ангельский образ принял 18-ти лет. На святительский престол возведен генваря 4 дня 1702 года. Пас церковь Божию 7 лет 9 месяцей 26 дней. Жив 60 лет, в вечный покой переселился 1709 года октября 28 дня. Написав жития святых, сам в лик оных вписан быть удостоился в лето 1757 апреля 9 дня»5.
Поэтическая строфа М. В. Ломоносова, посвященная Димитрию Ростовскому, по структуре и содержанию близка к одическому жанру, одической форме, к которой поэт прибегал, когда говорил и о значении науки и просвещения, и о величии явлений природы, и о предметах религиозных. В «посвящении Димитрию», высоко оценив в надписи «учение» и «трудолюбие» святителя, М. В. Ломоносов остается верен своим ранее выработанным принципам: в полных религиозного чувства строках, в которых читается критика старообрядческого учения («О, вы, что Божество в пределах чтите тесных, / Подобие Его мня быть в частях телесных»), содержится и авторский призыв-монолог об устремленности человеческого сознания к познанию и истине.
Кроме этих двух эпитафий, существует еще одна эпитафия, адресованная Димитрию Ростовскому. Она, безусловно, как и первые два текста, может быть охарактеризована как барочное сочинение, но в то же время значительно отличается от них по содержанию и стилистике.
Об истории ее написания нам известно следующее.
1 декабря 1757 г. духовник императрицы Елизаветы Петровны Федор Дубянский6 прислал в Ростов митрополиту Арсению (Мацеевичу) портрет-икону7 Димитрия Ростовского, сопроводив ее письмом:
«Преосвященнѣйший Владыко, мнѣ премного милостивый отец и Архипастырь!
По милостивому Вашего Преосвященства писанию с присланного из Новгорода Сѣверскаго от Преосвященнаго Арсения8 образа, иже во святых отца нашего Димитрия, митрополита Ростовского, новоявленного чудотворца поясной образ списан, которой, також и подписанныя под тѣм настоящим образом стихи, на первой случай к Вашему Преосвященству при сем в нарочно здѣланном ящикѣ посылаю, а впредь можно доложить Ея Императорскому Величеству, чтоб писать подрядить искусного мастера с настоящаго образа точно и во всю мѣру9.
В прочем, поручая себя Вашего Преосвященства неотмѣнной отеческой милости, Архипастырскому благословению и богоугодным святительским молитвам, с моим вседолжным почтением пребуду Вашего Преосвященства, мнѣ премного милости-ваго отца и Архипастыря, всѣх благ усердний желатель и покорнейший слуга духовник протоиерей Федор Дубянский .
Декабря 1 дня 1757 года. С.-П. бург»10.
Этому письму и отправке в Ростов иконописного образа Димитрия Ростовского предшествовала переписка императрицы Елизаветы с Арсением (Могилянским). Так, в августе 1757 г., сразу после канонизации Димитрия, Елизавета Петровна писала Арсению (Могилянскому) в Новогород-Северский:
«Преосвященный владыко, уведомились мы, в том монастыре, где Ваше Преосвященство обретаетесь, имеется изображение персоны святаго Димитрия митрополита, новоявленнаго ростовского чудотворца, списанное, когда оный святый Димитрий в том монастыре еще архимандритом находился»11.
В ответ Арсений (Могилянский) писал:
«Вашего Императорскаго Величества на высочайший указ, повелевающий мне, нижайшему, изображение персоны свята-го Димитрия митрополита, новоявленнаго ростовскаго чудотворца, списанное, когда оный святий Димитрий в здешнем монастыре еще архимандритом находился, прислать к Вашему
Императорскому Величеству, раболепнейше доношу: что изображение персоны онаго святаго Димитрия митрополита, какое было в здешнем монастыре, по письму Вашего Императорскаго Величества духовника, присланному ко мне прошлого июля 23 дня, отправлено от мене ко двору Вашего Императорскаго Величества к нему, духовнику, того ж июля 26 дня. Вашего Им-ператорскаго Величества всенижайший раб и богомолец смиренный Арсений архиепископ 1757 года августа 15 дня из Спа-ского монастыря Новгородка Северскаго»12.
Сам портрет нам обнаружить не удалось, но сохранился список с этого образа, который в настоящее время хранится в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике (Киево-Печерской лавре, КПЛ-Ж-205). Это «образ конца XVIII — нач. XIX в. на доске, сравнительно небольшого размера», дополненный накладной серебряной митрой, в нем «наличествуют все детали первоначального портрета», на нем изображен герб, но самое главное имеются вирши, повествующие о жизни Димитрия Ростовского [Зеленина, 2007: 25; Зеленина, 2008: 405]13.
Где стоял этот портрет-образ Димитрия с виршами, присланный Федором Дубянским, в каком месте он украшал надгробие, неизвестно14. С самого начала развития надгробного комплекса там находилось не одно изображение святителя Димитрия15. Трудно отождествить этот образ с каким-либо портретом или иконой, стоящими при гробе в интерьере Троицкого (Зачатьевского) монастыря. Опись собора 1757 г. его еще не отражает, хотя А. Г. Мельник, обнаруживший эту опись, пишет, что « поверх наружной гробницы (курсив наш. — М. Ф .) располагалась “картина святителя Димитрия, митрополита Ростовскаго, писанная на холсте”» [Мельник, 2008: 60], а в 1760-е гг. в надгробный комплекс входил уже «необыкновенно монументальный, 6 аршин в высоту и 3,25 аршина в ширину (4,26×2,31 м), серебряный киот, в который был вставлен образ Димитрия “на полотне”, кисти известного итальянского художника П. Ротари» [Мельник, 2008: 62]16. Ни один из этих «образов» не соотносится с «живописным художественным изображением», присланным Федором Дубянским, но свидетельства того, что этот портрет стоял у гроба святителя Димитрия имеются. Во-первых, в одной из рукописей
(речь о них будет далее), в которой сохранился список виршей с портрета, сказано: «Подпись на образе святителя Димитрия, которой стоит у гроба болшой» (курсив наш. — М. Ф .)17. Во-вторых, об этом образе свидетельствует одно из чудес Димитрия Ростовского о крещении абыза Кушлука Танчураева (Стефана Алексеева сына Корнильева), в нем, в частности, говорится:
«А как повидѣл присланный из Санкт-Петербурга в Ростов к его архипастырству Святѣйшаго Правительствующаго Синода члену преосвященнѣйшему Арсению, митрополиту Ростовскому и Ярославскому, нынѣшняго году в сентябре мѣсяце ея им-ператорскаго величества от духовника отца протоиерея Феодора Яковлевича Дубянскаго живописным художеством изображенный, в архиерейском одѣянии сущей онаго святителя Христова Димитрия образ, списанный с написаннаго еще при жизни того святителя, то воистинну засвидѣтельствовал он, Стефан, яко таков бѣ лицем точно явивыйся ему в монашеском одѣянии Димитрий Ростовский»18.
Главной особенностью этого образа являются вирши, писанные, как мы полагаем, из-за своего объема на нижнем поле иконы.
Стихи в жанре подписи для иконы (гравюры) — явление, достаточно распространенное в русской поэзии XVII–XVIII вв. (их писали Симеон Полоцкий, Карион Истомин, Мардарий Хоныков) и в полной мере соотносимое с эстетикой и поэтикой барокко. В Петровскую эпоху, когда была создана наша эпитафия, жанр надписи культивировался особо: стихотворные подписи делались к портретам, иконам, предметам прикладного искусства, архитектурным сооружениям.
Для икон, портретов, гравюр с изображением Димитрия Ростовского также характерны подписи, но заметим, что в основном словесное дополнение к иконам Димитрия Ростовского составляют тропарь, кондак, молитва святому, редким примером является краткий биографический текст или Духовная митрополита19.
Из стихотворных подписей можно привести следующие20.
Вирши читаются на гравированном листе из собрания графа А. В. Олсуфьева (РНБ) [Зеленина, 2008: 403] и на эстампе работы Филиппа Лебедева из собрания Церковно-археологического музея Московской духовной академии [Зеленина, 2006: 437]: «Первосвященник се! Святый изображен, / что Духом Божиим измлада вдохновен…».
Стихотворные строки читаются и под одной из гравюр, выделенных Д. А. Ровинским: «Мы грѣшни к рацѣ твоей притекаем / И с радостию твои мощи лобызаем»21.
Особо следует выделить вирши под гравированными портретами, имеющимися в рукописях. Например: «То пастырь добр и бодр города Ростова, / Муж силен в проповеди еван-гельска слова. / Вот его дрожайший труд первых тысящ лѣта. / Тут нравам учение: зрите, чада, свѣта»22; или «Образ мужа премудра и свято поживша, / Димитрия, житиям святых по-служивша, / Тѣх жития списуя, премудрый явися, / Тѣм ревнуя, сам свят быти сподобися»23.
Стихотворный текст на портрете-образе, присланном Федором Дубянским, отличается от приведенных выше виршей прежде всего своим объемом: надпись состоит из 52 строк с прозаическим заключением. Вирши написаны неравносложной силлабикой — от 12 до 15 слогов в строке, со свободным ударением (нач.: «Хотяй архиереа сего разум знати, / Жизнь, труды, изволь святых житиа читати…»)24.
Эти вирши являются не чем иным, как стихотворной эпитафией, расцвет которой в России приходится на сер. XVIII — нач. XIX в. [Николаев, Царькова: 7–8], [Авдеев, 2020: 372–410].
Эпитафия на иконе-портрете Димитрия Ростовского была написана в период между произнесением похвального слова Стефаном Яворским и созданием надписи М. В. Ломоносовым. Портрет Димитрия Ростовского с виршами был прислан с Украины, автор вирш хорошо знал биографию ростовского митрополита — дату смерти, период служения в Сибири и Ростове, место захоронения и т. д. Однако в стихах ничего не сказано о чудесах от мощей ростовского митрополита, Димитрий ни разу не назван в них святым, а потому этот текст был создан еще до канонизации Димитрия Ростовского.
Некоторые исследователи приписывают авторство стихов на портрете, присланном в Ростов, духовнику императрицы Елизаветы Петровны Федору Дубянскому [Зеленина, 2007: 25].
Но Федор Дубянский сам сообщил в письме Арсению (Маце-евичу), что он получил из Новгорода Северского от Арсения (Могилянского) портрет с уже «подписанныя под тѣм настоящим образом» стихами25, а значит, к тексту этих вирш Федор Дубянский отношения не имеет.
Кто мог быть автором этих стихов? Вероятно, это был церковный деятель, хорошо знавший Димитрия Ростовского еще на Украине, а также литератор, искусный в сложении силлабических стихов. Безусловно, среди духовенства Украины, переживавшей в XVII — начале XVIII в. культурный подъем, такие претенденты могут быть найдены. Но возможно наиболее подходящей фигурой для этих стихов является Иоанн (Максимович), будущий митрополит Тобольский26. Димитрий Ростовский и Иоанн (Максимович) были хорошо знакомы. 16 января 1697 г. Иоанн был хиротонисан во епископа Черниговского с возведением в сан архиепископа. До этого времени Иоанн (Максимович) возглавлял Черниговский Елецкий Успенский монастырь, а после него (с 20 июня 1699 г.) архимандритом монастыря стал Димитрий Ростовский27. Иоанн (Максимович) был одним из самых известных украинских авторов поэтических сочинений, написанных силлабикой, его перу принадлежат: «Алфавит собранный, рифмами сложенный от святых писаний, из древних речений», «Зерцало от Писания Божественнаго» («Нравоучительное зерцало»), «Богородице Дево»28, «Молитва “Отче наш”, на седмь бого-мыслий расположенная», «Осмь блаженств евангельских», «Есть путник из Чернигова в Сибирь» и другие виршевые труды [Бусыгин, Э. П. Б.: 223–227]. В 1709 г., когда умер Димитрий Ростовский, Иоанн (Максимович) жил на Украине и оставался Черниговским архиепископом до 1711 г., т. е. до назначения на Тобольскую кафедру, и, конечно, он мог быть автором вирш на иконе Димитрия Ростовского. Но это предположение является только гипотезой, для доказательства которой требуются серьезные источниковедческие данные.
Эпитафия, написанная на портрете Димитрия Ростовского, безусловно, относится к украинской традиции, где у могил архиереев, ктиторов вешались их портреты с эпитафиями и фамильными гербами [Таирова-Яковлева: 172]29. Примером этому служит портрет Феодосия Углицкого, архиепископа Черниговского и Новгород-Северского (ум. в 1696 г.), в нижней части которого имеется эпитафия, написанная все тем же Иоанном (Максимовичем) [Скосырев: 15]. (Напомним, что и портрет Димитрия был передан из Новгорода Северского.) В Московской Руси наиболее показательными эпитафиями такого типа являются эпитафии холмогорским и важским архиепископам — Афанасию (Любимову-Творогову, ум. 1702 г.), Рафаилу (Краснопольскому, ум. в 1711 г.), Варнаве (Волатков-скому, ум. в 1730 г.), Герману (Копцевичу, ум. в 1735 г.) и Аарону (Еропкину, ум. в 1738 г.): стихи написаны под надгробными портретами архиереев на северной стене Спасо-Преображенского собора Холмогор [Авдеев, 2017: 44, 49–54].
Это явление, без сомнения, отражает новую эстетику — эстетику барокко, которая «культивировала идею синтеза искусств», стихи жили в «атмосфере комплексной художественности», входили «в состав драматургических и музыкальных жанров», объединялись «с компонентами изобразительного искусства» [Сазонова: 228], что наиболее ярко отражено в разноплановой поэзии Симеона Полоцкого. В представленном выше «художественном комплексе» — стихотворной эпитафии, подписанной под портретом Димитрия Ростовского, конечно, не следует искать отклика и «ориентации на требования российского абсолютизма» [Робинсон: 20] петровского барокко, что можно обнаружить, как отмечалось выше, в двух других эпитафиях (Стефана Яворского и М. В. Ломоносова), но, безусловно, и в этом ансамбле (портрет-эпитафия) нашли свое выражение художественные явления барочного стиля: на уровне синтеза, соединения иконографического образа и подписи, иллюстрации и текста, слова и изображения.
Кроме того, дальнейшая судьба этой эпитафии в еще большей степени связана с явлениями новой культурной эпохи, в которой разные виды искусства не только дополняли друг друга, но и вели к расширению художественной выразительности, к созданию новых форм [Сазонова: 229–362], и не только к их взаимодействию, но и к их взаимозаменяемости, что важно для изучения поэтики жанров XVIII в.
Как уже отмечалось, подлинный портрет с подписью, не сохранился, но нам известно три списка этих виршей: Ростовский музей-заповедник. Р-828. Л. 221–221 об. [Круминг]; ОР РНБ. Собр. А. А. Титова. № 2519. Л. 7–8 об.; Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского. Ф. 312 (Соф.). № 250. Л. 2–3 [Петров: 84]. Текст во всех трех списках стабилен и не имеет разночтений.
Таким образом, спустя некоторое время «иконный» поэтический текст получил самостоятельную рукописную традицию, воспроизводился и воспринимался отдельно от иконографического образца. Это был текст, из которого черпались сведения о жизни святителя Димитрия Ростовского. Конечно, в эпитафии, посвященной Димитрию, есть и «диалоговое» начало («Хотяй архиереа сего разум знати, / Жизнь, труды, изволь святых житиа читати…»), и общее прославление архиерея с призывом сохранить память о нем, но в ней также излагаются и основные этапы его биографии: пострижение в 18 лет («Осмьнадесятолѣтен бысть мних имѣ дѣло…»), служение на Украине (перечисляются все монастыри, где он был игуменом: «За труды бысть игумен в многих обителех: / В Свя-то-Спаской в Максаках, потом во Обмочевской / И в КиевоПечерской, и в Петропавловской, / В Глуховской, в Черниговѣ, потом Богомати / В Елецком главу его изволи вѣнчати…»), отмечается краткий сибирский период, избрание на ростовскую кафедру («В год сибирску, ростовску прави паству дану / Седмь год без двох мѣсяцей бодро и трезвенно…»), указывается точная дата смерти Димитрия («Преставись от жизни в день пятковый рано, / От Рождества Христова в год семьсот девятый / Октовриа двадесят осмаго дня взятый…»), место погребения («В напрестолном Ростовѣ градѣ преставися, / В Иакова святаго храмѣ положися») и т. д.30 Таким образом, несмотря на наличие всех элементов жанра барочной силлабической эпитафии, данный текст можно назвать и своеобразным виршевым житием, агиографическим памятником, посвященным Димитрию Ростовскому. Такая интеграция вполне характерна для барочной культуры, в которой даже в храмовом пространстве, во время церковной службы могли исполняться, например, панегирические декламации [Сазонова: 335–340]: Димитрий Ростовский и сам был автором двух таких декламаций — «На Воскресение Христово», «На погребение Христово плач», входящих в состав храмового действа [Жигулин].
Близость к житийному канону и агиографической топике А. Г. Авдеев отмечал уже в двух эпитафиях патриарху Никону, написанных архимандритом Германом [Авдеев, 2017: 42]. Житийная топика присутствует и в эпитафии Димитрию Ростовскому, в частности, например, он сравнивается со святыми — «як <…> святый винограда дѣлатель Христова», а также именуется «Христовым воином»31.
Нужно признать, что природа этих текстов совершенно иная, чем у виршевых житий кон. XVII — нач. XVIII в., которые, как справедливо отметила Е. А. Рыжова, остаются «редким явлением, и на сегодняшний день известны единичные примеры существования житий-виршей» [Рыжова: 195]32. Е. А. Рыжовой рассмотрены виршевые редакции житий севернорусских святых Антония Сийского, Никодима Кожеозерского, Логина Коряжемского33, эти редакции вторичны, они созданы на основе уже существующих агиографических текстов. Так, источником для Виршевой редакции Жития Антония Сийского могло быть Житие «любой редакции, созданной к этому времени, в том числе Краткой и Проложной»; «основным источником Виршевой редакции Жития Никодима Кожеозерского является Пространная редакция памятника»; главным источником при создании стихотворной «Истории» о святом Логгине Коряжемском было Житие («Сказание») Логгина Коряжемского [Рыжова: 198, 213, 219].
Анализируемая нами эпитафия (как виршевое житие Димитрия Ростовского) была создана тогда, когда основные агиографические памятники, посвященные ему, еще не были написаны: не было Жития, сочиненного Арсением (Мацееви-чем) в 1756–1757 гг., не было Краткого жития, написанного в 1760-е гг. и автором которого мог быть игумен Спасо-Яковлевского монастыря Лука, не было Синодального жития, опубликованного в 1786 г. [Федотова, 2009b], т. е. это был один из первых текстов, одно из первых агиографических сочинений, посвященных святителю Димитрию. Кроме того, это был текст, в котором обнаруживаются как агиографические атрибуты, так и черты нового жанра, характерного для литературы Нового времени — жанра биографии. При этом в дальнейшем факты биографии из этого текста стали источником при создании других агиографических сочинений, посвященных Димитрию — Краткого жития Димитрия Ростовского и Жития, написанного Арсением (Мацеевичем), последний в своем агиографическом сочинении использовал две эпитафии: нашу эпитафию неизвестного автора в качестве источника биографических сведений о Димитрии и эпитафию, написанную Стефаном Яворским, в качестве похвального слова святителю Димитрию Ростовскому.
В заключение следует отметить, что данная эпитафия, посвященная Димитрию Ростовскому, весьма показательна как образец объединения, взаимодействия разных жанров и, в конечном итоге, как пример эволюции жанровой природы самого произведения. Кроме того, «трансформации», произошедшие в литературной истории этого текста — от эпитафии-подписи к портрету святителя Димитрия до самостоятельного «биографического» текста, характерны для всего корпуса агиографических памятников, посвященных ростовскому митрополиту. Эти тексты, возможно, одни из первых в русской литературе, которые, будучи написанными по законам средневековой литературы, имеют явные черты литературы Нового времени. Авторы житийных текстов святителю Димитрию еще следуют агиографическому канону, пишут по законам традиционного жанра, но их сочинения уже наполнены биографическими сведениями и тем самым отличаются от древнерусских текстов: это не только описание добродетельной жизни святого, но и биография известного писателя.
Список литературы К истории жанра эпитафии в XVIII в. (об одной эпитафии Димитрию Ростовскому)
- Авдеев А. Г. Идеальная стихотворная эпитафия для идеального архипастыря: из века XVII в век XVIII // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История, История Русской Православной Церкви. 2017. Вып. 74. С. 41-62.
- Авдеев А. Г. Памятники лапидарной эпиграфики как источник по истории и культуре Московской Руси: дис. ... д-ра. истор. наук. М., 2020. 2216 с.
- Анисимов Е. В. Федор Яковлевич Дубянский // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2007. Т. 16. С. 317-319.
- Братчикова Е. К. Парсуна «Димитрий, митрополит Ростовский и Ярославский» // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Дмитрий Буланин, 1993. Т. 46. С. 436-440.
- Бусыгин В. В. (прот. Борис Пивоваров), Э. П. Б. Иоанн (Максимович Иван) // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2010. Т. 23. С. 219-230.
- Жигулин Е. В. Источниковедение театра святителя Димитрия Ростовского // История и культура Ростовской земли. 1993. Ростов, 1994. С. 139-145.
- Зарицкая О. И. Портрет святителя Димитрия Ростовского из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника // История и культура Ростовской земли. 2011. Ростов, 2012. С. 148-154.
- Звездина Ю. Н. Некоторые особенности иконографии старообрядческого лубка XIX века // Христианство и Север. М.: Демиург-арт, 2002. С. 197-203.
- Зеленина Я. Э. Житие и чудеса святителя Димитрия в иконописи и печатной графике // Ростовский Архиерейский дом и русская художественная культура второй половины XVII века. Ростов: Рыбинский дом печати, 2006. С. 318-337, 437-443.
- Зеленина Я. Э. Димитрий Ростовский. Иконография // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2007. Т. 15. С. 23-30.
- Зеленина Я. Э. Иконография святителя Димитрия Ростовского: взаи-мовляиние живописи, иконописи и графики // Святитель Димитрий, митрополит Ростовский: исследования и материалы. Ростов: Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, 2008. С. 399-418.
- Карбасова Т. Б. Кирилл Новоезерский: история почитания. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2011. 559 с.
- Киселева М. С. Священная и гражданская история в контексте книжной барочной проповеди: к вопросу об истоках исторического знания в России // VOX: Философский журнал. 2014. № 17. С. 1-24 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/svyaschennaya-i-grazhdanskaya-istoriya-v-kontekste-knizhnoy-barochnoy-propovedi-k-voprosu-ob-istokah-istoricheskogo-znaniya-v-rossii/viewer (21.06.2021).
- Круминг А. А. Сборник произведений святого Димитрия Ростовского (рукопись Ростовского музея № 828) // История и культура Ростовской земли. 1992. Ростов, 1993. С. 69-91.
- Люстров М. Ю. Вирши в «Службе и житии Иоанна Воина» Кариона Истомина // Мир житий: сб. материалов конф. (Москва, 35 октября 2001 г.). М.: РФК «Имидж-Лаб», 2002. С. 271-278.
- Малков Ю. Портрет Димитрия Ростовского из собрания Троице-Сер-гиевой лавры // Русское искусство XVIII в.: материалы и исследования. М.: Наука, 1973. С. 130-139.
- Марголина И. Е. Святитель Димитрий в истории Кирилловского монастыря // Святитель Димитрий, митрополит Ростовский: исследования и материалы. Ростов: Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, 2008. С. 203-218.
- Мельник А. Г. Икона Димитрия Ростовского с 36 клеймами посмертных чудес // Учемский сборник. Мышкин, 2000. Вып. 2: материалы Второй научной конференции «На земле святого Кассиана». С. 35-44.
- Мельник А. Г. История интерьера Троицкого (Зачатьевского) собора Ростовского Яковлевского монастыря в XVIII — начале XX веков // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 2008. Вып. 17. С. 57-98.
- Морозов А. А. Михаил Васильевич Ломоносов // М. В. Ломоносов. Избранные произведения. Л.: Советский писатель, 1986. С. 5-58. (Библиотека поэта; Большая серия.)
- Мошина Т. А. «Взирай с прилежанием, тленный человече» Стефана Яворского: к истории создания, географии и форм бытования // Мир старообрядчества. М.: Росспэн, 1998. Вып. 4: Живые традиции: результаты и перспективы комплексных исследований русского старообрядчества: мат-лы международной научн. конференции. С. 445-452.
- Николаев С. И. Литературная культура Петровской эпохи. СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. 152 с.
- Николаев С., Царькова Т. Три века русской эпитафии // Русская стихотворная эпитафия / вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. С. И. Николаева и Т. С. Царьковой. СПб.: Академический проект, 1998. С. 5-44.
- Новикова О. Л. К изучению Стишного пролога середины XV века из Кирилло-Белозерского монастыря // Вестник «Альянс-Архео». М.; СПб.: Альянс-Архео, 2015. Вып. 12. С. 3-28.
- Пархоменко Н. В. Портреты свт. Димитрия Ростовского и его отца Саввы Туптало в собрании Национального художественного музея Украины // Святитель Димитрий, митрополит Ростовский: исследования и материалы. Ростов: Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, 2008. С. 387-394.
- Петров Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве. М.: Университетская типография, 1904. Вып. 3: Библиотека Киево-Софийского собора. IV, 308, LVШ с.
- Робинсон А. Н. Борьба идей в русской литературе XVII века. М.: Наука, 1974. 407 с.
- Рыжова Е. А. Виршевые редакции севернорусских житий // Русская агиография. Исследования. Публикации. Полемика. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. С. 195-235.
- Сазонова Л. И. Литературная культура России. Раннее Новое время. М.: Языки славянских культур, 2006. 896 с.
- Скосырев Н., свящ. Очерк жития митрополита Тобольского и всея Сибири Иоанна Максимовича (1651-1715). М.: Типо-лит. Т-ва И. Н. Куш-нерев и К°, 1892. 76 с.
- Сукина Л. Б. «Эпитафия Димитрию Ростовскому» Стефана Яворского в контексте религиозной культуры переходного времени // История и культура Ростовской земли. 2004. Ростов, 2005. С. 125-133.
- Таирова-Яковлева Т. Г. Повседневная жизнь, досуг и традиции казацкой элиты украинского гетманства. СПб.: Алетейя, 2016. 198 с.
- Титов А. А. Святый Димитрий митрополит Ростовский // Русский архив. М.: Лазаревский институт восточных языков, 1895. Вып. 5. С. 5-16.
- Федорова М. М. Димитрий Ростовский. Иконография в собрании Ростовского музея // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 1991. Вып. 2. С. 48-70.
- Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского: исследование и тексты. М.: Индрик, 2005. 384 с.
- Федотова М. А. Димитрий Ростовский в русской поэзии (к 300-летию со дня смерти святого) // Русская литература. СПб.: Наука, 2009. № 4. С. 72-85. (а)
- Федотова М. А. Житие святого Димитрия Ростовского (к вопросу об истории создания текста) // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2009. Т. 60. С. 150-182. (b)
- Фет А. Пролог // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л.: Наука, 1987. Вып. 1 (XI — первая половина XIV в.). С. 376-381.
- Чистякова М. В. О родстве московской и кирилло-белозерской редакций Стишного пролога // Slavistica Vilnensis. Vilnius, 2012. № 57 (2). С. 33-44.
- Чистякова М. В. О редакциях церковнославянского Пролога // Slavistica Vilnensis. Vilnius, 2013. № 58 (2). С. 35-58.
- Щеглова О. Г. О Стишном прологе и задачах его изучения // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2011. Т. 10. Вып. 9. С. 105-110.
- Адруг А. К. Живопис Чершгова друго'1 половини XVII — початку XVIII столггь. 2-е вид. Чернтв, 2013. 181 с.